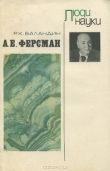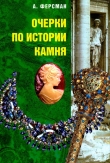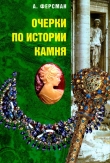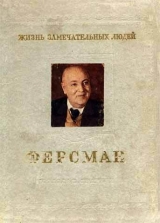
Текст книги "Ферсман"
Автор книги: Олег Писаржевский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Но спутники Ферсмана – настойчивая молодежь – первые питомцы советских вузов, убежденные в том, что знание есть оружие революции, – с нетерпением заглядывали вперед и задавались вопросом о практических результатах теоретических обобщений.
Нужно сказать, что ответы Ферсмана в то время не могли целиком удовлетворить его молодых друзей; и происходило это не потому, что его спутники были слишком нетерпеливы, а потому, что он сам еще не успел проникнуться тем огнем созидательного, творческого энтузиазма, пониманием важности выполняемой задачи для дела социалистического строительства, без которого не могли бы решить в сказочно короткие сроки свои грандиозные задачи строители Днепрогэса, Магнитогорска, Кузнецка. Тем творческим энтузиазмом, который продолжает жить в сердцах участников строек наших дней.
Но нужно отдать должное: Ферсман все же быстро оценил по достоинству, хотя и не в том масштабе, в каком она этого заслуживала, самую важную свою хибинскую находку – находку апатита.
Комариное время окончилось, и оленьи стада спустились с верхней тундры в низину, чтобы подкормиться ягелем. Молодой саами Алексей пригнал веселые оленьи стада к устью реки. Ферсман радовался, наблюдая, как маленькая собачка Алексея с поразительной ловкостью собирала оленей в кучу, не давая им разбрестись. Появление саами с оленями означало, что экспедиции удастся вывезти все собранные ею коллекции.
Без малейшего усилия Алексей набрасывал легкий аркан на рога любого оленя. Хрупкая спина животного не выдерживает большого груза, олень поднимает только два – два с половиной пуда камней. Равные ноши камней тщательно отвешивались безменом. Мешки плотно закреплялись на спине животного. Четырех оленей связывали гуськом, и каждый участник экспедиции таким образом мог сопровождать караван с грузом около 10 пудов.
Вести оленей с непривычки было нелегко. Вначале они идут очень быстро, им ничего не стоит подняться по крутому откосу или перепрыгнуть через бурный, поток; вначале скорее они ведут своего проводника, ему приходится думать лишь о том, чтобы не запутать свой караван между деревьями. Однако через два-три часа хода олени устают. Затем они уже начинают упираться, их приходится тащить. Но все-таки перевозка минералов на оленях очень нравилась Ферсману: олень идет плавно, мешки почти не шевелятся.
Осень овладевала природой. Вершины гор были уже покрыты густым снегом. На фоне темнозеленых елей выделялись желтые березы. Дрожащий, переливающийся фиолетовый свет северного сияния, озарявший дикий горный ландшафт, – последние впечатления последних дней работы на Севере в 1923 году. Им были посвящены заключительные строки книги очерков Ферсмана о научной экспедиции в Центральной Лапландии, законченной после четвертого года работы, исключительно тяжелого, но отмеченного блестящими результатами.
В бурю последняя паотия оленей подошла к полотну железной дороги. Все население крохотного поселка сбежалось смотреть на людей, проживших полтора месяца в страшных пустынных горах. Путников никто не узнавал, так они заросли, исхудали и загорели.
Уже в Петрограде, составляя цветную карту своих минералогических открытий, Ферсман и его друзья для обозначения апатитов избрали золотую звездочку. Они сделали это не потому, что предвидели ни с чем не сравнимую ценность своей находки, а лишь желая подчеркнуть крайнюю редкость этой минералогической диковинки.
В 1924 году были выпущены очерки А. Е. Ферсмана «Три года за Полярным кругом», где он отмечал «огромный интерес для удобрения» обнаруженных его экспедицией апатитовых жил. Но и в то время он не подозревал еще, какая жестокая борьба развернется вокруг этой проблемы, как много силы потребует подтверждение этого первого открытия, и – что самое главное, – он еще не вполне был готов к собственному активному участию в этой борьбе
X. К «СОРОКА ХОЛМАМ»
«Оглядываясь на пройденный человечеством путь, особенно ясно видишь, как медленно развивалось освоение пустынь на протяжении ряда тысячелетий и какая гигантская, титаническая работа проделана человеком в нашем Советском Союзе за короткий срок в четверть века».
Б. А. Федорович, «Лик пустыни»
– Сколько времени потребуется для поездки? – спросил Ферсман.
– Полтора месяца, – отвечал его друг, уговаривавший его проехаться в Среднюю Азию. Впрочем, насчет уговоров оказано слишком сильна: Ферсман сам проявлял живейший интерес к этой поездке. Однако он продолжал:
– Нет, это слишком долго. Я уже в конце мая должен быть на Севере. Нам придется уложиться в трехнедельный срок.
Этот разговор между А. Е. Ферсманом и Д. И. Щербаковым происходил в начале 1924 года.
Дмитрий Иванович Щербаков – один из пионеров поискового дела в Средней Азии, стране высочайших гор, огромных пустынь и плодородных оазисов. В первый же год своей работы с группой молодых геологов в зоне предгорий Алтайского хребта нашел многочисленные следы деятельности древних рудокопов и металлургов. Его отряды находили кремневые орудия – стрелы, скребки, каменные молотки, кучи шлака с древними очагами и глиняными трубками для дутья. Некоторые пещеры вызвали у них недоумение: неясно было, естественным путем они образовались или были созданы человеком. Щербаков хотел показать эти находки Ферсману, чтобы вместе с ним выяснить все сомнения. Но воображение Ферсмана зажигали отнюдь не мысли о древних памятниках культуры при всей их значительности. Д. И. Щербаков привез из Средней Азии результаты наблюдений над течением химических процессов в полупустынных областях под жарким солнцем юга. Именно эти рассказы Щербакова особенно заинтересовали Ферсмана. Во время беседы он несколько раз к ним возвращался и забрасывал Дмитрия Ивановича все новыми и новыми, подчас совершенно неожиданными вопросами. Он спрашивал: измерял ли Щербаков температуру глубинных слоев почвы? В какое время года в Алайской долине выпадает наибольшее количество осадков? Как велики на поверхности почвы выцветы солей?
Однажды Д. И. Щербаков оставил своего друга после такого разговора в глубокой задумчивости, а на следующий день услышал от него такую фразу:
– А знаешь, ветер в условиях субтропической пустыни – это, несомненно, огромный химический фактор.
Мысль эта могла показаться странной, потому что до сих пор ветру приписывали только механическое действие. Короче говоря, мысли Ферсмана уже были прикованы к пустыне и к тем любопытным геохимическим процессам, которые в ней протекают.
Услыхав о том, что Ферсман за три недели хочет объехать всю Фергану, Щербаков только руками развел: в то время он еще не привык к тому, чтобы Ферсман в течение одного года ухитрялся намечать – и осуществлять! – поездки в самые противоположные части страны.
Однако скоро академик поразил своих новых спутников (Щербаков возвращался в Среднюю Азию во главе целого отряда геологов) не только непостижимой широтой научных интересов и быстротой при выполнении намеченных маршрутов, но и блестящей организованностью и неутомимостью.
В поезде Ферсман быстро перезнакомился со всеми пассажирами вагона: одним успел что-нибудь рассказать, других – расспросить, а вернувшись в купе, уселся поосновательней у столика, достал свой объемистый чемодан и стал пачками извлекать из него книги.
– Ну, а теперь за дело, – заявил он. – Прежде всего наметим распорядок дня. До вечера займемся чтением книг, а вечером будем слушать доклады. Тебе начинать, – обратился он тоном, не допускающим возражений, к Щербакову. – Твой доклад по геологии района будет вводным, а затем послушаем наших спутников.
Что оставалось делать?! Разобрали книги и углубились в чтение.
Быстрее всех просматривал книги Ферсман. И не просто просматривал, а делал пометки на полях и выписки на обложках. Около него постепенно вырастала высокая стопка уже просмотренной литературы.
Временами он подходил к окну, провожая глазами медленно уплывающие поля и перелески, и вновь брался за работу.
Следующие дни шли уже по раз установившемуся распорядку. Изменение в него внесла лишь жара. Она дала себя знать после того, как, миновав серебристые оренбургские степи и Мугоджары, поезд покатил по бесконечной красноватой равнине. Свирепое солнце убивало разговоры, книги падали из рук, Только с наступлением вечерней прохлады, когда над степью лениво распластывали крылья вылетевшие на охоту беркуты, возобновлялись рассказы и расспросы.
…Целые сутки поезд тянулся вдоль мутной Сыр-Дарьи, шумевшей в камышовых плавнях.
Ночная пересадка в Ташкенте. А утром на путешественников обрушились яркие краски ферганского лета. На Севере весна только начиналась. Только что Ферсман видел желтые разливы Сакмары и Урала, пустынные и однообразные по колориту степи Казахстана, а здесь непередаваемая, густая эмалевая голубизна неба, лаковая зелень листьев, яркие цветы без запаха, пестрые наряды местных жителей.
В доме, где пришлось остановиться на ночлег, Ферсман с большим вниманием изучал узорчатые ткани. В этих произведениях народного творчества ему виделось отражение тонов полынных степей лёссового покрова, скал, нагорий и пустынь.
Ему очень хотелось попасть в пустыню.
Дальше поехали на двуколках, заранее приготовленных работниками геолого-поисковой партии.
Около узбекского селения Кува Ферсман ненадолго остановился для осмотра селитренных бугров. Во время русско-германской войны о них заходила речь в Комиссии по изучению естественных производительных сил России как о возможных источниках селитры. Дехкане обычно брали здесь землю для удобрения полей.
Возчик доставил Ферсмана и Щербакова к большой открытой пирамидальной площадке, окруженной тополями. В ее северной части высились сильно вскопанные с поверхности лёссовые бугры.
Ферсман молча похаживал по выцветам солей, выступивших наружу из-под земли. Ступни его ног оставляли большие отпечатки, легко продавливая осолоненную корку лёсса. Нестерпимо палило майское солнце.
– Да, да, – тихо сказал Ферсман, – вот они, следы потоков солнечных лучей, нагревающих почву. Испаряя влагу,солнце действует как могучий насос, заставляя почвенные рассолы стремительно подниматься к дневной поверхности. Но почему здесь образуется именно селитра?
Ответ на этот вопрос был получен после ознакомления с местностью и расспросов местных жителей.
Оказалось, что в прошлом на этом месте был громадный загон-крепость, использовавшийся как стойбище для скота. Азотистые вещества, содержавшиеся в огромных массах оставшегося здесь навоза, медленно окислялись в присутствии щелочей и образовывали селитру…
Заночевали у дороги, на поле, расцвеченном ярко-красными маками.
Щербаков так рассказывал о том, что бывало дальше во время подобных остановок:
«Наутро первым будил нас всегда Александр Евгеньевич.
– Вставайте, скорее вставайте, – раздавался где-то близко над головой его мягкий баритон, властно призывая начинать трудовой день. – Пора на работу?
Вдали в лучах утреннего солнца загорались снеговые вершины Алтайского хребта, но в долинах еще лежала глубокая тень. Александр Евгеньевич нетерпеливо готовился к пути, шагая в своем полотняном рабочем костюме, с кепкой на голове, рюкзаком на спине и геологическим молотком в руках.
– Александр Евгеньевич! – восклицали мы хором. – Куда вы торопитесь в такую рань? Ведь надо еще умыться и поесть! – Но Ферсман был неумолим, когда дело касалось осмотра рудников, суливших интересный сбор новых минералов. Пока мы приводили себя в порядок и наспех завтракали, Александр Евгеньевич все время шагал взад и вперед, поторапливая нас, и, наконец, дождавшись, быстро шел в гору. Его высокая полная фигура уже маячила в отдалении, когда последние отставшие срывались ему вдогонку, бросая недопитый чай.
Он любил бродить, окруженный ватагой своих спутников и местных работников, которые теснились около него, стремясь не пропустить интересную беседу.
Но вот Александр Евгеньевич добирался до первого штабеля руды. Тогда он немедленно садился, поджав под себя ноги или уложив их крест-накрест, и начинал перебирать куски руды. Тут же он брался за лупу, всегда висевшую у него на груди на черном шелковом шнурке. Так обычно начиналась работа на каждой новой разведке или руднике.
Потом происходил длинный тщательный осмотр рудника со спуском в шахту и ползанием по забоям. Александр Евгеньевич иногда задерживался, прося осветить ему интересное место, которое он долго и внимательно изучал. И опять мы двигались вперед. Приходилось только удивляться, как при массивности своей фигуры и большой полноте Александр Евгеньевич умудрялся пролезать в самые узкие щели или перебираться по мокрым ступеням зыбкой деревянной лестницы.
После многочасового осмотра мы все, по обыкновению, мокрые, грязные и выпачканные глиной, выбирались на поверхность. Александр Евгеньевич, тяжело дыша, отряхивался и опять бежал к штабелям руды, где оставались завернутые им образцы. Карманы его куртки были переполнены новыми образцами, а в руках он держал большие штуфы, извлеченные из глубин. Усталые и голодные спускались все вниз, где ждал нас простой, но сытный обед. А после обеда всегда начиналось самое главное.
Со стола убирались тарелки и стаканы, стол вытирали, и на нем появлялись карты, планы и образцы пород. Комната набивалась доотказа желающими участвовать в совещании и послушать заезжего знаменитого ученого. Александр Евгеньевич садился на председательское место. Мы сначала слушали доклады администрации рудника и местного геолога. После этого наступало самое интересное – слово брал Александр Евгеньевич.
– Сначала, – говорил он, – изложим и проанализируем факты, точные, проверенные, изученные в определенном порядке, затем последуют выводы.
Александр Евгеньевич начинал описывать, казалось бы, всем уже знакомые факты, иногда с тонкими деталями, которые были ему нужны для заключений. И эти факты вырастали перед слушателями стройными рядами, становясь все более значимыми и убедительными. Лилась красивая, образная речь Александра Евгеньевича.
– Ну, а теперь немного научной фантазии, – говорил он в заключение и широкими мазками художника и ученого рисовал перед аудиторией яркую картину далекого прошлого, когда сложные процессы, совершавшиеся в земной коре, приводили к образованию интересовавших нас руд. И вое становилось таким ясным и понятным! Не оставалось никаких сомнений в том, где и почему надо было открывать новые забои, в каких местах можно было ждать руду.
Доклад окончен. Александр Евгеньевич вытирает платком крупные капли нота, выступившие у него на лбу и на коротко остриженной голове. Сыплются многочисленные вопросы. Поздно вечером расходятся участники собрания по своим скромным жилищам, обмениваясь впечатлениями дня. Александр Евгеньевич опять поторапливает:
– Спать, скорее спать! Завтра мы должны рано уехать, иначе не успеем добраться до следующего рудника.
Ночь. Мы валимся на свои твердые ложа и немедленно засыпаем. А Александр Евгеньевич, сидя около керосиновой лампы, долго еще записывает в свою полевую книжку все то интересное и новое, что он заприметил за день.
Опять рано утром начинался следующий трудовой день. Мы до вечера тряслись на бричках, ночевали в придорожных чайханах, на цыновках или в конторах других рудников. Так шел день за днем. Одно яркое впечатление сменялось другим, а темпы нашей работы все нарастали и нарастали. Нам уже не хватало дня, и мы старались использовать ночное время для переездов!»
***
Сомнения относительно искусственного или естественного происхождения обнаруженной прежними экспедициями пещеры разрешились очень быстро.
Чтобы достигнуть пещер, приходилось карабкаться по крутому склону, усыпанному обломками скал. Ферсман все время внимательно всматривался в них, временами останавливался и отбивал молотком кусочки породы.
– Всюду видны признаки мощного окремнения, – сказал он. – Известняки местами совсем превращены в кремень, а сланцы пронизаны кварцевыми прожилками. Вероятно, кремнезем выносился из недр в горячих водных растворах.
В это время один из спутников Ферсмана обратил внимание на огромную глыбу, представлявшую собой угловатые обломки породы, сцементированной кварцем. В этом цементе местами выделялись кристаллики плавикового шпата и блестки рудных минералов.
Находка этой рудной брекчии – глыбы породы, состоящей из остроугольных обломков, цементированных кремнеземом и рудными минералами, – наглядно подтверждала мысль Ферсмана о том, что искатели вступили в область окремнения, процесс которого, так же как и процесс образования многих рудных минералов, представляет собой результат деятельности горячих вод. Горячие, или, как их называют геохимики, «термальные», воды обычно появляются там, где невдалеке от земной поверхности находятся внедрившиеся в толщу земной корн очаги прорвавшейся магмы.
Сравнительно скоро открылось устье одной из ближайших пещер. Внутри было темно, веяло сыростью. Зажгли свечи. Они горели ровным коптящим пламенем. Ферсман внимательно оглядел стенки пещеры.
– Вот видите, – сказал он, указывая на следы насечек, едва различимых на стенках пещеры. – Это сделано рукой человека. Здесь работали не воды-разрушители, а древние рудокопы.
Когда путешественники окончили осмотр первой пещеры и вышли на дневной свет, то вскоре в осыпях у входа они нашли обломки плохо обожженной глиняной посуды, каменные молотки, а в небольшой расщелине у подножья пещеры – ржавый железный клин, похожий на большой гвоздь.
Тонкая наблюдательность Ферсмана торжествовала.
Самой интересной для Ферсмана частью поездки было посещение прерывистой цепи черных кремнистых сланцев предгорья. В них еще в прошлом году Щербаков обнаружил признаки яркозеленого глинистого вещества, содержащего никель и марганцевые натеки. Сейчас он мог удовлетворить свое желание и порадоваться этим находкам вместе со своими друзьями!
Километрах в двух, не доезжая до скалистого хребта Воарди, перегораживавшего долину реки Исфайрам в виде высокого известнякового барьера, исследователи увидели мрачную, черную сопку, высившуюся среди темнофиолетовых песчаников и сланцев. Ее подножье окаймляли заросли цветущего барбариса. Чтобы не пропустить загадочного минерального образования, «заготовленного» Щербаковым для Ферсмана, путники раскинулись цепью и шли на расстоянии нескольких шагов друг от друга, внимательно простукивая молотком каждый камешек, каждый обломок скалы. Так медленно и сосредоточенно двигались они вперед, постепенно спускаясь в крутой овраг, отделявший кремнистые породы от более мягких глинистых сланцев.
Вдруг один из идущих впереди закричал:
– Нашел, нашел! Идите скорее ко мне!
Все бросились к нему. Ферсман вскарабкался с трудом, пыхтя и непрерывно вытирая пот со лба.
Удачливый «охотник за минералами» сидел на корточках около небольшой ниши в черной скале и старательно выколачивал оттуда кусочки породы. Это ему плохо удавалось: окала была очень твердой. От его ударов летели обломки кремня и сыпались искры.
Подойдя вплотную, Ферсман увидел на черных натечных марганцевых образованиях мелкие изумрудно-зеленые бляшки и тонкие оливково-зеленые спутанные агрегаты кристаллов. Он с любопытством припал к скале, засунул руку в трещину и, осторожно расшатывая камень за камнем, вытаскивал оттуда образцы, которые потом долго рассматривал в лупу. Внезапно он приостановил свою работу, с особой осторожностью поднес к глазам какой-то образец и воскликнул:
– Совершенно невероятно! Посмотрите – ведь это старый «окон какой-то бабочки!.. – Кокон был весь облеплен оливково-зелеными кристаллами. – Какая изумительная подвижность растворов! Сухой воздух в неприкосновенности сохраняет эти живые экспонаты природной технической лаборатории… Смотрите, здесь то же, что мы наблюдали в долине!
Он положил руку на черную гладкую поверхность скалы, обращенную к солнцу, и тут же отдернул ее – скала была раскалена.
– Почвенные растворы притекают к нагретой поверхности, – удовлетворенно заключил он. – Она действует, как тепловой насос…
«Долго еще копошились мы в этом месте, отбирая хрупкие образцы минералов, осторожно укладывая их в вату и тщательно заворачивая в бумагу, – рассказывает об этом эпизоде Д. И. Щербаков в своей книжке: «Александр Евгеньевич Ферсман и его путешествия». – Александр Евгеньевич был чрезвычайно доволен. Благодаря находке кокона, ему много удалось понять в процессе пустынного минералообразования».
На обратном пути Ферсман успел посетить действующие рудники, В задумчивости он обходил штабеля добытой руды. Подолгу стоял у отвалов пород. Их покрывали яркие синие и зеленые пшенки медных соединений. То сгущаясь в оливково-зеленые бархатистые корочки, то сплетаясь с лазоревыми и голубыми тонами водяных силикатов меди, пестрой гаммой тонов лежали перед ним многочисленные соединения железа – гидраты его окиси: то желто-золотистые охры, то яркокрасные маловодные гидраты, то буро-черные сочетания железа и марганца. Даже горный хрусталь приобретал здесь ярко красные цвета рубина, прозрачный барит делался желтым, бурым и красным.
А несколько дальше, поднявшись в горы, он находил на розовых глинистых осадках пещер красноватые иголочки аланта, – кристаллы свободной ванадиевой кислоты. И даже белые кости человеческого скелета в пещере были затянуты яркими зеленовато-желтыми листочками редкого– минерала. Геохимик с глубоким вниманием присматривался к этой картине пестрых и ярких тонов, стараясь разгадать ее. Как много рассказывали проницательному взгляду химика-геолога одни только яркие краски и сочетания тонов! Они указывали ему на то, что все соединения (находятся здесь в сильно окисленном виде, и минералы, которые предстают перед ним в этих краях, характеризуются самыми высокими степенями окисления марганца, железа, ванадия и меди. Он понимал, что этим они обязаны южному солнцу, ионизированному воздуху с его кислородом и озоном, разрядам электричества в часы тропических гроз с превращением азота в азотную кислоту. Эти соединения обязаны своим окислением и быстрому сгоранию растительности без дальнейшего ее распада…
Эти яркие краски Средней Азии учили его понимать минералы рудных жил Мексики, Центральной Африки или Мадагаскара, где также на южном солнце из сернистых руд глубинных жил на поверхности возникал пестрый ковер солей и, вместо мрачных металлических сульфидов, желтели и краснели охры железа, вольфрама, ванадия, молибдена и висмута.
И вот тогда-то среди этих рудных штабелей и отвалов на розовых скалах девонских известняков Ферсман, быть может впервые, с такой ясностью понял значение красок для минералога. А быть может, именно тогда окрепла мысль о создании книги, которая связала бы точные наблюдения и зоркий глаз с мыслью, анализом, критикой, сопоставлением и синтезом, – книги, которая на цветах минералов показала бы пример геохимического мышления. И такая книга действительно была Ферсманом создана. Но об этом позже…
***
Недолгое путешествие в Фергану только подогрело интерес Ферсмана к геохимии пустынного ландшафта. Но нужно было спешить обратно. Его ждали суровые хибинские тундры, – магнит, с неизменной силой притягивавший Ферсмана на протяжении всей его жизни.
На его неистощимую энергию – уже в качестве вице-президента – рассчитывала и Российская Академия наук, подготовлявшая в это время торжественное празднование своего двухсотлетия.
На этих празднествах, организованных с большой торжественностью, с приглашением многих иностранных гостей, Ферсману запомнилась одна речь, неожиданно, как ему казалось, а в действительности вполне закономерно отозвавшаяся на самые сокровенные его мысли.
Торжественному юбилейному заседанию Академии наук Михаил Иванович Калинин передал приветствие ЦИК и Совнаркома.
Крестьянин, питерский рабочий, любимый народом «всесоюзный староста», вышел на нарядную трибуну встреченный горячими аплодисментами всего зала. Он не спешил читать приветствие. Пристально всматриваясь в ряды кресел, занятых представителями науки, обводя взглядом ложи, битком набитые корреспондентами русских и иностранных газет, стоял он перед аплодирующим залом.
Калинин должен был объявить о торжественном акте – переименовании Академии наук в Академию Всесоюзную. Он уловил напряженное ожидание зала и, отложив в сторону бумагу, содержание которой должен был огласить, обратился к сидящим перед ним академикам запросто и задушевно. И словно раздвинулись непривычные к таким речам холодные академические стены и в зале повеяло дыханием живой жизни.
– Народ не знал Академии наук, – произнес Калинин, – и она его очень немного знала да и не могла знать, ибо этому решительно воспротивилось бы самодержавие. А всякое общественное учреждение, в том числе и научное, если оно не связано с народом, не имеет в нем корней, подвергается большой опасности – хронически заболеть малокровием.
Теперь Академия наук получила возможность широкой связи с народными массами, из недр которых будут приливать новые и новые силы для развития науки.
Мы пережили революцию, каковой мир еще не видел. Революцию, в огне которой трудовые и угнетенные массы созрели до высокой степени гражданского самосознания. И теперь эти массы ставят своей задачей построить в согласовании с последними выводами обществоведения новую организацию человеческого общежития. Естественно, что в этом строительстве огромное участие должна принять общесоюзная Академия наук. И мне кажется, что ее лозунгом должно быть: «Наука – для масс, для трудового человечества».
И, словно отвечая на невысказанные раздумья какой-то части зала, Калинин продолжал:
– Не будет ли это принижением научной мысли, Fie поведет ли это к замене абстрактного мышления исключительно прикладными науками?
Ферсман даже вздрогнул слегка, услышав этот вопрос, так прямо, так резко откликавшийся на все его сомнения.
– Нет, – Калинин пристукнул рукой по кафедре, – мы не стремимся к этому, наоборот, мы ставим задачей могущественное развитие абстрактных наук и теоретических изысканий.
Мы понимаем, что абстрактнейшие, теоретические изыскания могут являться и глубоко захватывающими кровные интересы масс. Мы только хотим сказать, что гениальные открытия величайшего мудреца на необитаемом острове теряют для человечества всякую цену. Значит, говорить, что наука имеет ценность сама по себе, – неправильная мысль. Всякая новая мысль имеет постольку ценность, поскольку она может быть сохранена для потомства и поскольку ее восприняли и использовали в своих интересах массы. Недаром величайший защитник науки Владимир Ильич Ленин всю жизнь свои мысли излагал так, чтобы они могли быть восприняты массами… [49]49
Цитируется по отчету в «Красной газете» (веч. выпуск), 7 сентября 1925 года.
[Закрыть]
В зале стало жарко от киноюпитеров. Зачитав приветствие, Калинин покинул трибуну. Ферсман вышел на воздух и быстрыми шагами пошел вдоль набережной. Он никогда не мог усидеть на месте, когда поток новых мыслей врывался в сознание.
«Наука нужна рабочему классу». В этом у Ферсмана не было никаких сомнений. Перед его умственным взором проходили сотни примеров внимательнейшей заботы и чуткого делового участия новой власти в судьбах науки. А какая широта требовательности! Он знал наизусть каждую букву замечательного ленинского наброска плана работ Академии наук, который не только ему, но и многим его товарищам впервые открыл всю значительность той роли, которую Советское правительство отводило науке. Оно, несомненно, стремилось опереться на ученых. Но ленинский документ говорил и о другом – о том, что науке нужна пролетарская революция. С этой мыслью, которую заострил в своем выступлении Калинин, сразу было освоиться трудно. До сих пор среди ученых бытовал живучий предрассудок, будто бы рост и дальнейшее развитие науки сами по себе могут разрешить все проблемы, все проклятые социальные вопросы, которые мучают человечество. Однако какой огромный природный ум, какое знание обстановки проявились в этом прямом, откровенном разговоре! Ферсман шел, подставляя грудь порывам свежего, колючего ветерка, налетавшего со стороны гавани. Нева тревожно перекатывала взлохмаченные сероватые волны.
Можно ли назвать предчувствием то смутное ощущение больших перемен, то неспокойное чувство ожидания нового – прежде всего от самого себя! – которое невольно овладевает людьми на большом историческом перепутье?
Через несколько лет, в лихорадящем от инфляции больном Берлине, в парализованной кризисом безработной Скандинавии Ферсман вспоминал и этот вечер, и неспокойные волны Невы, и свежий ветер, бивший в лицо. Ему предстояло увидеть лаборатории, в которых едва тлело бледное пламя науки. Он увидел выдающихся исследователей, вынужденных чуть ли не рекламными трюками зарабатывать на оборудование для своих лабораторий… В том, зарубежном мире пытливость – необходимейшее условие развития познания – все в большей степени сменялась разочарованием в силе познающего разума, мистика спешила на смену бесстрашному научному анализу… Только через несколько лет в разительных сравнениях в пользу родной земли и науки Ферсман в полной мере оценил железную справедливость и второй части формулы, которую так просто и в то же время твердо произнес «всесоюзный староста», президент государства рабочих и крестьян от имени многомиллионных масс: и науке нужна революция!
***
Наступила осень. Уставший от праздничной суеты юбилея, Ферсман снова очутился в поезде, уносившем его на юг. Иные коллеги спрашивали, зачем его снова неведомая сила влечет в эту ужасающую жару, тем более, что однажды уже пострадал от нее (во время списанного выше путешествия Ферсман заболел тропической амебой, что принесло ему много тягот).
Любезный и общительный, он по-разному отвечал на подобные вопросы. Одним он расписывал яркие краски высокогорных пустынь, других очаровывал описанием сверкающих и переливающихся всеми цветами радуги опалов в пустынях; вспоминал, к случаю, рассказы путешественников о Калахари или Сахаре. Но смысл всех ответов сводился к одному: он рвался изучить, понять и объяснить с геохимической точки зрения процессы, происходящие в пустыне. «Как химику Земли, – записывал он для себя, – мне хотелось поскорее окунуться в тот своеобразный мир солей и озер, мир выцветов и песков, защитных корок и пустынных загаров, которые характеризовали пустыню».
К пустыне, в равной степени, как и к Хибинам, Ферсмана приковывал не тот сосредоточенный интерес к истории образования определенных минералов, определенных пород, – интерес, который владел, скажем, его соратниками из ближайшего петрографического лагеря. К ним принадлежал, например, верный спутник его северных скитаний Куплетский, известный своими превосходными описаниями сиенитов.