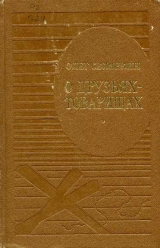
Текст книги "О друзьях-товарищах"
Автор книги: Олег Селянкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 18 страниц)
Было отчего растеряться и абсолютно здоровому, но, смертельно раненный, Лялин принял командование на себя и до последней секунды своей жизни вел катер-тральщик боевым курсом.
И ведь было выполнено задание!
Никогда не забыть мне и двух подвигов секретаря комсомольской организации старшины 2-й статьи В. И. Цуркана: однажды он с матросом М. Е. Шадриным более двух часов находился в затопленном отсеке бронекатера, заделывал пробоины, откачивал воду; а в ночь на 29 октября на бронекатере № 62, на котором он служил, от взрыва вражеского снаряда загорелись ящики с минами, лежавшие на палубе. Казалось, что гибель бронекатера неизбежна, но В. И. Цуркан метнулся к горящим ящикам и, обжигая руки и лицо, побросал их в воду.
Вот так, в постоянных боях, и шла наша жизнь до ноября. А тут на Волге начался ледостав, и мы вынуждены были отойти на зимовку в различные затоны. Но и в период ледостава мы пытались ходить в Сталинград, хотя это было почти невозможно. Например, 23 ноября бронекатер № 11, которым тогда командовал лейтенант В. И. Златоустовский, от попадания вражеского снаряда потерял ход и вынужден был встречать день в такой близости от врага, что командование разрешило личному составу катера сойти на берег и на день укрыться в солдатских блиндажах. Но моряки остались на своих боевых постах; они собрали все свои простыни, замаскировали ими катер и отсиделись в холодных кубриках до наступления следующей ночи и тогда все же увели свой катер на базу.
Вспомнишь все это – и невольно начинаешь думать, что Маршал Советского Союза В. И. Чуйков очень точно и лестно сказал про нас в своей книге «Начало пути»: «Наши сердца наполнялись гордостью, когда мы наблюдали за пароходами и катерами Волжской военной флотилии, которые сквозь льды пробивались к армейским причалам».
Хорошо о нас, моряках Волжской флотилии, отзывается и А. М. Самсонов в своей книге «Сталинградская битва»: «Начиная с 23 августа Волжской военной флотилии пришлось работать под непосредственным огнем противника. Несмотря на это, военные моряки с честью решили поставленную перед ними задачу. Волжская переправа работала безотказно в самых сложных условиях плавания… Канонерские лодки, бронекатера, плавучие батареи флотилии искусно взаимодействовали с сухопутными войсками, оборонявшими Сталинград, поддерживая их своим огнем, высаживая десантные группы. С 23 августа по 10 ноября 1942 года корабли флотилии выпустили по противнику 13 тысяч снарядов. В результате боевых действий флотилия уничтожила 5 тысяч вражеских солдат и офицеров, 24 танка, 10 самолетов и немало другой военной техники противника. Части морской пехоты сражались на берегу, входя в состав армейских соединений…»
Да, во время Сталинградской битвы моряки сражались не только на кораблях флотилии, но и в рядах многих стрелковых бригад, полков и различных сводных отрядов. Например, только во 2-й гвардейской армии находилось около 20 тысяч моряков, а в 64-й армии, которая позднее стала 7-й гвардейской, действовали две бригады морской пехоты. И 92-я стрелковая бригада в основном была укомплектована балтийцами и североморцами.
Она была переброшена в Сталинград 18 сентября. Когда катера шли с ней к городу, фашисты кричали:
– Рус, нас на «ура» не возьмешь!
Едва катера ткнулись носом в берег, с их бортов попрыгали десантники, дружно рявкнули: «Полундра!» – и сразу же бросились в бой. И действовали так умело и напористо, что пробились к центру города и упорно держались там два дня. Потом, повинуясь приказу, отошли к элеватору, где опять по-настоящему стояли насмерть, по десять и более раз в день бросались на врага в атаки; некоторые из тех атак были психическими: моряки шли на врага в одних тельняшках.
Остатки этой славной бригады, повинуясь приказу, из города ушли на остров Голодный (27 сентября), где из них и был сформирован батальон, который вошел в состав 308-й стрелковой дивизии и бился с врагами уже в районе завода «Баррикады».
В книге А. М. Самсонова есть и такие строки: «В боях на территории Сталинграда не было длительных оперативных пауз. Бои шли непрерывно. Они усиливались, стихали, но совсем не прекращались. Противник атаковал все снова и снова, предприняв свыше 700 атак. Советские части и подразделения, обороняясь, в то же время использовали любую возможность для нанесения контрударов. В течение всего периода борьбы с обеих сторон активно действовали артиллерия, самолеты и танки. За 68 дней оборонительного сражения в городе вражеская артиллерия выпустила около 900 тысяч снарядов и мин, не считая снарядов самоходной артиллерии, танков и малокалиберной артиллерии. Господствуя в воздухе, немецко-фашистская авиация бомбила и обстреливала советские войска, совершая каждый день от 1000–1500 до 2500 самолето-атак. На каждый километр сталинградского фронта противник израсходовал до 76 тысяч снарядов и бомб».
Однако, работая в таких воистину адских условиях, корабли нашей Волжской военной флотилии доставили в Сталинград 122400 солдат и офицеров, 4300 тонн различных грузов, 1925 ящиков с минами, 627 автомашин и повозок, а на левый берег эвакуировали 50 тысяч раненых воинов и гражданского населения; а всего за время Сталинградской битвы различные плавучие средства флотилии сделали более 35 тысяч рейсов через Волгу. Эти цифры я взял из книги адмирала Н. Г. Кузнецова «На флотах боевая тревога».
За мужество, проявленное при обороне Сталинграда, многие моряки Волжской флотилии были отмечены правительственными наградами. Кроме того, дивизионы бронекатеров, которыми во время битвы командовали С. П. Лысенко и А. И. Песков, получили право именоваться гвардейскими, а канонерские лодки «Усыскин» и «Чапаев» были награждены орденом Красного Знамени.
Однако, дорогие читатели, все же хочется обратить ваше внимание вот на эти строки, которые я нашел в книге западногерманского генерала К. Типпельскирха «История второй мировой войны»: «Сталинград постепенно превращался в груду развалин, и в этом море руин немецкие пехотинцы и саперы, поддерживаемые танками, артиллерией и пикирующими бомбардировщиками, с ножами и гранатами в руках прокладывали себе путь от дома к дому, от подвала к подвалу и от развалины к развалине… Но чем больше становилось развалин, тем больше укрытий находили обороняющиеся…»
Лично мне очень забавной кажется эта концовка. Если вдуматься в нее, то получается, будто сами фашисты, разрушая Сталинград, создавали нам прекрасные условия для обороны.
Да, в Сталинграде бои шли не только за кварталы и дома, но и за квартиры, даже комнаты, ибо мы все ни на минуту не забывали, что за Волгой для нас земли нет; эти слова стали уже частицей нашего «я». Вот поэтому я и два матроса – Федор Носков и Евгений Попов – трое суток успешно отражали атаки врага, хотя вся наша территория тогда равнялась шестнадцати квадратным метрам в доме, что был по соседству с Дворцом пионеров; вот поэтому (уже на Рабоче-Крестьянской), когда вражеская бомба развалила наш дом, мы не отошли к другому, а тут же, в развалинах, построили себе «дзот»: укрыли досками и обломками мебели двуспальную кровать, стоявшую в комнате на первом этаже дома, на доски и обломки мебели навалили битого кирпича и из-под этого «оборонительного сооружения» еще сутки строчили из автоматов по атакующим немцам, вместо амбразуры используя дыру в стене, пробитую снарядом.
Все это и многое другое было, но, поверьте, если бы только представилась такая возможность, мы с большим удовольствием и не меньшим успехом держали бы оборону в доте, дзоте, наконец, в целом доме, вели бы огонь из его окон, а не из-под кровати, да еще в дыру, сделанную снарядом.
Не понял автор книги «История второй мировой войны» и еще одного, самого главного: того, что в дни Сталинградской битвы никто из нас не думал, совершает он подвиг или нет, что в те дни все мы жили одним стремлением – уничтожить как можно больше врагов и тем самым приблизить победный для нас конец войны. Вот поэтому моряк-тихоокеанец Михаил Александрович Паникаха (он служил в 893-м стрелковом полку) с двумя бутылками самовоспламеняющейся жидкости и пополз навстречу вражескому танку. Он был от танка уже на дистанции верного броска и даже поднял руку с бутылкой, чтобы совершить бросок, но тут пуля разбила бутылку. М. А. Паникаха превратился в живой факел. Но он все равно бросился к вражескому танку, разбил о него вторую бутылку. Да и сам лег на его броню.
А разве не подвиг совершил Евгений Александрович Бабошин?
Он с группой разведчиков во вражеском тылу собрал много очень ценных для нас сведений, разведчики уже возвращались, когда их сначала заметили, а потом и окружили фашисты.
Надежды на то, что удастся своими силами прорвать кольцо вражеского окружения, у разведчиков не было. И тогда лейтенант Бабошин вылез на крышу дома, встал там во весь рост и двумя бескозырками просемафорил нам все добытые разведкой сведения.
Фашисты по нему строчили из автоматов, стреляли из винтовок и пулеметов. Он был ранен, истекал кровью, но не опустил руки, пока не закончил передачу.
Потом – упал. Разведчики как могли и умели перебинтовали его, положили в укромное место и весь день отбивали атаки врага.
Только ночью им удалось выскользнуть из вражеского кольца и вынести с собой отважного лейтенанта Бабошина, жизнь в котором еле теплилась.
Или взять вот такой эпизод – рядовой эпизод Сталинградской битвы.
По Волге уже густо шло «сало», когда один из бронекатеров был направлен к правому берегу, чтобы оттуда корректировать огонь наших канонерских лодок. Сначала все складывалось хорошо, и вдруг луч вражеского прожектора сцапал катер. Только сцапал – немедленно по катеру прицельно ударили многие артиллерийские и минометные батареи. И один из снарядов сразу же попал в рубку. Появились и раненые, и даже убитые.
Осколками снаряда оказался перебит и штуртрос. Катер стал неуправляем, и течение выбросило его на песчаную отмель.
Мишенью стал катер. Вода кипела вокруг него от падающих снарядов и мин. Ни у кого не было сомнения, что катеру жить осталось считанные минуты. И тогда маленький фанерный полуглиссер бросился к бронекатеру. Невредимым четыре раза входил в огненную завесу и выходил из нее. И вывез на левый берег всю команду бронекатера, кроме одного человека – радиста Ивана Решетняка.
Иван Решетняк добровольно остался на катере, превратившемся в мишень, остался для того, чтобы корректировать огонь вражеских батарей.
В лучах прожекторов бронекатер был прекрасно виден, и фашисты били по нему, били. Иногда им, похоже, начинало казаться, что с катером наконец-то покончено, что там нет больше ни одного живого человека. И тогда замолкали их пушки и минометы.
Переставали вражеские снаряды и мины вспенивать взрывами воду вокруг бронекатера – немедленно, дразня врагов, несколько раз приподнималась и опускалась крышка одного из люков. И снова вражеские снаряды и мины устремлялись к истерзанному катеру!
Всю ночь фашисты вели огонь по бронекатеру, и всю ночь старшина 2-й статьи Решетняк засекал вражеские огневые точки и нацеливал на них снаряды канонерских лодок.
За ту ночь одиннадцать огневых точек врага уничтожили снаряды канонерских лодок!
А потом снова был день. Фашисты и вовсе словно взбесились при виде нашего военно-морского флага, трепетавшего на ветру над бронекатером. Теперь над ним повисли и «юнкерсы».
Только с наступлением полной темноты нам удалось снять Ивана Решетняка с его наблюдательного пункта. Промерзший – дальше некуда, он сразу же прошел в машинное отделение, почти обнял дышащий жаром мотор и сказал, радостно улыбаясь:
– Братцы, а я, кажется, промок.
Он еще мог шутить!
Много подобных эпизодов сохранила моя память.
Заканчивая эту главу, я просто обязан хотя бы упомянуть об одном документе, сыгравшем огромную роль в еще большем укреплении боевой мощи наших Вооруженных Сил.
В октябре 1942 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении полного единоначалия и упразднении института военных комиссаров в Красной Армии» и приказ наркома Обороны СССР по тому же вопросу.
Вообще-то, насколько я знаю из бесед, некоторые политработники уже в августе жили предчувствием больших перемен в своей работе. И это вполне понятно: каждый из них прекрасно понимал, что почти за полтора года войны в нашей армии произошли значительные изменения, что в минувших боях выросли и закалились командные кадры, которые, до конца верные своему воинскому долгу и командирской чести, были способны единолично успешно решать боевые задачи и управлять войсками.
Да и политработники наши за время боев повысили свои военные знания, приобрели боевой опыт. Некоторые из них были даже уже переведены на командные должности и успешно справлялись со своими новыми обязанностями.
Многие из нас это понимали, и все равно Указ о введении единоначалия породил порядочно раздумий. Некоторым строевым командирам казалось странным все это, мы все время пытались и не могли решить один вопрос: как же теперь жить и воевать без комиссаров?
Этот вопрос, как мне кажется, был до известной степени закономерен: мы уже привыкли к тому, что политработники пользовались одинаковыми с нами – командирами – правами, а тут они вдруг становятся только нашими заместителями!
В Указе говорилось: «…Новые обстоятельства, связанные с ростом наших командных и политических кадров, свидетельствуют о том, что полностью отпала почва для существования системы военных комиссаров».
В соответствии с этим Указом народный комиссар Обороны СССР приказал: «…Освободить от занимаемых должностей комиссаров частей, соединений, штабов… а также политруков подразделений и назначить их заместителями соответствующих командиров (начальников) по политической части».
Предусматривалось этим же приказом и присвоение политработникам командирских званий; предполагалось политработников, подготовленных в военном отношении, более решительно выдвигать на командные должности, особенно в звене командир роты – командир батальона.
На первый взгляд, ввести единоначалие некоторым из нас казалось не так уж сложно: люди на месте, только остается одного из них назначить командиром, а второму присвоить звание строевика, чего же больше? Но в действительности это было далеко не так: этим Указом, по существу, открылась новая страница в истории наших Вооруженных Сил, проводились мероприятия, призванные сыграть огромную роль в дальнейшем повышении боевой мощи наших войск.
Облекая нас, командиров, всей полнотой власти, возлагая на нас полную ответственность за все стороны боевой и политической жизни войск, Советское правительство и ЦК Коммунистической партии открывали перед нами еще более широкие возможности для образцового выполнения долга перед Родиной, для проявления организаторского таланта, умения и опыта в интересах достижения главной цели – победы над германским фашизмом.
Меры по введению полного единоначалия в Советской Армии были направлены и на дальнейший подъем политической работы в войсках, на воспитание у бойцов и командиров непоколебимой веры в правоту своего дела. Ведь заместители командиров по политической части в условиях полного единоначалия получали гораздо больше возможностей для того, чтобы непрестанно повышать уровень и действенность партийно-политической работы; теперь они могли все свое внимание сосредоточить на воспитании личного состава. Кроме того, присвоение политработникам командирских званий повышало их роль в армии. Однако это, в свою очередь, требовало, чтобы каждый политработник настойчиво овладевал военными знаниями, непрерывно совершенствовал их, по-настоящему стремился стать мастером военного дела, готовым в любую секунду, если потребуется, занять командную должность.
Повторяю, Указ об установлении полного единоначалия абсолютным большинством командиров, политработников и солдат был воспринят как документ огромной важности, как вполне своевременная мера, направленная на дальнейшее усиление боевой мощи наших войск.
И все же в первые после опубликования Указа дни мне встречались даже отдельные политработники, которые высказывали опасения, что, дескать, с введением единоначалия партийно-политической работе будет уделяться меньше внимания, чем прежде. Они ссылались на то, что не все мы, командиры, являемся коммунистами, а беспартийному командиру, дескать, не с руки вмешиваться в дела партийных и комсомольских организаций, ставить перед ними задачи, направлять работу политсостава. Некоторые товарищи даже поговаривали о том, что введение единоначалия принизит роль партийно-политического аппарата.
В свою очередь и некоторые из нас, строевых командиров, говорили, что, дескать, мы вряд ли сможем, став единоначальниками, обеспечить необходимое руководство партийно-политической работой.
Как видите, даже этот вроде бы и предельно понятный Указ потребовал огромной и кропотливой разъяснительной работы.
Все последующие годы доказали своевременность и правильность этого Указа. Лишь с одним мы не смогли примириться: что исчезло из обихода столь полюбившееся нам слово – «комиссар». И до последнего дня войны мои матросы, говоря о хорошем политработнике, неизменно величали его:
– Товарищ комиссар.
Конец минной войны на Волге

В ноябре 1942 года, теснимые «салом», наши катера из-под Сталинграда ушли на зимовку в район Астрахани. Встретили нас там очень радушно, охотно отдавали все, чтобы мы могли поскорее подготовиться к новой навигации. Казалось бы – самое время с головой уйти в ремонтные работы и вопросы боевой подготовки, но многие матросы вдруг словно белены объелись, они завалили нас рапортами с одной просьбой: списать в морскую пехоту, которая, как писал почти каждый, «в настоящий момент бьется насмерть с фашистюгами…»
С подобным рапортом пришел ко мне и главный старшина Мараговский, за мужество, проявленное во время Сталинградской битвы, награжденный орденом Красного Знамени.
Большого труда нам, командирам и политработникам, стоило сначала ослабить, а потом и вовсе оборвать этот поток рапортов. Причем с каждым матросом приходилось разговаривать в отдельности и по-разному. И если Мараговского, с которым у нас к тому времени сложились по-настоящему дружеские отношения, я просто отругал, изорвав его рапорт, то кое перед кем пришлось и мелким бисером рассыпаться, уговаривать, умолять. Но так или иначе, а порядок был восстановлен, и мы начали деятельно готовить катера к будущей навигации: капитально заделывать пробоины, ремонтировать моторы, лебедки и прочую технику, и самое приятное – вооружались, вооружались.
Вся Отдельная бригада траления готовилась к грядущим боям, лишь я, ее флагманский минер, в декабре исчез из штаба: в это время мы – старшины 1-й статьи Ю. Тимофеев и С. Цильмановский и я – в санях-розвальнях мотались по Волге на участке от Светлого Яра до Петропавловки; мы контрвзрывами пытались уничтожить отдельные вражеские мины, те самые, место постановки которых нам было известно наиболее точно.
Работа эта была трудная и очень однообразная, даже нудная. Изо дня в день мы вставали еще до рассвета, запрягали своего Сивку и трогались в путь. Метель ли, мороз ли с режущим встречным ветром – мы неизменно начинали движение, чтобы в нужном месте остановиться и долбить почти метровый лед – делали проруби. Потом в них бросали малые глубинные бомбы и улепетывали на безопасное расстояние, где и ожидали взрывов.
Так было изо дня в день.
И только трижды (почти за полтора месяца работы) одновременно со взрывами малых глубинных бомб вздымались к низкому небу огромные столбы воды – детонировали вражеские мины или большие бомбы, еще летом упавшие в реку.
Да, утомительной для нас была эта поездка по скованной льдом Волге. Может быть, и потому, что наш Сивка – хоть оглоблю о него измочаль – весь день принципиально ходил шагом; лишь к месту ночлега (и как он узнавал, что мы сегодня закончили работу?) он несся почти галопом.
Зато мы познакомились со многими бакенщиками и прониклись к ним подлинным уважением.
Дело в том, что еще летом у многих бакенщиков вражеские самолеты уничтожили домики, которые были так привлекательны, когда мы смотрели на них с палубы катера. Не стало домиков – бакенщики не испугались, не убежали от опасности, а тут же, на пепелищах, вырыли ямы-землянки, где теперь и жили со своими семьями. Было голодно, невероятно тесно, темно и душно в этих наспех вырытых склепах. Да и блохи основательно донимали. В одной из таких землянок мы, например, проснулись среди ночи и сбежали на мороз, хотя от усталости еле шевелили руками и ногами. Молча ехали звездной ночью по льду Волги и почти через каждый километр останавливались, чтобы раздеться и попытаться вытрясти блох из белья на снег.
Но бакенщики и их семьи не унывали, не просто отсиживались в ямах-землянках до лучшей поры, а готовились к навигации. Они истово верили, что и летом 1943 года, как бы ни бесновались фашисты, сколько бы мин ни поставили, Волга будет судоходной рекой. Об этом свидетельствовали новые минные бакены, стоявшие на береговой кромке почти около каждого жилья бакенщика, и многое другое.
Повезло мне в тот период и в том, что по-настоящему узнал капитана 3-го ранга К., за которым на флотилии укрепилась слава запойного пьяницы. Поговорил с ним откровенно несколько раз и вдруг в ином свете увидел и его самого, и его «пьяные чудачества». Во-первых, почему же, если он запойный пьяница, я ни разу не видел его даже в крепком подпитии? Во-вторых… Ох и умен, ох и хитер был мужик!
В годах и много повидавший в жизни, он считал, что иногда, чтобы добиться желаемого результата, нужно хитрить, «изобретать». Вот он и «изобрел» свои «запои»; ведь известно, что к пьяным мы порой бываем несколько снисходительны: дескать, что с него, дурака, сейчас возьмешь? Вот проспится, протрезвится – тогда и взыщем за все.
К. умело использовал это наше общее настроение. Так, «напившись пьяным», он побил фонари бакенов на своем участке. Из пулемета побил. И на ночь Волга здесь утонула в темноте.
Начальство, конечно, разгневалось, грозилось потом, когда К. протрезвится, отдать его под трибунал. Но К. «пьянствовал» почти неделю! И все это время на его участке не горел ни один обстановочный знак.
Начальство, хотя и крепко разгневалось, но не настолько, чтобы ничего не видеть. И оно заметило, что на участке К. с того момента, когда он «пьяный» побил фонари, ни одной мины фашисты не поставили на судовой ход. Почему? Не потому ли, что нет ориентиров, указывающих фарватер?
– А ну погасить на ночь все огни! – приказало начальство.
И погасили. И убедились, что так и должны были поступить давно.
С К., конечно, взыскали стоимость разбитых фонарей, но он не унывал, немного погодя опять, «будучи пьяным», «начудил». И опять его «чудачество» пошло на общую пользу.
Помню, во время одной из интимных бесед я даже спросил у него: почему он шел на такой риск, когда можно было действовать по уставу? Он с хитринкой посмотрел на меня и ответил:
– До этого не додумался.
Но я-то и сам понял его затаенное: он ошибочно считал, что пока бы он писал командованию, пока бы там изучали его писульку, согласовывали и решали, сколько бы воды утекло? А тут несколько дней личного риска – и все готово!
Несколько позднее мне пришлось познакомиться и с другим типом человека. Тогда я был уже комдивом, а он у меня – начальником штаба, знающим свое дело и аккуратистом в работе.
Казалось бы, чего же лучше?
Но вот я на задании, и примерно километрах в ста от штаба, где остался он – мой первый боевой заместитель. Вдруг ко мне подбегает матрос и протягивает радиограмму, где написано: «Меня атакуют пять Ю-78 жду ваших указаний».
Я – взбешен: какой же ты командир, если задаешь мне такие вопросы?!
Еще больше я возмутился, когда, вернувшись на свою базу, узнал, что начальник штаба и без меня приказал открыть огонь по вражеским самолетам, что командовал он абсолютно правильно. Зачем же он, спрашивается, послал мне ту радиограмму? Только для того, чтобы подшить ее к делу как документ, подтверждающий правильность его действий?
Я при первой возможности, разумеется, избавился от такого начальника штаба.
Нет, я не одобрял и не одобряю «стиля работы» К. Но от К. я, пожалуй, не стал бы избавляться; мне и сейчас симпатичны люди, которые сами готовы отвечать за свои поступки и дела.
Ездили мы по Волге в санях-розвальнях, ездили, и лишь однажды на какое-то время, повинуясь приказу командования, я вынужден был оставить Сивку на попечение своих помощников, а сам выехать в Сталинград. И получилось так, что я стал свидетелем последних дней Сталинградской битвы. А потом, когда смолкли орудия, шел по разрушенному городу и сжимал автомат, глядя на пленных немцев, заполнивших улицы; теперь гитлеровские вояки были смирны, покорны и даже жалки. А ведь еще недавно они были спесивы, даже жестоки…
Когда увидел первую, казалось, бесконечную колонну пленных, долго не мог понять, вернее уловить, того, что больше всего поразило меня.
Может, женские головные платки, которыми они обвязывались поверх пилоток и касок? Может, ноги в соломенных эрзац-валенках?
Нет, все это я уже видел в прошлом году, под Москвой.
Тогда что же?
И лишь позднее, когда глаза мои стали уже равнодушно скользить по серым, будто донельзя грязным колоннам-толпам пленных, я вдруг понял главное: в глазах у них не было ничего, кроме безмерной усталости; они, эти пленные, даже радовались, что – наконец-то – попали в плен, где им гарантирована жизнь.
Эти колонны, в каждой из которых была не одна тысяча человек, конвоировало всего несколько усачей довольно-таки преклонного возраста.
Не о побеге и не о продолжении войны тогда мечтали эти пленные. Их тогдашнее общее настроение, как мне кажется, наиболее точно передает вот это письмо одного из них, адресованное домой:
«…Отец, ты полковник, генштабист. Ты знаешь, как обстоят дела, и я не нуждаюсь в сентиментальных объяснениях. Пришел конец. Мы продержимся еще дней восемь. Затем – крышка. Отец, эта преисподняя должна быть предупреждением для всех вас. Я прошу тебя, не забывай о ней…
А теперь о делах. Во всей дивизии боеспособны лишь шестьдесят девять человек… Все идет к концу…»
О том, что так называемый «средний немец» к этому моменту уже стал о многом задумываться, говорит и такой случай.
В конце февраля 1943 года для работы с трофейной техникой мне было разрешено взять из лагеря двух пленных. Выбирал я их сам, предварительно просмотрев множество солдатских книжек. Причем тогда на мне был белый маскировочный халат с капюшоном, прятавший мою форму военного моряка.
Кроме того, к тому времени война уже научила меня многому, и я даже виду не подавал, что понимаю, о чем между собой говорят вражеские солдаты (прикидываясь незнайкой, иной раз доводилось услышать много любопытного, что они вряд ли высказали бы на допросе). В этот раз, например, я узнал, что вездеход, на ремонт которого пленные запросили почти двое суток, может быть готов уже завтра к утру, что один из выбранных мной пленных немцев еще недавно был шофером облюбованного нами вездехода и сам спрятал те части, без которых машина мертва.
Молча выслушав все это, я увез того шофера в Сталинград, где он и извлек из развалин спрятанное.
Доставив шофера обратно в лагерь к вездеходу, я сказал, что буду здесь снова завтра утром и чтобы машина к этому времени была полностью готова. Немцы всем этим были настолько ошарашены, что какое-то время только глазами хлопали, но зато как забегали потом, когда оцепенение прошло!
На следующий день утром (теперь уже в сопровождении матросов своего отряда) я вновь появился в лагере. И что меня сразу и больше всего поразило – оба немца, которым предстояло отправиться со мной, стояли по стойке «смирно» и… беззвучно плакали.
Тогда я очень торопился, мне была дорога каждая минута, поэтому и не поинтересовался, почему они плачут. Просто жестом приказал им садиться в машину, а еще через несколько минут вездеход, вздыбливая снег, унесся в бескрайнюю степь.
Несколько часов мы летели по заснеженной степи. Было так холодно, что замерз даже я, хотя сидел в кабине вездехода и был одет тепло. Невольно подумалось: каково же моим матросам, сидевшим в открытом кузове?
Остановились в первой деревне, замаячившей на горизонте. Всем отрядом ввалились в хату, где через несколько минут пошла по кругу вместительная кружка с водкой. Не миновала она и немцев, которые робко жались к порогу. Вот тогда я и услышал обрывок разговора.
– «Черная смерть», а шнапса и хлеба дали, – прошептал один.
– Значит, сегодня убивать не будут, – тоже шепотом ответил второй.
Так вот почему они беззвучно плакали, когда увидели меня и моих матросов!
Почти месяц я имел возможность наблюдать за этими немцами, разговаривать с ними о самом разном. И я узнал, что оба они по своим убеждениям были самые обыкновенные, так называемые «средние немцы», над мозгами которых длительное время и основательно потрудилась фашистская пропаганда.
Не буду описывать всех изменений в психологии этих немцев, которые произошли за время нашего знакомства, расскажу лишь один эпизод.
Случилось так, что на этом же вездеходе возвращались мы трое: два немца и я – капитан-лейтенант, за предшествующие дни измотавшийся – дальше некуда.
Осколок ударил в мотор вездехода в тот момент, когда мы были на «ничьей» земле метрах в пятистах от вражеских окопов. На наше счастье, уже основательно стемнело, и фашисты не заметили, что наша машина остановилась. Мы мигом выбросились из нее и откатились в сторону, чтобы быть подальше от вездехода-мишени.
Прошло еще несколько минут – мне стало страшно: до вражеских окопов рукой подать, а со мной два немца. Правда, без оружия, но все же двое…
И все равно я был настолько обессилен, что, случайно натолкнувшись на развалины какого-то блиндажа, сразу же нырнул туда, где сон сравнительно легко и поборол меня.
Побороть-то поборол, но я все время просыпался от холода и мысли о том, что рядом со мной два немца, которые в любую минуту могут броситься на меня.
Кому-то может показаться невероятным, что, понимая всю опасность своего положения, я все же спал. Что ж, на войне бывало и такое. Например, в 1942 году однажды я уснул в кабинете адмирала Рогачева, куда был вызван для доклада. Вошел в кабинет бодро, отрапортовал как положено, а стоило адмиралу разрешить мне сесть – я немедленно уснул, да так крепко, что проснулся от собственного храпа.
Нечто подобное произошло со мной и тогда, в степи, когда рядом и вокруг были только, как мне казалось, одни враги.
Проснулся я внезапно и от ощущения тепла. Первым делом схватился за оружие. Оно оказалось при мне. Потом обшарил весь блиндаж, но немцев тут не оказалось. Сбежали? Тогда почему же своими шинелями они укрыли меня? Чтобы крепче спал?








