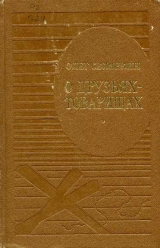
Текст книги "О друзьях-товарищах"
Автор книги: Олег Селянкин
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
Работники политотдела, узнав об этой «теории», конечно, делали все, чтобы опровергнуть ее, чего только нам не говорили, каких только доводов не приводили, но молодость упряма даже в своих заблуждениях – мы упорно стояли на своем.
В числе тех многих, кто яро поддерживал эту «теорию», был и я. Действительно, разве у меня в роте есть хоть один матрос, способный на подвиг? Дисциплинированных, исполнительных – сколько угодно, а способного на героизм – ни одного!
Даже Сашу Копысова и Никиту Кривохатько тогда я почему-то считал только исполнительными и дисциплинированными!
Самое же обидное – например, Борис Лях (он учился со мной все четыре года) бил врага, а что делал я? Следил за точным выполнением матросами распорядка дня и руководил боевой подготовкой, в которой преобладали набившие оскомину истины!
Правда, мой конспект по минному оружию хвалили и матросы, и офицеры, но разве это боевой подвиг – написать хороший конспект?
Нет, что ни говорите, а сплошные неудачники собраны здесь, в Сталинграде…
И вдруг (в феврале или марте 1942 года) нам в руки попал рассказ Леонида Соболева о моряках-черноморцах, которые добровольно стали авиадесантниками. Прочли мы его с огромным удовольствием и настоящим волнением, искренне восхищались Перепелицей и его товарищами. А потом снова дружно плакались на «серость» нашего личного состава. До тех пор искренне плакались, пока кто-то не спросил у меня:
– Слушай, а твой Перепелица не родственник тому, прославившемуся?
Вопрос застал меня врасплох: единственное, что я знал о моем Перепелице, – он был знающим, дисциплинированным матросом. Не маловато ли я знал?
Чтобы разрешить все сомнения, вызвал Перепелицу и спросил:
– Не родственник тебе тот, о котором здесь написано?
Его ответ прозвучал более неожиданно, чем гром с ясного неба:
– Так это же про меня.
Выходит, и среди нас есть герои! А может, и не один?
И сразу словно в ином свете увидал я Сашу Копысова и Никиту Кривохатько, за какие-то считанные минуты они сказочно выросли в моих глазах.
А главный старшина Даниил Мараговский? Он жил в Киеве, и была у него семья – жена и сынишка, когда немцы вдруг обрушили бомбы на этот город. И надо же было случиться так, чтобы балка перекрытия концом упала точно на спящего мальчонку…
Страшное горе обрушилось на Мараговского. Человек с другим характером, возможно, рвал бы на себе волосы, запил или каким-то другим способом изливал свое горе, а он на рассвете уже явился в приемную командующего Днепровской военной флотилией контр-адмирала Рогачева и потребовал, чтобы его, Мараговского, немедленно вернули на корабли.
Просьбу удовлетворили, он опять стал рулевым на одной из канонерских лодок. И бесстрашно, вернее, невозмутимо стоял у ее штурвала во многих боях. До того последнего боя, в котором вражеские танки все же расстреляли его корабль.
Утонула канонерская лодка – Мараговский вплавь добрался до левого берега Днепра и зашагал к фронту, громыхавшему на востоке.
Однажды, шагая по дороге, прорезавшей лесок, он чуть-чуть расслабился и сразу же прозевал момент, необходимый для того, чтобы уклониться от встречи с немцем-мотоциклистом, выскочившим из-за поворота. Тот, не глуша мотор и не слезая с седла, остановился и спросил:
– Юде?
– Нет, еврей, – ответил Мараговский и ударил его ножом.
Мараговский благополучно перешел фронт и тут услышал, что моряков почему-то собирают в Сталинграде. И немедленно повернул сюда.
Когда он пришел, я дежурил по полуэкипажу. Я отлично помню вот этот с ним разговор.
– Как думаете, товарищ лейтенант, для дела или просто так нас здесь гуртуют? – спросил он.
Я тогда был почему-то зол и ответил резко, даже грубо:
– Не будь дураком!
Мараговский не обиделся, он улыбнулся и сказал:
– Против этого трудно возражать.
Таков был Даниил Мараговский, которого еще совсем недавно мы почему-то тоже считали «сереньким».
А капитан-лейтенант С. П. Лысенко? Голубоглазый блондин, он запросто разговаривал с нами, лейтенантами, о самых высоких материях, принимал активное участие в наших редких забавах, словом, был точно такой, как и все мы. А ведь на Днепре он командовал бронекатерами. Даже когда они оказались во вражеском кольце (ниже и выше катеров немцы уже хозяйничали на берегах), Лысенко не взорвал сбои катера где-то в глухой заводи, а повел в бой, понимая, что он будет последним для катеров, многих матросов и, возможно, для него самого.
И моряки под его командованием бились до последнего снаряда.
Потом Лысенко вел своих матросов по вражеским тылам, вел и привел их к фронту, благополучно с ними проскользнул через него. И лишь здесь, уже в нашем тылу, матросы узнали, что их командир был ранен еще в самом начале того последнего боя на Днепре. Раненый, он переплыл Днепр, раненый и вел их по вражеским тылам, оберегая от ударов врага. Так держал себя все это время Лысенко, что ни один человек даже не заподозрил о его ранении!
Да разве перечтешь всех героев, которых мы вдруг обнаружили среди нас?
И моментально мыльным пузырем лопнула вся наша глупая «теория». А для себя лично я на всю жизнь сделал вывод: никогда не думай, будто ты полностью познал того или иного человека, если только глянул на него. Сделал правильный вывод – стал изучать личный состав по-настоящему, скрупулезно, что и позволило мне уже 1 апреля 1942 года, когда меня вдруг вызвали для выполнения специального задания, быстро и без ошибок отобрать двадцать матросов, на которых я мог положиться как на самого себя.
Первые мины на Волге

Вернулся я в Сталинград в мае, вернулся старшим лейтенантом и минером дивизиона катеров-тральщиков, которым командовал старший лейтенант А. П. Ульянов.
Долго ли я, кажется, и отсутствовал, но к моему возвращению Волжская военная флотилия уже имела три бригады кораблей, которыми командовали:
1-й – контр-адмирал С. М. Воробьев,
2-й – контр-адмирал Т. А. Новиков,
Отдельной бригадой траления (ОБТ) – контр-адмирал Б. В. Хорошкин.
Полностью были укомплектованы и штабы, укомплектованы, как правило, офицерами, имеющими большой опыт организаторской работы; они, офицеры штабов, словно магнит железные опилки, группировали нас, молодых, вокруг себя. И учили, и наставляли, и воспитывали.
Много было в штабах хороших офицеров, но я свои симпатии сразу же отдал капитанам 3-го ранга А. З. Павлову и В. А. Кринову (ныне соответственно – контр-адмиралу и капитану 1-го ранга). Внешне они были совершенно не похожи друг на друга: Павлов – высокий блондин, основательно полысевший со лба, а Кринов – даже чуть ниже среднего роста, по-мальчишески стройный, юркий и неутомимый. Оба они импонировали мне и своей рассудительной смелостью, и умением запросто, не теряя своего и не унижая чужого достоинства, разговаривать как с адмиралами, так и с подчиненными.
Забегая вперед, скажу, что мое мнение о них с годами нисколько не изменилось, и я горжусь, что с Всеволодом Александровичем Криновым меня доныне связывает самая настоящая дружба, а с Акимом Захаровичем Павловым – регулярная переписка.
Вполне понятно, когда видишь рядом культурных и знающих начальников, невольно и сам стараешься стать завтра лучше, чем ты есть сегодня. И я, оказавшись дивизнойным минером на катерах-тральщиках, не стал плакаться: дескать, меня используют не по назначению, не по специальности, – а засел за изучение техники, начальником которой теперь оказался. Причем изучал не принцип ее действия (это я усвоил еще в училище), а само устройство – до винтика, до последней шайбочки. И не стеснялся за консультациями обращаться даже к матросам.
Это не нанесло урона моему авторитету, даже больше того: в последующем любое мое приказание выполнялось немедленно и точно. Может быть, потому, что я знал свое дело, зря не дергал людей?
Флотилия активно готовилась к боям «в условиях любого речного театра», но все равно война на Волге началась для нас неожиданно: если память не изменяет, в конце июня на вражеских минах в районах Луговой Пролейки и Светлого Яра (у входа в Саралевскую воложку) подорвались два парохода. Короче говоря, даже этими своими первыми минными постановками фашисты, «взяли Сталинград в клещи», как бы обозначили этим свои дальнейшие планы.
По силе этих двух прогремевших над Волгой взрывов мы сразу определили, что гитлеровцы поставили здесь морские неконтактные мины, то есть мины, взрывающиеся не от соприкосновения с кораблем, а под воздействием его магнитного поля или шума винтов, боя колес.
Итак, враг нанес первый минный удар.
К сожалению, мы не могли достойно парировать его: да, Волжская военная флотилия имела даже Отдельную бригаду траления (ОБТ), но та была вооружена лишь катерными и облегченными Шульца тралами, предназначенными для борьбы не с донными, а с якорными минами; бессильны оказались наши катера-тральщики против тех мин, которые враг начал ставить на Волге.
Казалось, было отчего растеряться, однако командование флотилии в этот критический момент приняло ряд мер, в целесообразности которых мы скоро убедились. Прежде всего – завершило передачу всех катеров-тральщиков в ОБТ и одновременно по берегам Волги раскинуло цепочки постов Службы наблюдения и связи (СНИС), снабженных телефонами и даже радиостанциями. Если к этому добавить, что для наблюдения за поведением немецких самолетов, появляющихся над Волгой, были привлечены еще и бакенщики, рыбаки, команды барж, пароходов и кораблей флотилии, которых ночь заставала на плесе, то станет и вовсе ясно, что теперь многие минные постановки врага стали своевременно обнаруживаться нами, а замеченная минная постановка – уже почти наша победа.
В это же время мы изучали и тактику фашистских летчиков, производивших постановку мин. И оказалось, что она очень однообразна, чтобы не сказать – шаблонна. Так, с наступлением сумерек обязательно появлялся самолет-разведчик, проходил над Волгой и засекал караваны, находящиеся в пути.
Уходил этот самолет – через какое-то время прилетало несколько групп бомбардировщиков, которые и шли туда, где были замечены караваны. А самолеты-миноносцы, хотя зачастую и появлялись одновременно с бомбардировщиками, немедленно устремлялись туда, где не было караванов. Пройдет такой самолет над рекой так низко, что даже ночью его силуэт видишь. Иногда обстреляет из пулеметов один или оба берега и вроде бы исчезнет. Но буквально через несколько минут он появится вновь, появится уже на большой высоте и, не сделав ни одного выстрела, уйдет в ночь. Будто бы к себе возвращается, равнодушный и к Волге, и к тому, что есть на ней. Однако именно во время этого – вроде бы пассивного – полета он и бросил одну или две мины, которые на парашютах почти бесшумно опустились в реку; только легкий шлепок о воду да бульканье воздуха, выходящего из-под парашюта, чаще всего и мог засечь наблюдатель, притаившийся на берегу. Вот поэтому, чтобы прогнать наблюдателей с берега, самолеты и строчили из пулеметов, иногда даже сбрасывали малые бомбы.
Правда, были у гитлеровцев и беспарашютные мины, постановка которых легко маскировалась под обыкновенную бомбежку, но почему-то враг применял их значительно реже, чем парашютные.
Чтобы вы, читатели, яснее представили себе, насколько сложна была эта минная война, каких усилий, знаний и напряжения всех сил требовала она от нас, коротко расскажу о принципе действия тех немецких неконтактных мин, с которыми нам пришлось столкнуться на Волге.
Все мины, которые враг бросал в Волгу, по способу постановки, как я уже упомянул, делились на парашютные и беспарашютные.
Итак, допустим, что мина уже на дне реки. Но в этот момент она была опасна не больше, чем обыкновенный камень. Ей требовалось еще какое-то время, чтобы «прийти в опасное положение». Как продолжительно было это время? Это полностью зависело от человека, который устанавливал его на приборе срочности (мне попадались приборы с диапазоном от 30 минут до 6 суток).
Кроме того, немецкие неконтактные мины имели еще и так называемый прибор кратности, позволяющий им взрываться не под первым кораблем, оказавшим на них воздействие своим магнитным или акустическим полем, а, допустим, под четвертым, десятым или одиннадцатым (мне довелось видеть такие приборы с установкой до 16 импульсов).
Так под каким точно кораблем взорвется мина? Это опять же зависело от установщика, вернее, от приказа, который он получил.
И еще: эти мины имели несколько самых различных устройств, предназначенных для того, чтобы взорвать мину и человека, который попытается обезвредить ее.
И лежала такая мина на дне Волги, иногда ее полностью заносило песком, засасывало илом, но она оставалась опасной; большой заряд взрывчатки и сравнительно малые глубины реки делали ее взрыв особо ощутимым для любого парохода. Например, когда на мине подорвался катер-тральщик, которым командовал старшина 1-й статьи Яриков, мы только и нашли обломок стенки рубки, к которому были прикреплены корабельные часы.
Да, мы имели дело с минами, обладавшими большим зарядом, не требующими для взрыва соприкосновения с кораблем и до определенного мгновения ничем не выдающими своего опасного присутствия на том или ином участке реки.
А теперь допустим, что наблюдатель видел, как что-то на парашюте опустилось в реку у яра правого берега, и немедленно вызвал катера-тральщики, которые сразу же приступили к работе. И вот они ходят час, другой, ходят сутки, вторые, а взрыва мины все нет. Почему? Причин могло быть четыре:
еще не сработал прибор срочности, и, следовательно, мина не воспринимает импульсов, посылаемых тралом;
на приборе кратности установлено большее число, чем катер-тральщик сделал галсов;
мина почему-то оказалась неисправной и лежит на дне реки безопасной для пароходов болванкой;
гитлеровцы нарочно сбросили на парашютах не мины, а, допустим, мешки с песком или камнями (случалось и такое).
А ведь экипаж катера-тральщика, производящего работы, ничего не знал о мине, над которой ходил; он просто ходил по минному полю, каждый матрос отлично понимал, что в любую минуту может прогрохотать взрыв под самим катером-тральщиком, и тогда…
Представляете, какое это непрерывное и страшное напряжение физических и нервных сил человека?
Почему же взрыв мины мог произойти и под катером-тральщиком? Неужели нельзя было его исключить?
Катер-тральщик, как и любой другой корабль, обязательно имеет свое собственное магнитное поле, движители катера-тральщика – винты или колеса – обязательно производят характерный шум, от которого невозможно избавиться. И магнитное поле катера-тральщика «убиралось» перед выходом на траление, вернее, уменьшалось до минимально возможных размеров; катеру-тральщику даже выдавался специальный документ, в котором говорилось, что его гарантийная (безопасная) глубина траления равна…
Беда в том, что нам частенько приходилось тралить на глубинах меньших, чем та, гарантийная: река – не море.
Кроме того, катер-тральщик, подвергавшийся размагничиванию, должен был соблюдать ряд правил, оберегающих его гарантийную глубину траления. Например, избегать ударов, толчков, не швартоваться к неразмагниченным судам и так далее. А как избежать ударов, если враг бомбит и бомбы рвутся рядом с тобой? Как не пришвартуешься к барже-нефтянке, когда течение несет ее в огонь?
Если же одно из таких правил нарушено, катер-тральщик согласно инструкции должен немедленно прекратить траление и снова бежать размагничиваться.
Но разве можно было это позволить себе, если еще не расчищен проход через минное поле и с каждым часом именно здесь все больше и больше скапливается караванов с самыми различными и крайне нужными грузами?
А вообще-то… Если бы после каждого соприкосновения с кем-то или встряхивания, допустим, от близкого разрыва бомбы катера-тральщики уходили на размагничивание, то и работать было бы некому.
Таковы (очень кратко и общо) основные принципы минной войны на любом театре. На Волге они усугублялись еще и тем, что судовой ход здесь был сравнительно узок, и если мина оказывалась поставленной на нем, мы вынуждены были прекращать судоходство на данном участке, то есть сами, словно нарочно, начинали задерживать караваны, чтобы облегчить немецким летчикам поиск целей и их бомбежку.
В сложившейся обстановке от катеров-тральщиков требовалась очень четкая, даже самоотверженная работа, но, к несчастью, к началу минной войны на Волге мы здесь не имели ни одного трала, пригодного для борьбы с неконтактными минами.
Казалось бы, безвыходное положение. Но в первый же день минной войны на Волге контр-адмирал Хорошкин делом доказал мне, что из любого положения выход всегда можно найти, было бы желание.
Встретились мы с Хорошкиным около каравана, прижавшегося к яру левого берега в районе Луговой Пролейки. Я пришел с двумя катерами-тральщиками без тралов, а контр-адмирал – на бронекатере.
Если верить капитану буксира, то вокруг каравана, приткнувшегося к берегу, фашисты за одну минувшую ночь с одного самолета поставили двенадцать мин, да так плотно одна к другой, что не выскользнуть из минного мешка даже лодке, не то что пароходу.
Мин было явно многовато, сам собой напрашивался вывод, что капитан буксира обыкновенные бомбы посчитал минами, но невольно думалось: а вдруг хоть одна да лежит, затаившись? А у парохода на буксире три баржи-нефтянки…
Контр-адмирал долго и терпеливо убеждал капитана в том, что нужно продолжать рейс, говорил и о невозможности постановки такого количества мин с одного самолета и что здесь караван ночью обязательно разбомбят. Капитан упрямо твердил свое:
– Я за пароход и груз отвечаю. Пока не уберете мины – с места не тронусь.
– Да тебя за это упрямство расстрелять мало! – сунулся в разговор и я, потеряв терпение.
И вот тут капитан расправил плечи, этак пренебрежительно глянул на меня и сказал:
– Хоть что делайте, а от правды не отступлюсь, не поведу пароход на явную гибель.
Я понял, что он в своем упрямстве стоит за большую правду, ради которой готов и смерть принять.
Казалось, мирные переговоры зашли в тупик, и я растерялся, не знал, что делать дальше. И тут Хорошкин как-то с грустью посмотрел на капитана, на команду парохода, толпившуюся тут же, и сказал предельно спокойно, даже вроде бы равнодушно:
– Стоять вам здесь – равносильно самоубийству: обязательно разбомбят. Единственное спасение – немедленно двигаться дальше. Но, говорите, кругом мины? Так вот, фашисты ставят магнитные мины, которые взрываются от присутствия железа. Видите бронекатер? Он сплошь железный. И на нем я сейчас пойду через ваше минное поле. А вы – следом. И держитесь точно за мной. Если мы проскочим, значит, мин здесь нет. Если взорвемся – и вовсе смело идите вперед: там мины уже не будет. – И, повернувшись ко мне: – Со мной пойдешь или на одном из своих тральщиков?
Я пошел с адмиралом.
Не буду утверждать, будто на душе у меня было сплошное ликование, но хорошее волнение преобладало – это факт: на глазах стольких свидетелей на подвиг согласился; это вам не одно и то же, что взрываться во время обыкновенного траления.
Но и мы, и караван прошли благополучно.
– Понял, как сейчас действовать надо? – спросил Хорошкин, когда мы вывели караван на судовой ход.
Позднее (дня через три или четыре) адмирал преподал мне еще один урок, тоже врезавшийся в память на всю жизнь.
Тогда Хорошкин вызвал меня в Горный Балыклей, где, по словам местных жителей, две мины упали на берег и ушли в землю, но не взорвались, а третья – в реку точно по приверху острова и метрах в ста – ста пятидесяти от него. На Горный Балыклей базировался дивизион катеров-тральщиков капитан-лейтенанта А. Аржавкина. У него был свой дивизионный минер, однако адмирал вызвал меня – пришлось прибыть.
Разговор с адмиралом был более чем краток:
– Посмотри, что за штуки там упали, и уничтожь их.
Вот и все, что он сказал мне при встрече.
Действительно, на берегу зияли две дыры с такими ровными стенками, словно здесь кто-то специально занимался бурением. У некоторых немецких неконтактных мин на тот случай, если они упадут на берег или палубу корабля, были установлены специальные взрыватели, уничтожавшие мину в момент соприкосновения с землей или палубой корабля. Здесь взрыва не было. Может быть, взрыватель почему-то отказал? Нет, маловероятно, что немецкие летчики так здорово промазали: ведь почти в километре от реки эти дыры!
Да и корпус у мины не такой прочный, чтобы уцелеть после удара о землю, так что, скорее всего, это авиационные бомбы.
Так решил я сразу после внешнего осмотра отверстий, а когда, расширив одно из них и втиснувшись в него почти по пояс, нащупал обломившийся стабилизатор, и вовсе убедился в правильности своей догадки. А дальше все было просто: выставили оцепление, на жердях опустили в отверстия заряды и взрывом их вызвали детонацию бомб.
– А с той штукой, что в реку упала, справиться не попробуешь? – спросил адмирал.
Я взял на полуглиссер четыре малых глубинных бомбы и показал мотористу, каким курсом ему следует вести наш катер.
И на этот раз счастье было на моей стороне: от взрыва одной из малых глубинных бомб сдетонировала авиационная бомба (или все же мина?) килограммов на пятьсот. Так что к дебаркадеру мы возвращались победителями. Но – странное дело! – адмирал теперь будто не замечал меня, даже слова похвалы не обронил. Я, конечно, обиделся.
С наступлением темноты над нами загнусавили немецкие самолеты. Нет, они еще не бомбили, не обстреливали нас, они еще только высматривали жертву, однако настроение у нас сразу упало, так как в то время мы еще не имели аи зенитных пулеметов, ни автоматических пушек. Например, на катере-тральщике Мараговского, где я теперь размещался, был установлен на треногу только один немецкий станковый пулемет образца 1914 года, обладавший способностью даже при малейшем угле возвышения бить лишь одиночными выстрелами и сразу же давать перекос; а на некоторых катерах-тральщиках было лишь по одному ручному пулемету. Много ли с таким оружием навоюешь против «юнкерсов» и «мессершмиттов»?
И мы притихли, в душе тая надежду, что сегодня авось бомбежка и обстрел минуют нас.
Вдруг Хорошкин, стоя около полуглиссера, кричит мне:
– Может быть, прогуляемся, старший лейтенант?
И мы вдвоем на полуглиссере выходим на середину реки, где адмирал приказывает мне сбросить скорость и начинает из винтовки, которую он прихватил с собой, стрелять по теням проносящихся над нами самолетов.
Он стрелял, а меня все это время мучили вопросы: «Неужели он надеется сбить вражеский самолет? Или бахвалится своей храбростью?»
Хотя «бахвалиться» ему никакой необходимости не было: на его груди сверкало несколько орденов, что было красноречивее всяких слов.
Расстреляв обоймы две или три, Хорошкин приказал подойти к острову. Там, когда я заглушил мотор, он и спросил:
– Обиделся, что днем не поздравил с успехом?
– Было дело, – ответил я.
– А ведь и ты не поздравил, не поблагодарил своих товарищей, которые помогали тебе взрывать бомбы на берегу. Понял теперь, каково у них на душе после твоей невнимательности? Человек любит, когда его успехи своевременно отмечаются. – И сразу же – без какого-либо перехода: – Почему, думаешь, я вышел с тобой на этой скорлупе? Сбить вражеский самолет захотелось?
– Не думаю…
– И правильно делаешь, – будто обрадовался адмирал. – А выйти нам нужно было обязательно: уверен, сейчас все матросы с карабинами и винтовками сидят. Воевать, а не умирать изготовились!
Урок был предметный, глубокий, и впредь самолеты врага мы встречали из всех видов оружия, вплоть до ракетниц: ведь немецкий-то летчик не знал, что мы от бессилия стреляем ракетами, он-то, возможно, думал, что мы кому-то показываем на него, и спешил ретироваться, дав моторам предельную нагрузку.
Только однажды мы изменили этому правилу. Тогда (после сравнительно близкого взрыва мины) у нас отказал мотор, и мы для ремонта приткнулись к берегу, где нас и нашел самолет врага. Он появился необычно рано – небо еще только начало темнеть – и прошел над нами так низко, что, казалось, вот-вот собьет нашу мачту. А у нас случилось так, что команды на верхней палубе – кот наплакал: минеров Мараговский послал в деревню взорвать обнаруженные там бомбы, мотористы возились в машинном отделении, а все прочие (кроме вахтенного) заготовляли чурку для газогенераторного катера-тральщика, работавшего с нами в паре.
Короче говоря, у нас было самое дурацкое положение: катер лишен хода, значит, не может и маневром уклониться от атаки самолета, а какую огневую мощь могли создать мы трое, если у нас были только карабины?
Самое разумное, казалось бы, – покинуть катер, ибо до гибели его оставались считанные минуты. Но поступить так, оставить на растерзание врагу катер – это было выше наших с Мараговским сил.
Не помню, кому из нас пришла в голову эта мысль, но мы все трое просто уселись на палубе вокруг бухты пенькового троса. Сидели, делали вид, будто нет здесь никакого вражеского самолета, а сами краешком глаза внимательно следили за ним. Вот он пикирует на катер, еще немного – и затарахтят его пулеметы или раздастся вой бомб…
Но что это? Самолет почему-то резко отвалил в сторону! Кого он испугался?
Круга два или три сделал вражеский бомбардировщик над нами, но атаковать так и не осмелился. Почему? Мое мнение – летчика насторожило, что мы просто так сидим вокруг бухты троса, он видел в этом какой-то подвох. И, оберегая себя, отказался от вернейшей атаки.
За годы войны я был участником или свидетелем нескольких подобных курьезов. Так, в октябре 1942 года, когда мне пришлось работать на сталинградских переправах, однажды я нарушил все инструкции и наставления, в военном отношении действовал абсолютно безграмотно, но не получил в борта катеров даже шального осколка.
Тогда вражеские артиллеристы и минометчики встретили мои катера залпами, которые легли точно по нашему курсу. Согласно военной науке я был обязан немедленно начать маневрирование скоростью и курсом, чтобы сбить вражескую пристрелку! А я – молчу, не подаю ни одной команды. Стою в рубке головного катера и наблюдаю, как разрывы вражеских снарядов прыгают по реке, пытаясь предугадать мой маневр, которого я так и не сделал.
В том, что все случилось так, а не иначе, как мне кажется, большую роль сыграло не только везение, но и то, что мы действовали неожиданно для врага.
Конечно, этот случай стал предметом обсуждения на командирской учебе. Кое-кто из моих товарищей довольно-таки яростно нападал на меня за пренебрежение к азбучным истинам военной науки. Конец дискуссии положил Кринов, который только и сказал:
– Бой – не игра, где надо действовать по правилам. Кроме того, как известно, победителей не судят.
Да, для меня контр-адмирал Хорошкин являлся образцом командира, у которого нужно было многому поучиться, которому во многом должно было подражать. Лишь одного я не понимал и не одобрял: его частых попыток на какое-то время из командира бригады превращаться в командира катера или даже в рулевого, минера, пулеметчика. Например, он еще не раз на бронекатере проносился по минным полям, доказывая речникам, что фарватер свободен от мин. Во время одного такого отчаянного рейса в Чертовском Яру он и погиб вместе с бронекатером.
Трагическая и преждевременная гибель контр-адмирала Б. В. Хорошкина глубоко потрясла нас всех, кто знал и любил его. И позднее с огромным удовлетворением мы восприняли известие, что впредь один из боевых кораблей Советского Военно-Морского Флота будет называться «Контр-адмирал Хорошкин».
Итак, в первые дни минной войны на Волге задачами катеров-тральщиков являлись обнаружение минных полей врага и уничтожение мин, отыскание обходных фарватеров, проводка по ним караванов и охрана их от нападения с воздуха. И, разумеется, изучение тактики врага.
Изучили тактику врага – получили возможность провести ряд мероприятий, которые значительно снизили эффективность бомбовых и минных ударов врага. Например:
фашисты ставили мины ночью, ориентируясь по огням, обозначающим судовой ход, и мы погасили все бакены, створы и перевальные знаки. Теперь врагу пришлось швырять мины куда придется. А Волга (особенно – в период половодья) очень широка, и многие мины попадали в несудоходные воложки и даже на заливные луга, где потом и обсохли;
фашисты бомбили караваны с наступлением темноты, и мы к ночи все суда притыкали к берегу и тщательно маскировали. Вот и ходили теперь фашисты часто над будто бы чистой рекой, вот и швыряли бомбы просто так, «на авось».
Однако фронт минной войны рос, ширился изо дня в день и скоро захватил всю Волгу уже от Никольского (значительно ниже Сталинграда) до Золотого (района Саратова).
Задачи перед нами стояли серьезные, объемные, и скоро мы забыли, что недавно жили по распорядку дня, что еще недавно у нас были даже подъем и отбой.
Вот как, помнится, прошли для нас только одни сутки в тот период минной войны.
Рассвет застал нас – два катера-тральщика и два бронекатера – в конвое буксирного парохода «Крестьянин», который вел за собой три нефтеналивные баржи. И весь долгий день мы были рядом с этим караваном, готовые в любую минуту открыть огонь по вражескому самолету, если он появится и осмелится атаковать. И двух отогнали.
А с наступлением ночи приткнули караван под яр левого берега в излучине ниже Быковых хуторов, тщательно замаскировали и продолжали нести вахту около него. Вечер был тих, ночь – звездная. Благодать, а не погода: и не холодно, и жара изнуряющая спала.
Едва стемнело, появились вражеские самолеты. Они, получив сведения от своих разведчиков, настойчиво искали наш караван, но пока безрезультатно. Мы даже начали подумывать, что сегодняшняя ночь окажется хотя и бессонной, но спокойной – без бомбежки и пулеметных очередей.
И вдруг с правого берега одна за другой взвились две белые ракеты и погасли, не дотянувшись до каравана. Стало ясно, что это ракетчик, которого мы не смогли своевременно обнаружить.
Самолеты, разумеется, заметили эти ракеты и вернулись в наш район. Тогда и взвилась еще одна ракета. Немедленно, придерживаясь ее следа, лег на боевой курс один из самолетов, вслепую сбросил бомбу, которая взорвалась на берегу, метрах в десяти от каравана.
Из опыта минувших подобных боев я уже знал, что теперь летчики, веря своему ракетчику, методично перепашут бомбами всю кромку нашего берега и обязательно нащупают караван. Чтобы попытаться спасти его, оставалось одно – принять бомбовый удар на себя, и мы, два бронекатера и два катера-тральщика, выскочили на середину реки и открыли огонь по тому месту, откуда недавно взвилась ракета, и по самолетам, вернее, по черному небу, в котором они кружили; мы всячески старались доказать летчикам, что мы и есть та самая цель, на которую им указывалось.








