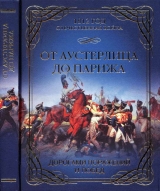
Текст книги "От Аустерлица до Парижа. Дорогами поражений и побед"
Автор книги: Олег Гончаренко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Эти «Мысли» доктора Клитманна вызвали, с моей стороны, следующий ответ: 1) в моей статье указаны источники, чего он не сделал в своих «Мыслях». 2) Он говорит лишь о ВТОРОМ дне Кульмского сражения, о 18/30 августа 1813 года. Но сражение то продолжалось в действительности не один, а два дня, 17/29 и 18/30 августа. В моей статье внимание сосредоточено на ПЕРВОМ дне сражения, на этом дне – Русской победы, когда русской гвардии был пожалован Железный крест его учредителем, прусским королем. 3) Потери русских за первый день сражения исчисляются следующими цифрами:
а) 1-я гвардейская пехотная дивизия (преображенцы) – 700 чел., Семеновцы – 1000 чел., измайловцы – 500 чел., егеря – 600 чел., итого – 2800 чел.;
б) 2-й армейский корпус князя Шаховского и отряд генерала Гельфрейха – 2400 чел.; в) кавалерия – 600 чел. Всего – 6000 чел., но никак не 1002, как утверждает д-р Клитманн. 4) Д-р Клитманн упорно настаивает на «особом» отличии за Кульм, но все русские современники говорят только о Железном кресте. Если бы 17/29 августа 1813 года прусский король действительно хотел создать СПЕЦИАЛЬНОЕ отличие за Кульм, разве ему не хватало художественного воображения? 5) В первый день сражения при Кульме французы встретили отпор только от русских, благодаря сообразительности гр. Остермана-Толстого. Прусский корпус генерала Клейста был тогда далеко (между деревнями Хансдорф и Фюрстенвальд). По приказу императора Александра I этот корпус совершил обходный марш и вышел в тыл французам во ВТОРОЙ день сражения, 18/30 августа. В атаке русской кавалерии 17/29 августа принял участие один только австрийский драгунский (эрцгерцога Иоанна) полк. В подтверждение этих данных я отослал доктору Клитманну ряд новых цитат из немецких, французских и русских источников.
Доктор Клитманн ответил мне новым письмом от 21 мая, в котором он говорит, что основывался только на официальных документах, часть коих погибла во время войны, часть же – вне достижимости читателей... Затем он утверждает, что: 1) сражение при Кульме произошло 18/30 августа, а накануне, 17/29, произошли только «стычки», названные «боем при Пристене», согласно документам прусского Генерального штаба; 2) что число убитых и раненых русских за 18/30 августа (т. е. только за ВТОРОЙ день сражения) без «боя при Пристене» – согласно русской статистике от 2 сентября 1813 года, переданной графом Аракчеевым прусскому королю, указывает 1002 чел. 3) «Я настаиваю, – пишет далее доктор Клитманн, – на том, что сражение при Кульме 18/30 августа должно быть отделено от боя при Пристене 17/29 августа» (о котором я не говорил...). Пристен – это чисто русская победа с потерями в 6000 человек, а Кульм – это русско-прусско-австрийское сражение».
Резюмируя вышеизложенную переписку, мы смело заключаем, что авторитетному доктору Клитманну не удалось опровергнуть данные, изложенные в первоначальной статье о Кульмском кресте, но следует остановиться на способах, коими он старается статью «подминировать», и не только статью, но и все «мысли» самого короля прусского, выдумавшего Кульмский крест вместо Пристенского... оказавшийся все тем же Железным крестом 1-й степени.
Военная история знает много подобных примеров, ведь в 1856 году, на открытии памятника на поле сражения при Прейсиш-Эйлау, в присутствии короля прусского, делегации от русской армии не было... Отчего? Да потому, что прусские военные историки в конце концов пришли к заключению, что это кровопролитное сражение, когда из 65 000 русских выбыло из строя 26 000, не было выиграно французами благодаря им, пруссакам. Правда, тогда, 27 января 1807 года утром, прусская армия была представлена тремя конными батареями, но 17/29 августа 1813 года при Пристене из пруссаков был лишь король со свитой.
В.Г. фон Рихтер
P.S. Тут возникает старый «больной» вопрос: отчего при награде были забыты «армейские» части, потери которых были только несколько ниже? А ведь дрались они без патронов, штыками...
ОСМЫСЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА
Патриотические настроения в Отечественную войну [76]76
Напечатано в издании «Отечественная война и русское общество». Там статья эта была как бы вводной частью к заключительному очерку «Правительство и общество после войны» (помещена ниже). В отдельном издании, казалось, более логичным поместить эту часть в виде заключения к очеркам, посвященным 1812 г.; тем более что в ней характеризуется, хотя и бегло, последний этап деятельности Ростопчина.
[Закрыть]
1812 год ознаменовался подъемом патриотических чувствований и настроений.
Современная литература, привыкшие к официальному виршеству стихотворцы, правительственные манифесты наперерыв превозносили доблести и героизм русского народа, проявленные в период Отечественной войны. Неудержимый поток восторга, самого грубого шовинистического задора, издевательства над неудачей врага – вот что характеризует нам господствующий тон общественного настроения после двенадцатого года. Патриотические манифесты, составляемые Шишковым, провозглашали дифирамбы «верности и любви к отечеству, какие одному только русскому народу свойственны» (манифест от 3 ноября 1812 г.). «Войска, вельможи, дворянство, духовенство, купечество, народ, словом, все государственные чины и состояния, не щадя ни имуществ своих, ни жизни, составили единую душу, душу вместе мужественную и благочестивую, толико же пылающую любовь к отечеству, колико любовью к Богу», – гласил манифест, подписанный Александром в Вильно 25 декабря 1812 г. За манифестами то же повторит и ранний историк: «Россия не во все времена от всех народов отличались любовью и привязанностью к престолу своих государей: но в Бонапартовскую войну... все стремились с неописанной ревностью на истребление врагов своих, нарушивших спокойствие их отечества» {15} . Те же мотивы, как мы знаем, звучат и в «бешеных» статьях «Сына Отечества», и в благодарственных одах и патриотических песнях 1813 г. «Русский Сцевола» – одна из любимых тем карикатуристов. Этому восторгу отдает дань и будущий певец гражданственности, семнадцатилетний юноша Рылеев: «Низойдите тени героев, тени Владимира, Святослава, Пожарского!.. Оставьте на время райские обители! – Зрите и дивитесь славе нашей»... «Возвысьте гласы свои, Барды. Воспойте неимоверную храбрость боев русских! Девы прекрасные, стройте сладкозвучные арфы свои: да живут герои в песнях ваших»...
Всякое виршество страдает преувеличением, и особенно виршество начала XIX века, привыкшее воспевать героев в выспренних формах ложного классицизма. Но, по-видимому, и в жизни каждый русский гражданин готов был себя считать спасителем Отечества. «Всякий малодушный дворянин, – писал Ростопчин Александру 14 декабря 1812 г., – всякий бежавший из столицы купец и беглый поп считает себя, не шутя, Пожарским, Мининым и Палицыным, потому что один из них дал несколько крестьян, а другой несколько грошей, чтобы спасти этим все свое имущество».
«Тупую гордость во всех сословиях», «в каждом сознание, что без него государство погибло», отмечает тот же Ростопчин в письме Воронцову в начале 1813 г.
Упрекавший других в патриотическом самообольщении, в действительности более всех страдал этим сам Ростопчин, еще в 1812 г. объявивший себя спасителем Отечества. Он разрушил козни Наполеона и по возвращении в Москву «спас всех от голода, холода и нищеты» {16} .
Действительность, конечно, была очень далека от этого апофеоза деяниям героев 1812 г. «Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе» – написал Л.Н. Толстой в наброске предисловия, которое хотел предпослать своему роману. Жизнь есть проза, где эгоистические побуждения и материальные расчеты играют так часто первенствующую роль, где примеры бескорыстного идейного служения являются скорее исключением. И патриотизм в эпоху Отечественной войны, патриотизм естественный и в значительной степени эгоистический, как отметил Ростопчин в процитированном письме Александру, далеко не всегда был окрашен тем розовым цветом, в каком пытается его обрисовать патриотическая историография вплоть до наших дней.
Истинный патриотизм выражается «не фразами, не убийством детей для спасения Отечества и тому подобными неестественными действиями», а «незаметно, просто, органически и потому производит всегда самые сильные результаты». Правдивость этого замечания Толстого в «Войне и мире» может быть легко подтверждена фактами. Крикливые шовинисты 1812 г. в действительности менее всего были способны к самопожертвованию. Пушкин в своем «Рославлеве» дал самую ядовитую и злую характеристику тем «заступникам Отечества», патриотизм которых проявлялся лишь в «пошлых обвинениях в французомании», – в «грозных выходках против Кузнецкого Моста». «Гонители французского языка и Кузнецкого Моста взяли в обществе решительный верх, и гостиные наполнились патриотами. Кто высыпал из табакерки французский табак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюр; кто отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все заклялись говорить по-французски, все заговорили о Пожарском и Минине и стали проповедовать народную войну, собираясь надолго отправиться в Саратовские деревни».
В этом внешнем патриотизме было в действительности очень мало глубокого чувства, зато много искусственности и сентиментализма, довольно ярко очерченных в воспоминаниях о Москве Хомутовой. Когда не верилось еще в возможность появления Наполеона под стенами Москвы, все пылали патриотизмом: молодые девушки воображали себя «то амазонками, то странницами, то сестрами милосердия» и примеривали на себе соответствующие костюмы. Тогда играли в патриотизм, и кн. Вяземский вербовал полк из женщин, давая пароль: «Aimer toujour». Так было 22 июля. А уже 10 августа эти горячие патриоты «с видом отчаяния» «думали только о бегстве и о том, чтобы увезти свое добро или зарыть его в землю, либо замуравить в стену». «Бледные и трепещущие, они покрывали стены постоялых дворов чувствительными надписями: "Le mot adieu, ce mot terrible"... "Je vous salue, о lieux charmants, quittes avec tant de tristesse"...» [77]77
«Слово прощания – ужасное слово»... «Приветствую вас, о очаровательные места с налетом легкой грусти» (франц.).
[Закрыть]
Но и это чисто внешнее возбуждение далеко не простиралось на всю Россию. «В Тамбове, – пишет Волкова 30 сентября, – все тихо, и если бы не вести московских беглецов да не французские пленные, мы бы забыли, что живем во время войны». В то время как «вся Россия в трауре и слезах», в Петербурге веселятся и салонный патриотизм выражается лишь в том, что «в русский театр ездят более, чем когда-либо».
Недаром молодой Никитенко в свой дневник записал: «Общество наше поражало невозмутимым отношением к беде, грозившей России».
Когда от слов приходилось переходить к делу, патриотический мираж тускнел.
И это прежде всего приходится сказать про то дворянство, которое в изображении манифеста 1814 г. представляло «ум и душу» народа, которому достались наиболее лестные отзывы (напр., в речи Александра в Москве 16 августа 1816 г.), которое, по проекту шишковского манифеста, должно было стоять на первом плане и деятельность которого в то же время у некоторых современников находила совсем иную оценку. Каким диссонансом зазвучит знаменитый ответ кн. С.Г. Волконского на вопрос Александра, каков «дух народный». «Вы должны гордиться им: каждый крестьянин – герой, преданный отечеству и вам». – «А дворянство?» – «Стыжусь, что принадлежу к нему, было много слов, а на деле ничего». Чем же объяснить этот суровый отзыв человека, принадлежавшего к самым привилегированным слоям аристократического общества и в то время еще не вкусившего запретного плода западноевропейского просвещения? Чем объяснить позднейший отзыв о роли дворянства в 1812 г. «В годину испытания... не покрыло ли оно себя всеми красками чудовищнейшего корыстолюбия и бесчеловечия, расхищая все, что расхитить можно было, даже одежду, даже пищу, и ратников, и рекрутов, и пленных, несмотря на прославленный газетами патриотизм, которого действительно не было ни искры, чтобы ни говорили о некоторых утешительных исключениях» {17} .
История дворянских ополчений (к сожалению, еще так мало разработанная), пожалуй, дает уже ответ на поставленный вопрос. Когда дворяне жертвовали «всем», как выражался в своих «письмах» офицер Ф.Н. Глинка, когда калужское губернское дворянское собрание постановляло: «Не щадить в случае сем не только своего достояния, но даже жизни до последней каждой капли крови», оно в действительности никогда не забывало своих интересов. «Общая необходимая защита своей собственности» [78]78
Так выражался впоследствии Казимирский в письмах к кн. Оболенскому 3 сентября 1859 г.
[Закрыть]побуждала к патриотическим действиям, к откликам на призыв правительства. Тем более что призыв подчас высказывался в очень категорической форме как показывает, напр., дело о сборе с московских граждан 1 000 000 руб. на покупку волов. По этому поводу в отношении Балашова к Ростопчину 6 июня весьма определенно говорилось, что государю угодно «составить или добровольным приношением, или сбором посредством общей раскладки сумму миллион рублей». Общая раскладка эта уже относится к области принуждения, а не добровольной дачи. Любопытно, что на призыв 18 июля о добровольных приношениях из числа именитых граждан откликнулось только трое иностранцев. Также не удалось собрать добровольных приношений и со стороны дворянства, на которое пала половина нужной суммы, и пришлось прибегнуть к раскладке по числу ревизских душ. Ополчения носили тот же характер общей раскладки. Это – любопытная черта для характеристики патриотического движения в так называемую Отечественную войну. Правительство Александра, при своей всегдашней подозрительности к дворянству из-за боязни проявления самодеятельности в этой олигархической среде, всемерно противилось даже в эпоху народной войны инициативе, исходившей не из кругов правительства. Всякого рода пожертвования рассматривались не как патриотический долг, а как правительственная обязанность. Яркое подтверждение можно найти в истории рязанской депутации, отправленной в Москву с предложением дать 60 000 работников. Министр полиции Балашов очень резко принял эту депутацию и немедленно предложил ей выехать обратно. Нужно было дожидаться момента, когда правительство само запросит дворянство. И понятно, что при таких условиях многие из якобы добровольных пожертвований попросту не поступали фактически в кассу {18} . Приходилось обращаться к системе пени за недоимки, т. е. к системе, обычной при взимании каких-либо налогов и податей.
Организуя ополчения, помещики весьма тщательно наблюдали свои выгоды [79]79
«Конечно, всякий старался соблюсти свои выгоды, – замечает Свербеев, – от давались люди пожилых лет, не отличного поведения и с телесными недостатками, допускаемыми, как исключения, для этого времени в самых правилах о наборе ополченцев».
[Закрыть], сдавая в ополчения ненужные или вредные элементы крепостной деревни, в уверенности по примеру милиции 1806 г., что за этих ополченцев они получат рекрутские квитанции, или перенося всю тяжесть на зажиточных крестьян, которые должны вместо себя ставить ополченцев. При таких условиях уже a priori можно было бы заподозрить полную правдивость правительственного извещения (манифест от 3 ноября 1812 г.), что крестьяне «охотно и добровольно» вступали в ополчение. Хомутова в своих воспоминаниях свидетельствует, что сдача в ополченцы «на каждом шагу» сопровождалась «раздирательными сценами». Она говорит это про Москву. Но и в Симбирске ей пришлось быть очевидицей таких же сцен. По «тогдашнему обыкновению», замечает другой неизвестный нам современник, отдача в рекруты в 1812 г. «обязательно сопровождалась воем и плачем». Эту обыденность мы и встречаем в год исключительного подъема патриотизма, когда, по словам Вигеля, «прекратились все ссоры, составилось общее братство».
Несомненно, в эту годину были примеры самого горячего юношеского энтузиазма: 16-летний мальчик, будущий декабрист Никита Муравьев, скрывается из дому, чтобы принять участие в борьбе с французами. Будущий же декабрист Лунин просит послать себя парламентером, чтобы, как говорит Н.Н. Муравьев, «всадить ему (Наполеону) в бок кинжал», и т. д. Можно привести и другие примеры такого юношеского воодушевления. Но вряд ли от этого изменится картина общей обыденщины, той жизненной прозы, которая очень и очень была далека от воспетого в лирико-эпических произведениях современников.

Портрет офицера ополчения 1812 года. Неизвестный художник
Беспристрастие скорее заставит согласиться с той же Хомутовой, которая так охарактеризовала общественные настроения в 1812 г.: «Одни готовы были все принесть в жертву Отечеству; другие желали бы спасти его, не слишком вредя собственному благосостоянию; некоторые полагали, что все эти жертвы бесполезны». С такой оценкой, в сущности, соглашаются и те современники, которые на словах умели проявлять наиболее крикливое «патриотическое» воодушевление, и между ними, конечно, на первом месте стоит гр. Ростопчин, приписавший себе честь обращения русской знати на истинный путь патриотического бескорыстия. За это на первых порах его многие из современников готовы были возвести на высокий пьедестал. «Я могу сравнить вас, – писал Ростопчину С.Р. Воронцов 7 марта 1813 г., – только с князем Пожарским; но ваше призвание было труднее его задачи... наше ложное образование, развиваемое нашим правительством... уже давно успело бы затушить в нас всякую искру патриотизма (так же как она затушена у других народов), если бы наш патриотизм не восторжествовал над угнетающей его силою, так сказать, вопреки правительству». «Ты не знаешь, что было в Москве с конца июля, – пишет Волкова своей корреспондентке 11 ноября 1812 г. – Лишь человек, подобный Ростопчину, мог разумно управлять умами, находившимися в брожении, и тем предупредить вредные и непоправимые поступки» {19} . Цитируя этих современников, мы входим вновь в сферу «пошлых обвинений», т. е. шаблонных памфлетических нападков на галломанию общества.
См. также вышеприведенные отзывы Рунича и Вигеля в очерке о Ростопчине.
«Патриоты», за исключением, быть может, наивного Сергея Глинки и недалекого старца Шишкова, как мы уже знаем, отличались, в сущности, сами в большой степени тем «нелепым пристрастием» к внешнему лоску утонченной французской культуры, за которое обвиняли других. К ним почти ко всем применима остроумная басня Измайлова «Шут в парике» (1811), в которой метко вышучивались модные обличительно-патриотические нападки: шут нападает на одежду и, когда его уличают в ношении французского парика, кричит: «Безбожник, изменник, фармасон. Сжечь надобно его, на веру нападает».
Националисты торжествовали в 1812 г., когда вдруг в русском обществе проявилось желание говорить и писать на родном языке, когда «офранцузившаяся» знать в виде протеста скидывает французские платья и заменяя роброны русскими сарафанами (Вигель), когда Гнедич приходил в ужас, услыхав, как молили «Бога о спасении отечества языком врагов Бога и отечество, сохраняя выговор во всем совершенстве». Ростопчин, вероятно, сам молившийся Богу на французском языке и не могший обойтись без французского повара, с удовольствием констатировал в 1813 г. в «Русском вестнике», что Кузнецкий Мост обрусел и вместо «Викторины Пешь, Антуанетты, Лапотера, лавок a la Corbeille, Au Temple du bon gout [80]80
У Курбеля, Храм хорошего вкуса (франц.).
[Закрыть]торгуют Карп Майков, Доброхотов, Абрам Григорьев, Иван Пузырев». Даже такой умный человек, как Мордвинов, и тот поддается общему шаблону; и он пишет из Пензы в ноябре 1812 г. Кутлубицкому: «Благословенное время доброго начала... все злые духи бегут по всем дорогам из городов наших; исчадия адские – французское учение... французские прихоти... французские книги» [81]81
Любопытно, что совершенно аналогичное явление мы, современники второй «великой европейской войны», наблюдали через 100 лет. Так устойчива, в сущности, общественная психология.
[Закрыть].
Недолго, однако, продолжался и этот налет чисто внешнего патриотизма. Ушел враг, и жизнь быстро вернулась в свое старое русло. Прежняя «галломания» захватывает широкие круги дворянства еще в большей степени. Бывало прежде, иронизирует Ростопчин, «приедет француз с виселицы, а его наперехват, а он еще ломается». Но теперь так легко приобщиться заманчивым благам утонченной французской культуры – к ее внешнему лоску. Теперь так легко и дешево получить французского «учителя» из числа оставшихся в России прежних врагов. Эти «выморозки» рассыпались во внутренние губернии. Каждый мелкопоместный дворянин может теперь тягаться со знатнейшими домами, имея «своего» француза. И каждый «порядочный дом», по словам Гнедича, действительно считает своим долгом держать отныне французского учителя.
После 1812 г., свидетельствует нам Жихарев, французский язык распространился еще больше. Лишь только «прононская гнусливость» несколько изменилась: стали «держаться чего-то среднего между горловым гнусливым» {20} . Сам Ростопчин должен уже в мае 1813 г. признать в письме издателю «Русского вестника», что пристрастие к французам не исчезло, «еще усилилось от учтивого какого-то сострадания к несчастным». «Русское дворянство, – пишет он Александру 24 сентября 1813 г., – за исключением весьма немногих личностей, самое глупое, самое легковерное и наиболее расположенное в пользу французов». Так как 1812 г. не излечил русских от «нелепого пристрастия к этому проклятому отродью», то Ростопчин советует «серьезно приняться за уничтожение этих восторженных поклонников». Ему по-прежнему мерещится революция там, где ее не было и не могло быть.
В сущности, вся деятельность Ростопчина в возобновленной из пепелища Москве проникнута сыском к обнаружению тех, которые в 1812 г. не проявили должного патриотизма, т. е. стояли в стороне от той крикливой шумихи, которой выражался в значительной степени общественный патриотизм Отечественной войны.
Первым распоряжением московского генерал-губернатора было предписание (13 октября) московскому обер-полицмейстеру Ивашкину «удостовериться путем опроса, кто помогал французам» [82]82
Были обнаружены 21 русский и 37 иностранцев.
[Закрыть]. Начинается «ловля» тех, кто участвовал в муниципалитете, составляются особые списки «колодников», находившихся на службе у французов [83]83
Насчитано 17.
[Закрыть], и, наконец, производятся опросы отдельных лиц, провинившихся, по мнению Ростопчина. Ростопчин, долгое время, как мы знаем, задерживавший выезд из Москвы населения, теперь готов зачислить в число изменников всех тех, кто остался в Москве. Этих лиц и призывают к ответу, и, по-видимому, ото всех получалось довольно стереотипное объяснение. Некто титулярный советник на вопрос, почему он остался в Москве, отвечает: «Его сиятельству угодно было обнадежить московских жителей, чтобы они ничего не боялись и что французы отнюдь сюда впущены не будут». На тот же вопрос, по словам М.И. Димитриева, не без остроумия и язвительности отвечает кн. Шаликов: «Ваше сиятельство объявили, что будете защищать Москву... со всем московским дворянством... Я явился вооруженный, но никого не застал».
К таким же «якобинцам» был отнесен и дворянин Вишневский, пытавшийся, по словам Ростопчина, убедить дворян остаться в Москве (письмо Александру от 17 марта 1813 г.).
Не оставляются в покое и старый Новиков, и враг Ростопчина Ключарев. До Ростопчина доходит слух, что Новиков принимал больных из неприятельской армии. Для «патриота» Ростопчина, столь жестоко расправившегося по приезде в Москву с пленными больными французами, была органически непонятна возможность филантропии к врагу. И бронницкому исправнику Давыдову отдается 15 октября предписание узнать в соседних селениях, «какие сношения имели с неприятелем в с. Авдотьине Новиков иве. Валовом Ключарев». Таким путем Ростопчин обнаружил целый ряд «изменников». С одними он расправлялся сам [84]84
«Вольнодумец» титулярный советник Поспелов был посажен в «железе», других отдавали в солдаты.
[Закрыть], других, по предписанию Александра, сажал в кибитки и отправлял в Петербург. Вначале сыск, по-видимому, не давал больших результатов. «До сих пор, – пишет Булгаков, – нам удалось арестовать только двух подьячих, которых граф тотчас отдал в солдаты». Затем последовали «иностранцы», «купцы-раскольники», «мартинисты», «якобинцы». В целях более успешного сыска, «для удаления неподходящего элемента», Ростопчиным принимаются соответствующие меры учета населения.
Но не один гр. Ростопчин разбрасывает обвинения в измене. Все те, кто из страха бежали перед неприятелем, готовы были представлять теперь свои поступки героическим самопожертвованием и обвиняют всех тех, кто не последовал их примеру. «Горько было от неприятелей, – записывает Н.Н. Мурзакевич, – но горше пришлось терпеть оставшимся в городе (Смоленске) жителям от своих приезжих соотечественников. В чем только несчастных не укоряли: и в измене, и грабительстве, и перемене веры».
Однако все те, кто считал себя спасителями Отечества, Миниными и Пожарскими, по мере того, как жизнь входила в свое старое русло, начинали подумывать о восполнении того, что было принесено вольно или невольно в годину бедствий на алтарь Отечества. В данном случае чрезвычайно характерны те прошения и ходатайства, с которыми многие представители московского общества обращались к правительству в целях возмещения понесенных убытков от московского пожара. Когда была открыта эта запись в книгу «явочных просьб», мы встречаемся наряду с заявлениями претензий со стороны беднейших слоев населения прошения и от богатейших представителей московской аристократии. Если одни это делают в целях только довести как бы до сведения правительства о понесенных убытках, то другие предъявляют весьма часто необоснованные претензии. Среди заявивших претензию на возмещение убытков мы видим представителей самых знатных фамилий: гр. А.Г. Головин – на 229 000 руб.; гр. И.А. Толстой – 200 000 руб., и дальше кн. Засекина, кн. А.И. Трубецкой и т. д.
Потерянные вещи перечисляются до смешных мелочей; напр., в реестре кн. Засекиной мы встречаем 4 кувшина для сливок, 2 масляницы, чашка для бульона; дочь бригадира Артамонова перечисляет новые чулки и шемизетки. Одна дама, по свидетельству Ростопчина (письмо Александру 2 декабря), «поставила в счет 380 руб. за сгоревших канареек»; кн. Голицын предъявляет претензии за убытки, понесенные в его деревнях, и т. д.
Поток прошений был так велик, отыскание похищенных вещей – часто московскими жителями, подмосковными крестьянами и дворовыми – было так затруднительно, что довольно скоро пришлось ликвидировать деятельность по возмещению убытков, понесенных в год нашествия врага и год величайшего патриотического воодушевления.
Таким образом, эгоизм, житейские расчеты всецело торжествуют над идеальными чувствами патриотического воодушевления, торжественно провозглашаемыми в напыщенных одах и официальных реляциях. «При свете ламп и люстр приметно начинал гаснуть огонь патриотического энтузиазма нашего», – замечает Вигель. Эти житейские соображения, в конце концов, развенчивают в московских гостиных и ореол минутного героизма, которым на первых порах окружается имя Ростопчина – спасителя Отечества.
Если Ростопчину еще не приписывается определенно инициатива пожара, то обвинение это уже носится в воздухе. Это действительно обвинение, потому что современники вовсе уже не склонны по подсчету убытков превозносить «патриотическую» жертву. Во всяком случае, нераспорядительность Ростопчина, его нелепые меры защиты столицы, уверения в полной безопасности оставляемого в Москве имущества содействовали увеличению понесенных убытков.
На этой почве постепенно и возрастало недовольство Ростопчиным.
Постоянный корреспондент С.Р. Воронцова, Логинов, в письме от 12 февраля 1813 г. с «великим изумлением» уже отмечает, что «так громко воспевают в Англии великие деяния гр. Ростопчина». «Мнение общества теперь таково, – пишет Логинов, – что все окончательно изверились в него настолько же, насколько раньше верили в его бахвальство». Логинов, и прежде не одобрявший склонность Ростопчина к «ремеслу писаки», передает теперь как бы общее осуждение его литературной деятельности: «Он до сих пор продолжает писать прокламации, вызывающие смех своим слогом и подчас странным содержанием». Итак, Ростопчин возбуждает «почти общий ропот» (слова Штейнгеля). Против него в Москве крепнет оппозиция, во главе которой стоит начальник кремлевской экспедиции П.С. Валуев. Разочаровываются в Ростопчине подчас и наиболее горячие его адепты, как известная нам Волкова. «Я отказываюсь, – пишет она 18 ноября, – от многого сказанного мной о Ростопчине... он вовсе не так безукоризнен, как я полагала... Ему особенно повредила его полиция, которая, выйдя из города в величайшем беспорядке, грабила во всех деревнях, лежащих между Москвой и Владимиром». «Я решительно открываюсь от моих похвал Ростопчину», – добавляет Волкова через месяц. Причиной этого решительного отказа послужила история с магазином Обер-Шальме. Получив приказание от Александра продать с аукциона магазин Шальме, где было товара на 600 000 руб., и раздать деньги бедным, Ростопчин, по словам Волковой, разделил деньги между полицией [85]85
Волкова знала это от своего двоюродного брата, служившего в московской полиции и отказавшегося от своей доли, равно как московский комендант Спиридонов и Б.А. Голицын.
[Закрыть]. По словам Булгакова, дело обстояло следующим образом: «Так как мы (полиция) лишились всего, то он (Ростопчин) объявил нам, что мы вправе взять из магазина Шальме все, что только нам заблагорассудится. Для самого себя граф возьмет (Булгаков писал за несколько дней до „разграбления“) столовый сервиз, так как его собственный сервиз похищен» [86]86
Любопытно, что других грабителей Ростопчин наказывал весьма строго: например, дворовый помещика Власова был прогнан три раза шпицрутенами через 1001 человека.
[Закрыть].
Все это, вместе взятое, с возмущением по делу Верещагина, с возмущением по поводу всегдашнего произвола московского генерал-губернатора не могло не вызывать действительно всеобщего осуждения Ростопчина. Тот, кто приписывал почти исключительно себе лавры победителя, не встречал и поддержки со стороны Александра, который, почти по общему признанию, очень не любил властного «московского барина». Ростопчин чувствовал, что дни его господства сочтены. Он силен был лишь тогда, когда мог устрашать правительство возможностью революции. Но теперь в «бахвальство» уже не верили. «Я более ничего не хочу принимать на свою ответственность. Кроме того, трудно приучиться к тому, – пишет он почти единственному верному своему поклоннику Воронцову 1 ноября 1812 г., – что с тобой обходятся хорошо, когда в тебе нуждаются, и тебя выдают, как дикого зверя, когда опасность миновала».
Он о том же жалуется Глинке: «Меня обдают здесь пересудами; гоняют сквозь строй языками; меня тормошат за то, что я клялся жизнью, что Москва не будет сдана». Но Ростопчин и здесь не может стушеваться без позы. «Москва, – заявляет он, – была сдана за Россию, а не сдана на условиях. Неприятель не вошел в Москву, он был в нее пущен – на пагубу свою»...
Он грозит, что уедет во Францию, в Париж, и оставит «почетное место», которое занимает, потому что «устал от равнодушия правительства к городу, который был убежищем для его государей et le grand ressor [87]87
И их великих подданных (франц.).
[Закрыть], символом их могущества над подданными» (письмо Воронцову от 26 января 1813 г.).
Ростопчинская отставка последовала в июле 1814 г. по возвращении Александра в Россию. «Третьего дня совершился мой развод в Москве», – писал он жене 1 сентября. Первый в России «патриот», в то время неоцененный, утешался тем, что в «немецкой земле» ему «делают почести и признают главным орудием гибели Наполеона». «По крайней мере, когда своим не угодил, то чужие спасибо скажут». Как отнеслось московское общество к сему ему разводу с Ростопчиным? «Москва в восторге от отставки Ростопчина, – пишет Кристин Туркестановой 3 сентября. – Рассказывают, будто он написал жене: "Наконец, Его Величество оказал мне милость, избавив меня от управления этой мошенницей". Не ручаюсь за подлинность фразы, во всяком случае, могу вас уверить, что мошенница в долгу у него не остается и платит ему той же монетой».








