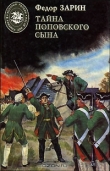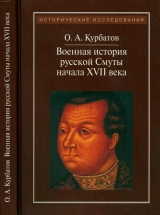
Текст книги "Военная история русской Смуты начала XVII века"
Автор книги: Олег Курбатов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
7.3. Поход царских войск для деблокады Смоленска и битва при Клушине (1610)
1610 г., середина марта – конец мая – поход войск кнн. И. А. Хованского, Я. П. Борятинского и Эверта Горна на Ржев и Белую.
Март – корпус Эверта Горна из Великого Новгорода освобождает от «тушинцев» Старую Руссу и Осташков.
Конец марта – соединение войск Горна и кнн. Хованского и Борятинского под Старицей.
Апрель – русско-шведские войска освобождают Ржеву Володимерову, Зубцов и Погорелое городище; часть наемных войск с полковником П. Делавилем соединяется с отрядом Г. Л. Валуева под Иосифо-Волоколамским монастырем, остальные атакуют и берут в осаду Белую.
Конец мая – приближение армии гетмана С. Жолкевского заставляет Горна снять осаду Белой и отойти на соединение с главными силами кн. Д. И. Шуйского под Можайск.
1610 г., апрель-июнь – поход на Волоколамск передового войска из Москвы воеводы Г. Л. Валуева.
Апрель – выступление отряда Валуева из Москвы, начало осады «тушинцев» в Иосифо-Волоколамском монастыре; подход из-под Ржева отряда наемников П. Делавиля.
1610 г., 23 апреля – смерть в Москве кн. М. В. Скопина-Шуйского.
11 мая – передовой отряд русской рати воеводы Г. Л. Валуева и наемники П. Делавиля выбивают «тушинских» казаков и поляков полковника Руцкого из Иосифо-Волоколамского монастыря; последние с большими потерями отходят к тушинскому полковнику А. Зборовскому в д. Шуйск под Царевым Займищем.
Вторая половина мая – Валуев получает подкрепления, и вместе с кн. Ф. А. Елецким (но без наемников) занимает Царево Займище, где ставит «острожек». П. Делавиль занимает Погорелое городище.
23 мая – выступление гетмана С. Жолкевского с армией на Белую и далее против русско-шведских войск.
14 июня – бой под Царевым Займищем; Жолкевский заставляет Валуева сесть в осаду в «острожке»; Зборовский с «тушинцами» присоединяется к королевскому войску.
1610 г., июнь – поход русско-шведской армии кн. Д. И. Шуйского на деблокаду Смоленска и Клушинская битва.
Июнь – войско кн. Д. И. Шуйского и Я. П. Делагарди выступает из Москвы; под Можайском к нему присоединяются отряды кнн. Хованского и Борятинского и Эверта Горна.
24 июня – битва под д. Клушино; русская рать кн. Д. И. Шуйского обращена в бегство, а наемники Делагарди капитулируют.
После освобождения столицы от блокады поход на Смоленск стал для московского правительства первой задачей, отодвинув на второй план угрозу со стороны Лжедмитрия II. Началась обычная подготовка нового похода. Однако эта кампания оказалась проигранной, даже не успев начаться, и виной тому стала смерть кн. Скопина-Шуйского.
Во время долгого осадного сидения в Москве авторитет царя Василия упал окончательно, власть его держалась только за счет поддержки патриарха Гермогена и северских и рязанских дворян во главе с Прокопием Ляпуновым. Василий не имел сыновей, и наследником престола должен был стать его родной брат кн. Дмитрий либо Михаил Скопин… Конечно, Дмитрий Иванович, отличившийся на войне только грандиозными неудачами, полностью проигрывал в общественном мнении юному полководцу, к которому последние полтора года были обращены все надежды. Уже во время похода кн. Михаила к Москве воины между собой называли его царем; в Александровой слободе открыто «поздравил его царем» через своих послов рязанский воевода П. Ляпунов. Это вызвало недоверие и ненависть к Скопину со стороны братьев, особенно Дмитрия, что не укрылось даже от Делагарди: «Яков Пунтусов» стал настойчиво уговаривать своего боевого товарища скорее покинуть Москву и с войском идти к Смоленску. Скоропостижная кончина юного полководца (29 апреля) повергла его победоносные войска в страшное уныние – «лишила его сердца», как говорили поляки. Назначение же главнокомандующим кн. Дмитрия Шуйского – по слухам, основного виновника гибели кн. Михаила – заставило ратных людей всерьез задуматься о необходимости дальнейшей защиты царя Василия. Смута в умах и сердцах углубилась.
Тем временем началась новая кампания. Эверт Горн выступил из Выборга и пересек границу 12 февраля 1610 г., а затем с 3-тысячным отрядом английских, шотландских и французских наемников двинулся через Новгород и Старую Руссу на соединение с Делагарди. В Старице с Горном соединились смоленские и бельские помещики, прибывшие из армии кн. Скопина-Шуйского во главе с князьями И. А. Хованским и Я. П. Борятинским. Следующей целью союзников стал Ржев, незадолго перед этим принесший присягу королевичу Владиславу и его отцу. Занимавшие город запорожцы и поляки, атакованные одновременно «судовой» (по Волге) и сухопутной ратью[148]148
Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция. С. 156–159.
[Закрыть], были разбиты, а 24 апреля потеряли и Зубцов[149]149
Видекинд Ю. История шведско-московской войны XVII века. С. 113–114.
[Закрыть].
С окончанием весенней распутицы выступили из Москвы новые части русского войска (до 2 тыс. человек под началом воеводы Г. Валуева), заняв Можайск и подступив к Иосифо-Волоколамскому монастырю, где засели бывшие тушинские поляки. Горн прислал из Погорелого городища 500 французов полковника П. Делавиля, которые ворвались было в крепость, но были отбиты[150]150
Мархоцкий Н. История Московской войны. С. 66–69.
[Закрыть]. Правда, вскоре из-за бунта казаков полякам пришлось оставить «Осипов», после чего все они были рассеяны при отступлении[151]151
Там же. С. 70, 71.
[Закрыть]. При этом «тушинский» патриарх Филарет Никитич с иными знатными людьми из тушинского лагеря смогли покинуть поляков и вернуться в Москву. Преследуя противника, Валуев засел в очередном «острожке» под Царевым Займищем, а Горн и кн. Хованский, сделав неудачную попытку овладеть крепостью Белой, отступили к Зубцову, а затем соединились с Делагарди под Можайском[152]152
Видекинд Ю. История шведско-московской войны XVII века. С. 114–122.
[Закрыть].
Узнав о действиях союзной рати по помощи Смоленску, гетман Жолкевский двинулся сначала на Белую, а затем – к Цареву Займищу. Из осадных войск он смог взять только 2 тыс. конницы и 1 тыс. пехоты, а также присоединить более 3 тыс. украинских казаков. Под Царевым он присоединил к себе полки Л. Вейхера и М. Казановского, договорился о переходе на королевскую службу тушинских поляков А. Зборовского (до 2,5 тыс. копейщиков), а затем осадил отряд Валуева в «острожке».
7.3.1. Клушинская битва
Союзное войско двинулось на выручку Валуева кружным путем, чтобы нависать с фланга над поляками, если те решат двинуться к Можайску. Наемников насчитывалось около 5 тыс. человек[153]153
Делагарди привел в Москву 2,5 тыс. человек, и столько же, за вычетом войск, размещенных в Новгородской земле и Погорелом городище, должно было остаться у Эверта Горна (Козляков В. Н. Смута в России. С. 282; Видекинд Ю. История шведско-московской войны XVII века. С. 94, 109, 113).
[Закрыть], а русское войско, возможно, достигало 10 тыс., не считая «посошных» людей[154]154
В распоряжении царя Василия находились новгородские, смоленские, бельские помещики, но часть из них воевала в Новгородской земле или находилась в отряде кн. Елецкого; следует прибавить еще сильно разоренных дворян замосковных городов, но за вычетом нижегородцев и их соседей. П. Ляпунов с рязанской ратью выступил в это время уже против царя Василия, прочие же украинные города оставались во власти Лжедмитрия II.
[Закрыть]. Перед выступлением из Можайска произошли эпизоды, сильно повлиявшие на настроение иноземцев: разрядный дьяк привез им жалованье частью специально чеканенными золотыми монетами, а частью – тканями и мехами, однако Делагарди не стал спешить с раздачей его своим подчиненным – видимо, в надежде «сэкономить» на боевых потерях; кроме того, граф отправил обоз со своими вещами и драгоценностями на Новгород и далее в Швецию, после чего разнесся слух, что там и находилась та самая «воинская казна». К тому же поляки уже не раз давали понять «немцам», что готовы принять их к себе на службу, и уже имели у себя первых перебежчиков.
Вечером 23 июня союзное войско остановилось у деревни Клушино (20 км к северу от Гжатска) на опушке леса. Иноземцы, встав на правом фланге, окружили свой лагерь вагенбургом, а русские, помня уроки Скопина-Шуйского, уже в ночь стали укрепляться частоколом и строить «острожек». Впрочем, измученные беспримерно долгим и поспешным маршем («пошол князь Дмитрей из Можайска в самые варные дни и шол со всею ратью наспех однем днем до Клушина сорок верст»)[155]155
Из речей Я. П. Делагарди на переговорах 1616 г. (цит. по: Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция. С. 166).
[Закрыть], ратные люди вряд ли преуспели в сооружении полевых укреплений. Следует отметить, что с запада поле, где был разбит лагерь, прикрывалось «дубовым плетнем», который союзники не стали ломать.
Тем же вечером гетман Жолкевский, оставив против Валуева почти всю пехоту и запорожских казаков, с остальными силами (6–7 тыс. отборных войск с двумя пушками)[156]156
В последнем по времени «юбилейном» исследовании Радослав Сикора пытается пересмотреть численность коронных войск в сторону уменьшения до 2700 человек (Sikora R. Khiszyn 1610. Lebork, 2010 S. 61, 77). Но доводы автора малоубедительны: он принимает на веру цифру одного из участников битвы – Маскевича (S. 52), утверждая, что все роты были в очень большом некомплекте и не достигали штатной численности; кроме того, Сикора отрицает участие в битве рот полка А. Госевского (об их участии см.: Bohun Т. Moskwa 1612. Warszawa, 2005. S. 64, 65), а также вдвое сокращает полк А. Вейхера и численность бывших «тушинцев» А. Зборовского (S. 31–62; ср.: Bohun Т Moskwa 1612. S. 63–66).
[Закрыть] скрытно выступил к Клушину. Передовые части Зборовского уже за час до рассвета вышли на искомую опушку, но не смогли начать атаку лагеря из-за задержки основных сил. Шведы и русские, заметив поляков, получили час для подготовки к бою: левее русская конница выступила в поле, оставив в тылу пехоту, а правее наемные пехотинцы построились вдоль изгороди, имея позади себя и «вокруг» конные эскадроны. Тем временем противник успел поджечь деревню и сделать проходы в изгороди[157]157
Видекинд Ю. История шведско-московской войны XVII века. С. 124–130.
[Закрыть].
Битва началась натиском отборной конницы Зборовского, которая копьями снесла с позиций русских дворян и детей боярских; и без того не желавшие воевать ратники в большинстве своем бежали с поля битвы – только сам кн. Дмитрий Шуйский засел в обозе с пехотой. В то же время первые атаки были отбиты мушкетным огнем пехоты Делагарди с большими потерями для поляков. Напуски конницы взаимно сменяли здесь друг друга, и исход битвы, по словам Жолкевского, был неясен в течение трех часов. Наконец подошли опытные гетманские гайдуки и огнем двух фальконетов отбили немецких мушкетеров от плетня; обошедшие с боков гусары усилили натиск, ворвались в шведский лагерь, а Делагарди с Горном, спасаясь от преследования, бежали за пределы поля.

Битва под Клушином (1610). Гравюра 1630-х гг.

Ротмистр польских «крылатых гусар». Гравюра первой половины XVII в.
Между тем 3 тыс. наемных пехотинцев, занявших оборону в кустах у леса, были неприступны для поломавшей уже копья польской конницы. Однако, оставшись без начальников, они вступили в переговоры с гетманом и договорились о переходе на польскую сторону. Возвращение Делагарди только вызвало их возмущение и бунт, причем мятежники бросились грабить вещи главнокомандующего, а затем направились к московскому обозу. Шуйский, который доселе только безвольно наблюдал с остатком своих войск за происходившим, увидев измену «немцев» и их желание добраться до его обозов, вырвался из «острожков» и бежал к Можайску. Пустившиеся было в преследование поляки были остановлены видом разбросанной везде «мягкой рухляди» и «меховой казны» и бросились грабить этот лагерь.
Поставленный в безвыходное положение Делагарди выговорил себе право с верным отрядом уйти за пределы Московии и «возвращать» себе задолженное Шуйским жалованье любым способом, но с условием не воевать больше на царской стороне против польского короля. Жолкевский одним ударом не только лишил царя Василия всей армии, но и с лихвой восполнил свои потери. В сражении погибло более 100 «товарищей» – шляхтичей, не считая их «пахолков» (слуг) и иных, на службу же поступило только в полк Борковского 800 человек иноземцев.
Вообще, в тактическом плане Клушинскую битву правильнее рассматривать как очередное звено в цепи столкновений польской и шведской армий начала XVII в.: русские, не желавшие больше погибать за Шуйского, почти не приняли в ней участия. Говоря о причинах своего успеха, Жолкевский заметил, что для иноземцев-ветеранов «дело шло о славе и жалованьи, для нас – о нашей судьбе. Тут во всем была необходимость, надежда была в доблести, спасение – в победе, а для бегств места не было»…[158]158
Цит. по: Видекинд Ю. История шведско-московской войны XVII века. С. 132.
[Закрыть]
Делагарди и Горн с небольшим отрядом (400 шведов и финнов) ушли через Торжок к Новгороду.
7.4. Свержение царя Василия Шуйского и правительство Семибоярщины. Оккупация поляками Москвы 1610 г
1610 г., 4 февраля – договор «тушинской» части московской знати с королем Сигизмундом о призвании на русский престол королевича Владислава и унии двух государств.
Около 27–30 июня – после битвы под Клушином на похожих условиях капитулирует Валуев под Царевым Займищем.
2 июля – армия Жолкевского вступает в Можайск; гетман начинает переговоры о свержении царя Василия и признании царем королевича Владислава.
1610 г., июль – последний поход Лжедмитрия II на Москву.
Начало июля – войска Лжедмитрия II и гетмана Я. П. Сапеги выступают из Калуги на Медынь и Козельск.
5 июля – после героической обороны перед их войсками пал Пафнутьев-Боровский монастырь.
10–15 июля – войска самозванца атакованы на р. Наре под Боровском крымско-татарским войском Богатырь-Гирея, но сумели отбиться в «таборах».
16 июля – Лжедмитрий II подходит к Москве по Коломенской дороге (в Коломенское).
17 июля – в результате мятежа царь Василий Шуйский свергнут с престола.
1610 г., 17 июля – 1 октября – правительство Семибоярщины и оккупация Москвы поляками.
20 июля – армия С. Жолкевского выступает из Можайска в Москве.
24 июля – коронная армия подходит к стенам Москвы. Начало переговоров об условиях избрания на царство королевича Владислава.
1–2, 11 и 14 августа – бои под стенами Москвы с войсками Лжедмитрия II, которые попытались захватить город.
18 августа – договор боярского правительства Москвы с гетманом Жолкевским о призвании на московский престол королевича Владислава.
27 августа – узнав о готовящемся нападении поляков и русских на его войско, Лжедмитрий снова бежит в Калугу.
1 октября – польские войска вступают в столицу; гетман Жолкевский уходит к Смоленску.
Поражение под Клушином имело главным следствием падение власти Шуйского. С одной стороны, на особых условиях, оговаривающих приглашение на царство королевича Владислава, Валуев капитулировал и присоединился к Жолкевскому[159]159
Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция. С. 169.
[Закрыть]. Следом сдались полякам («целовали крест» Владиславу) Можайск, Ржев, Боровск, Иосифо-Волоколамский монастырь, Погорелое городище. Жолкевский из Можайска предложил москвичам признать Владислава русским царем.
С другой стороны, Лжедмитрий II при известии о разгроме русско-шведских войск срочно выступил к Москве. Собрав с верных ему земель «особый и очень большой налог», он вновь привлек к себе казаков и сапежинцев, с которыми выступил в поход. По дороге его войска сломили сопротивление гарнизона и мирных жителей, укрывшихся в Пафнутьев-Боровском монастыре: воевода князь Михаил Никитич Волконский был убит прямо возле раки с мощами преподобного Пафнутия[160]160
Козляков В. Н. Смута в России. С. 292; Тюменцев И. О. Смутное время в России начала XVII столетия. С. 545, 546.
[Закрыть]. В этой резне погиб и бывший настоятель Троице-Сергиева монастыря (в период его обороны 1608–1610 гг.) архимандрит Иоасаф, переведенный на покой в свою родную обитель.
В этот самый момент царь Василий узнал о появлении под Серпуховом союзного отряда крымского князя Богатырь-Гирея, приглашенного на помощь против поляков и мятежников. Посол кн. И. М. Воротынский, а также кн. Б. М. Лыков и А. В. Измайлов повезли татарам богатые дары и обязательства выплатить 30 тыс. рублей за помощь в боевых действиях, а потом посылать ежегодные «поминки» в Орду. Взяв аванс – 7 тыс. рублей, мурзы выступили против войск Лжедмитрия II и вскоре осадили их на реке Наре недалеко от Боровска. Атаку поддерживала прибывшая с царскими вельможами артиллерия и 370 человек стрельцов. Однако штурм позиций поляков и казаков, продолжавшийся до поздней ночи, не достиг успеха, и крымцы предпочли отказаться от продолжения осады[161]161
Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами. С. 48–55; Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция. С. 182.
[Закрыть]. Похоже, они неплохо сориентировались в сложившейся обстановке и решили не ждать новых милостей от царя, доживавшего на троне последние часы. Вместо этого они двинулись в обратный путь, безо всякого сопротивления захватив громадный полон – боярам же едва удалось спасти свою артиллерию от пришедших в себя сторонников Лжедмитрия II.
Убедившись в отсутствии опасности со стороны крымцев, Вор продолжил поход и сумел появиться под стенами Москвы задолго до подхода гетмана Жолкевского. Он остановился в Коломенском, надеясь на восстание посадских людей Москвы в свою пользу. Тем временем столица уже бурлила, подстрекаемая сторонниками Прокопия Ляпунова к свержению царя Василия Шуйского и возведению на престол кн. Василия Васильевича Голицына.

Царь Василий Шуйский в польском плену. Гравюра польского «летучего листка», 1610 г.

Сейм короля Сигизмунда. Гравюра начала XVII в.
Земский собор, довольно стихийно собравшийся 17 июля у Арбатских ворот Москвы, принял решение о «сведении с престола» царя Василия Шуйского. Через несколько дней, после попытки вернуть трон, его постригли в монахи и заточили в Чудов монастырь. Тем временем из Можайска ускоренным маршем подошел к столице гетман Жолкевский, и поставить князя Голицына на царство сторонникам Ляпунова не удалось. Боярам, принявшим на себя временно все бразды правления, москвичи «целовали крест» в том, чтобы «государя на Московское государство выбрати с нами, со всякими людьми, всей землей, сослався с городы». В страшной тревоге за дальнейшую судьбу государства посадские и ратные люди, московские чины и рядовые помещики несколько дней метались между боярами, патриархом, сторонниками «Дмитрия Ивановича» и королевича Владислава и настаивали на скорейшем принятии политического решения. Страх перед репрессиями и грабежами со стороны войск Калужского вора и опасность захвата ими столицы, а также дипломатические усилия гетмана С. Жолкевского склонили их симпатии в пользу королевича. Они лишь с волнением спрашивали у гетмана, действительно ли он сказал боярам, «что королевич не будет нашей веры»? Отвечая с позиций гуманиста своего века, сановник заявил, что это дело совести самого королевича, и если он «привыкнет к вашему богослужению… может, Господь Бог так направит сердце его, что он примет вашу веру». Вряд ли такой ответ был по нраву русским людям, но гетман, пожалуй, не лукавил[162]162
Флоря Б. Н. Польско-литовская интервенция. С. 200–211.
[Закрыть].
Бояре кн. Ф. И. Мстиславский, кн. И. Н. Воротынский, кн. А. В. Трубецкой, кн. А. В. Голицын, И. Н. Романов, Ф. И. Шереметев и кн. Б. Н. Лыков составили правительство, известное под названием Семибоярщина. «Посоветовав» со стихийно собравшимся в Москве Земским и Освященным собором, они наконец выработали условия, по которым королевич Владислав призывался на московский престол. Договор, с которым тот приглашался на царство, по определению С. Ф. Платонова, «отличался явным национально-охранительным направлением». Королевич должен был принять православие, править в совете с боярами и Земским собором, вообще сохранить весь прежний строй московской жизни и ни в чем не возвеличивать приезжих иноземцев перед русской знатью. Это было частью хорошо продуманной, оформленной еще прежде договорами «тушинских бояр» с Сигизмундом (в феврале 1610 г.) программы преодоления Смуты и восстановления общественного порядка. Само собой, при этом отец нового царя, польский король, прекращал все враждебные действия против верных Москве земель (в первую очередь Смоленска) и содействовал разгрому войск самозванца.
Собравшиеся в столице войска было решено немедленно направить для подчинения мятежных территорий. Ради того, чтобы не допустить мятежа в Москве в пользу Лжедмитрия II или кого-либо из московской знати, бояре поспешили, сразу по заключении договора с гетманом Жолкевским, пригласить в столицу коронные войска. Еще ранее первым положительным следствием вступления этих частей в бой на стороне правительственных войск стало поспешное бегство самозванца обратно в Калугу. В итоге с 19 по 30 сентября 1610 г. в стенах Москвы поэтапно разместился польский гарнизон. Без сомнения, это была элита находившихся в смоленском походе польско-литовских войск: в составе 4 конных полков (5–6 тыс. человек) числилось целых 27 гусарских рот – против 9 казацких и татарских[163]163
Состав гарнизона см.: Bohun Т. Moskwa 1612. S. 64–66.
[Закрыть]. Еще два полка – Струся и самого гетмана – заняли Верею, Борисов (Московского уезда) и Можайск. Все 2,5 тыс. иноземных солдат, перешедших на сторону поляков в Клушинской битве, были тщательно «разобраны» Жолкевским, который оставил на службе всего 800 человек во главе с полковником Борковским и капитаном Жаком Маржеретом. Они и составили пехотную часть гарнизона вместе с 400 гайдуков[164]164
Bohun Т. Moskwa 1612, S. 50, 51, 63.
[Закрыть].
Представительное «Великое посольство» было отправлено в королевский стан под Смоленск с утвержденными Советом всея земли условиями. Однако Сигизмунд предпочел теперь вести речь о собственном избрании на царство. Одновременно он назначил на ключевые посты московской администрации своих сторонников – в первую очередь бывших «тушинцев», не раз уже изменявших различным государям и, по определению бояр, «самых худых людей» (М. Молчанова, кн. В. М. Мосальского, И. М. Салтыкова и др.). Вскоре под Смоленск триумфально выехал гетман Жолкевский, увозя с собой выданных ему в качестве пленников царя Василия и его брата кн. Дмитрия Шуйского. Во главе гарнизона в качестве королевского наместника он оставил велижского старосту Александра Гонсевского. Последний, под предлогом сговора с Лжедмитрием, в ночь на 29 октября арестовал некоторых бояр, ввел немецкий отряд в Кремль и заставил передать ему диктаторские полномочия. Члены Семибоярщины были отстранены от руководства страной и оказались «все равно что в плену».
Таким образом, данная, в целом продуманная попытка московской знати преодолеть Смуту не увенчалась успехом, привела к установлению в Москве диктатуры польских наемников и фактическому распаду государства на отдельные, разные по политической ориентации области. Но и выбранный польским королем, вопреки чаяниям русских людей, политический курс на полное подчинение страны собственной власти привел к отстранению от дальнейших дел главного виновника первоначального успеха – гетмана Жолкевского – и в конечном итоге окончился полным провалом[165]165
Флоря Б. К Польско-литовская интервенция. С. 233–242.
[Закрыть].