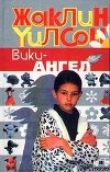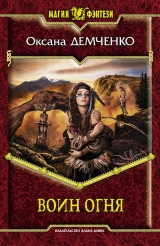
Текст книги "Воин огня"
Автор книги: Оксана Демченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
– У-учи, Шагари, – сказал Ичивари пегому коню. – Идем. Не стоит глядеть на дома и дела бледных, иначе застрянем тут надолго. Эй, всадница священного коня с белым копытом! Может, прекратишь шипеть и назовешь свое имя?
Ответа не последовало. Новая волна злости, темнее и тяжелее прежней, накатила резко, накрыла с головой. Он мирно говорил с бледной. Он позволил ей ехать верхом, он убедил себя забыть все глупости, содеянные ею, и даже не казнил за преступление! И что в ответ? Ничего. Его старательно не замечают… На его земле, в его лесу!
Пегий взобрался на склон несколькими прыжками. Ичивари едва угнался за конем. Он вымазался в красной грязи и разозлился еще сильнее. Пленных не возят в седле! Их водят за конским хвостом, накинув на шею петлю. Там им самое место. Почему он не ощущал радости, когда бледная кричала от боли? Теперь бы он послушал ее жалобы, даже охотно рассмеялся… и добавил боли.
Сын вождя миновал опушку, остановил пегого и снял его всадницу. Она уже снова всхлипывала, терла связанными руками глаза. То ли вся сила крови отца иссякла и снова накатила слабость бледной матери, то ли просто детские капризы одолели… Сейчас, глядя на бледную в упор, Ичивари с некоторым смущением предположил: на лицо она выглядит старше, чем есть на самом деле. Когда утром он спрыгнул из седла и пошел по полю, думая о бусах и прочем, то полагал, что девушке не менее шестнадцати годовых кругов. Теперь усомнился. А если ей нет и четырнадцати? Дети вне любых дел взрослых. Не она нарушала закон – он сам был неправ. Но он – сын вождя! Надежда рода.
Синеглазая смотрела в упор, моргая, стряхивая с ресниц обычные соленые слезы и шмыгая распухшим красным носом. Жалкое зрелище. Но в глазах по-прежнему вспыхивали грозовые огни, и потому смотреть в их хмурую синеву было занятно. Он даже увлекся и подзабыл, зачем спе́шил полукровку, он снова был беззащитен, поскольку окончательно расстался с недавней острой жаждой причинять боль. Обида на странную девчонку сгинула быстро и без следа. Теперь Ичивари растерянно и даже чуть смущенно думал, стоит ли заставлять полукровку идти пешком за пегим, ведь леса не понимает и…
Девчонка резко отстранилась, снова зашипела, злее прежнего. На плече мелькнуло нечто черно-белое, меховое. Ичивари не успел осознать и уклониться. Откуда у дикого скунса могла взяться привычка прыгать на руки к бледной чужачке? И тем более нападать на сына леса… Слезы залили глаза, кашель подступил к горлу. Ичивари отшатнулся. Услышав звук стали, покидающей ножны, сделал еще шаг назад и выругался.
Он стоял, упираясь спиной в круп пегого коня, на боку болтались пустые ножны, а о том, куда делась полукровка, не хотелось даже думать. Лес покачивал мелкими веточками под вздохами насмешника-ветра. Солнышко щурилось и подмигивало сквозь древесные кроны. Скунс без суеты двигался к кустарнику, гордый исполненным делом… Ни одна травинка не примята так, чтобы дать след. Ни одна сухая веточка не хрустит вдали, выдавая движение полукровки. Белки и сороки – и те словно в сговоре, молчат!
– Я горелый пень, – невесть с чего припомнил Ичивари шепотом. – Я этот… хозяин леса. Куда теперь идти? Вот позор-то… Скажу наставнику: «Меня ударила тяпкой и обокрала бледная четырнадцати годовых кругов от роду». Он спросит: «Что ты сделал с ней?» И я отвечу: «Упустил связанную в лесу и позволил украсть мой нож». Я буду посмешищем на всех землях махигов.
Сделав столь мрачный и неоспоримый вывод, Ичивари нахмурился, стал серьезен. Собственно, какие тут шутки! Его нож у бледной, это недопустимо. Уйти отсюда, не вернув себе оружие, невозможно. Продолжить путь, не наказав бешеную и не разобравшись в природе появления Слезы, – недопустимо. Хотя смысл знака ясен, пожалуй. Плачущая заранее скорбела о нем, самом бестолковом сыне народа леса. Возможно, это начало конца. Когда осенью следующего годового круга он принесет дары и испросит права разделить душу и обрести силу ариха, духи его не услышат.
– Ну погоди, бешеная! – мрачно пообещал Ичивари. – Мы еще посмотрим… Я поставлю тебя у столба боли и испытаю огнем, меньшее отмщение не возместит оскорблений, нанесенных мне, старшему сыну вождя народа махигов. Клянусь…
Клятву следовало принести на крови, рука сама потянулась к ножнам – увы, пустым. Ичивари еще раз тяжело вздохнул и даже чуть ссутулился. Проклятущая полукровка лишила его даже возможности гордо произнести слова, подобающие сыну вождя. И что остается? Ползать по траве, щупать ее, искать камень с острой кромкой или нудно ковырять руку обломком палки, добывая хоть несколько капель крови, – это почти то же самое, что признать заранее клятву неполной и, значит, необязательной к осуществлению…
– Ну, погоди! – Пришлось ограничиться угрозой, достойной разве что ничтожной женской ссоры, и показать лесу кулак…
Высоко в кронах, пронизанных солнцем, защелкали белки, в их голосах Ичивари почудилась насмешка. Сын вождя, побежденный скунсом! Сын вождя, дерево жизни которого совсем скоро обрастет семнадцатым годовым кольцом. Почти взрослый. Если по росту и плечам судить – так ему легко дать и восемнадцать, и девятнадцать: он вырос в деда Ичиву, ширококостным и статным. Но не обрел дара воина и мудрости вождя… Как показаться перед людьми, путь даже и бледными?
Кожа на плечах чесалась все сильнее, глаза слезились, подтверждая известное каждому правило: не стоит рассматривать хвост рассерженного скунса. Ичивари пожал плечами и покосился на пегого. Верный Шагари не предал друга: даже не отодвинулся, хотя запах донимал и его. Видно, как вздрагивает шкура.
– Пожалуй, месть подождет, – буркнул Ичивари. – Сперва мы найдем большое озеро и как следует искупаемся. Потом я наловлю рыбы и отдохну, а ты испробуешь самой сладкой прибрежной травы. Никуда эта бешеная не денется. Вон – красная глина. Ее ноги запачканы, след будет явный.
Успокоив себя и обретя цель, Ичивари огляделся еще раз, теперь уже спокойно и без суеты. Он знал здешние леса, как и любые иные в границах земель народа махигов. Он своими ногами исходил тропы и пальцами прочертил их на карте. Уже тридцать годовых кругов выросло на стволах с тех пор, как удалось выведать у первого поколения людей моря самые ценные их знания, в том числе секрет бумаги, устройство компаса, изготовление карт, а также иные точные способы ориентирования. Озеро Белых Туманов лежит к закату, в десяти километрах [1]1
Возможно, кто-то подумает: «Километры для дикарей – это слишком нелепо, автор!» Может быть. Однако происхождение этого слова в нашем случае весьма специфично и будет позже подробно объяснено. – Примеч. авт.
[Закрыть]от поселка бледных.
Ичивари похлопал пегого по шее, поднял голову, подставляя лицо солнцу и понадежнее определяясь на местности. Смешно и грустно. Что осталось от исконного языка леса после принятия стольких новых слов и понятий?.. Что осталось от привычного уклада жизни?.. Того и гляди дети его детей разучатся находить тропы без компаса и карты. Позор. И, что вдвойне неприятно, отказаться от полученного знания не под силу уже никому из людей леса. Чтобы провести границы и не воевать с соседями за охотничьи угодья или торговые тропы, нужна карта. А ведь именно постоянные ссоры с соседями и были одной из причин побед бледных в самом начале их нашествия… Это люди леса запомнили и усвоили. Как и люди гор и степи. Они взяли у бледных их силу, сокрытую в знаниях, сели в большой круг и нарисовали границы, установив мир меж племенами не на один сезон – навсегда. Давно это было. И ведомо об этом каждому малышу.
Сын вождя грустно усмехнулся. Чтобы нарисовать карту, требуются стол, чернила, бумага… Стол стоит в комнате, она – часть дома. Окна этого дома куда удобнее застеклить, чем затянуть бычьим пузырем. Если так пойдет дальше, старосты леса – лучшие деревья – снова окажутся под угрозой. Это слова мудрого Магура, деда по линии матери. Даргуш, отец Ичивари и нынешний вождь рода махигов, утверждает, что старик сошел с ума и впал в детство. Он так и сказал при всех, на большом осеннем совете. То есть почти так… Сам Ичивари не слышал слов отца, но ему передали надежные люди. И еще после долгих расспросов родичи по линии секвойи нехотя подтвердили: дед Магур встал, рассмеялся, сложил свое старое одеяло из валяной шерсти, кинул на плечо, чуть поклонился вождям и старикам.
– Муж моей дочери вырос и более не нуждается в советах, – с долей насмешки сказал старик, едва ли не в первый раз вслух признав, что Даргуш ему не кровный сын. Хотя до того дня иначе, как сыном, Магур вождя не называл. – Значит, я свободен. Наконец-то я могу уйти из вашего пропахшего дымом поселка. Здесь земля вытоптана, а лес мертв. Я махиг, а не бледный, мне тут не место.
Он ушел в лес, гибкий и стройный, как молодое дерево, хотя на стволе его жизни уместилось в ту осень семьдесят шестое годовое кольцо. Ушел один, не оборачиваясь, – это видел сам Ичивари, прибежавший и замерший у опушки в нерешительности. То ли мчаться за дедом, то ли утешать плачущую навзрыд маму, без сил севшую в траву. Так и получилось: дед ушел один, а слова его остались висеть в воздухе, как тревожный запах далекого пожара…
Перемены в укладе жизни грянули настолько резко, что никто, кажется, действительно не был готов к ним. И никто не знает, как и куда вести народ, а значит, нельзя безоглядно винить отца в жестокости и называть слепым. Это тоже слова деда Магура. Когда зимой Ичивари нашел его стоянку в лесу, было много времени на разговоры. Огонь крошечного охотничьего костерка без спешки грыз комель сухой елки. Дед сидел и свежевал оленя. В тонких мокасинах, в штанах из кожи, голый по пояс, только на спину наброшено неизменное одеяло. И было ему ничуть не холодно… В жилах истинного махига течет не холодная кровь, но кипучий огонь жизни. Ичивари верил, что и его кровь горяча. Он обязан верить. Иначе не сможет в должное время пройти обряд и стать ранвари: принести дары и при поддержке наставника совершить разделение души, позволяющее приблизиться к миру невоплощенных…
Двигаться по лесу – это удовольствие. Конечно, сказанное верно лишь для истинного махига, единого с зеленым миром и осознающего себя живым в живой природе. Ичивари подумал так – и поморщился. «Природа» – слово бледных. Прежде говорили иначе. Точнее, ничего не приходилось думать, говорить и пояснять. «Ма» и «хига» – два важнейших понятия. Слитые в единое слово, они означают «обретший тело дух леса, воплощенный». Теперь даже для главных слов есть строка в словаре, это тоже изобретение людей моря.
Дед привел старого бледного в поселок еще десять годовых кругов назад, когда многие полагали морских людей скотом. Привел, поселил в своем доме и представил всем:
– Вот человек леса, он имеет большую теплую двойную душу и, значит, обладает правом жить среди нас и даже обязан так поступить, чтобы не впустить в поселок забвение.
Отец тогда не сдержался и при всех спорил с дедом… Но нелепый сухонький человечек остался. День за днем он шаркал следом за дедом, семенил слабыми ногами, задыхаясь и прикашливая. Из дома в дом. Из дома в дом. Здоровался, вежливо, с поклоном принимал воду с тертыми ягодами, настоянную на коре, – целебное питье, которым угощают в знак уважения. Садился в уголке, разворачивал листки и записывал весь разговор деда со старыми в доме. Это казалось нелепым: зачем записывать на бесценную бумагу то, что известно каждому?
Сам Ичивари ходил за дедом без всякого приглашения и дозволения. Не гонят – так почему бы не пойти и не послушать? Довольно скоро он обнаружил: дед Магур неизменно мудр. Ведь то, что рассказывают старики, действительно вот-вот скроется в тенях прошлого. Растворится безвозвратно. Никто не делает более для рыбной ловли крючков из кости. Не ставит силки на мелкую дичь, сплетая косицы веревок из болотных трав или собственных волос. Знания бледных оказались удобнее. И дед прав, надо записывать утрачиваемое, чтобы потом не пришлось стыдиться… Повзрослев, Ичивари заново перебрал воспоминания, прочел записи и понял: не только ради крючков из кости велись длинные стариковские разговоры. Дед дотошно выспрашивал о погоде, звериных тропах и водопоях, уговаривал припомнить, велики ли были стада оленей и сколько видов тех оленей знали старики, какую птицу били на озерах и в какое время года… Дед хотел сохранить и этот опыт. А еще, может статься, он опасался перемен. Слишком резких и необратимых.
Когда бледные вошли в лес, они разорвали башмаками дерн, создали шум, бесцеремонно вмешались в жизнь зеленого мира. Живой лес отшатнулся, затаился. А бледные перли вперед, все дальше от берега моря. Подкованные сталью копыта коней губили мох, ружья причиняли смерть зверям без счета и меры, а затем пришел и черед людей…
Большой кровью пришлось оплатить племенам леса, гор и степи изгнание чужаков. Но кони остались, хотя их копыта давно не подковывают сталью. И ружья остались. Резкий и едкий запах пороха не покинул лес. Он сделался подобен тончайшей пелене, готовой разделить недавно единое: зеленый мир – и его детей махигов, воспринявших чужое знание и оружие.
– Прежде мы делили духов леса на темных и светлых, это не вполне верно и слишком просто, но пусть так… – вздыхал дед, свежуя оленя тогда, зимой. – Теперь все иначе. Есть духи леса и есть духи поселка, так я думаю. Если вторые вселятся в нас, мы утратим право зваться махигами. Мы сделаемся мертвыми для леса, как мертвы для него бледные, не имеющие живой правой души. Мы станем подобны им, а лес для нас окажется просто древесиной для печей и мясом для прокорма. Уже теперь мертвы наши верования, от них остались лишь обрывки некоторых обрядов, да и те не кажутся молодежи важными и близкими. Потому что принадлежат прошлому, иной жизни… Уходящей.
– Получается, отец прав, – обрадовался Ичивари. – И ты признаешь его правоту! Надо прогнать за море всех бледных. Всех до единого! Они лишены главной души, они ходячие мертвецы. Они хуже скота и страшнее темных духов…
– Твой отец разве точно так говорил? Или ты сгоряча приплел к его словам еще чьи-то? Ты шумишь и спешишь, как весенний паводок, – спокойно отметил дед. – Посмотри на эту ель, она упала и высохла, годится лишь для костра. Нельзя ее вкопать в землю и снова сделать зеленой. Время, внук, куда беспощаднее мутной реки, обезумевшей после дождей. Оно уносит от берега сразу и безвозвратно и наши победы, и наши ошибки. Туда они смыты, в водопад прошлого, и нет возврата из вод его… Дело вождя – не вкапывать мертвую елку прежнего, которое уже не оживет, но выращивать из семян мудрости новое дерево жизни. Мы должны принять знание и остаться детьми леса. Это трудно. У нас мало времени, но и торопиться нельзя… Увы, твой папа торопится и иногда ошибается… Хотя бы ты сиди и просто слушай лес. Иногда это важнее, чем слушать себя… и даже меня.
Дед лукаво покосился на недоумевающего внука. Он умел так вывернуть мысль, что все прежнее и вроде бы явное пряталось, пропадало. Приходилось заново искать тропу, годную для движения рассуждений.
Костерок вгрызался в комель елки, изредка раскусывая смолистые сучки и выбрасывая вверх, в стылое черное небо, россыпь искр. Они взлетали и путались в хитром плетении узора ночи, и без того богато украшенном звездами… Ичивари сидел и слушал сумрак. Ощущал себя такой же искоркой. Вся его жизнь для великого леса – один миг. Но попади искра на сухой мох… и пойдет гудеть неутолимой жаждой верховой пожар, в неуемности которого скрывается самый свирепый из темных духов. Неукротимый, безумный, могучий… Странно ощущать в себе судьбу искры, двойственность которой столь опасна. Страшно быть и сыном леса, и врагом его.
Ичивари встряхнулся, освобождаясь от воспоминаний, и пошел быстрее. Сейчас лето, три дня кряду лил дождь, никакая искра не опасна лесу. Даже костер не угроза. Между тем, чтобы развести огонь, необходимо настругать щепы. Он привык к такому способу, обычному для бледных. Но его нож теперь у бешеной девчонки. Значит, не будет костра? Рыбу придется есть сырой? Но как ее разделать без ножа? Он – дважды и трижды ничтожный, он – погасшая искра, позор рода… Упустил в лесу бледную!
– Ей же хуже! – вслух утешил себя Ичивари. – К ночи так заплутает и набегается – сама меня станет звать! Тогда и послушаем, как она умеет извиняться и умолять.
Представить синеглазую умоляющей оказалось сложно. Не удавалось подобрать для ее голоса нужного тона, да и годных слов… Прочее не являлось перед внутренним взором, не мог Ичивари представить жалкое и просительное выражение ее лица. Если толком припомнить первые мгновения встречи… И тогда не страх был в глазах, скорее удивление, а в первый миг – даже, пожалуй, приязнь, сразу сменившаяся растерянностью. Если бы он внимательнее глядел, задумался бы. И позже она просила странно, словно бы не вполне искренне. Или он уже вовсе запутался в сомнениях? Дед прав: поселок меняет всех, кто живет в ограде стен. Мир вне леса обманывает людей и вынуждает по привычке видеть не то, что есть истина, но лишь наблюдать поверхность явления, довольствуясь самым первым впечатлением. Поселок приучает к беспечности.
Он, сын вождя, не осмотрелся и не пытался вести себя, как подобает в лесу. Хотя всякое знакомство сродни выслеживанию зверя. Обнаружить человека, рассмотреть, оценить, обдумать все и лишь затем решать, выходить навстречу или обходить стороной… Дед много раз убеждал: очень важно сначала думать, а уж потом – все остальное. И тяжело вздыхал, хмурясь и пряча улыбку. Он ведь однажды признался, что и сам по молодости не любил много думать. Полагал это занятие уделом тех, кто не уверен в себе… Ичивари пожал плечами. По крайней мере, он пробует думать теперь.
Как же все началось-то? Девушка была мила, он ощущал себя гордым – ведь ехал по важному делу на пегом Шагари! Он спрыгнул с коня и пошел по полю, точно помня, как радовались в поселке любому, даже самому малому и случайному вниманию со стороны сына вождя. Так радовались, что лишний раз смотреть ни на кого и не хотелось. А ну как поднимут крик и возьмутся нагло требовать бусы? Отец узнает, и такое начнется… Отец ведь сразу скажет то, что повторяет в отношении бледных всегда: «У них нет большой души». В этом вопросе воин огня Утери заодно с отцом, он даже жестче наставлять будет: «Бледные мертвы всегда, они лишь тела, ходящие и говорящие подобно людям». Ранвари поучал бы, хмуро и недовольно глядя на наглых девиц: «Разозлили всерьез, оскорбили – убей. Расстроили – накажи, ты в своем праве, сын леса и наследник вождя».
Ичивари сокрушенно вздохнул. Он уехал из дома, надышался лесными ароматами свободы и дикости… «и с ума сошел от полноты самостоятельности» – так сказал бы дед Магур, и в этом нет сомнений, даже почти удается расслышать его голос, огорченный и совсем тихий. Если дед полагает сделанное ошибкой, он никогда не поднимает крика. И на сей раз вразумлял бы очень, очень неспешным шуршащим шепотом. Лишь бы вовсе не отвернулся и не замолчал, отказываясь общаться! Магур-то учил внука иначе оценивать людей. Говорил: «Только сердце может ответить, есть ли полная душа у чужого. Сердце, а не глаза. Цвет кожи не наделяет душой и не отнимает ее».
– Так что ж мне, спасать эту полукровку? – почти жалобно уточнил Ичивари вслух, хотя дед никак не мог услышать. – Пусть сама выпутывается! Она меня разозлила… ну и даже оскорбила, вот.
Лес промолчал, даже ветерок унялся и не играл с хвоей, не перебирал травинки. И дед промолчал, отвернувшись. Не устраивали деда оправдания. Не было в них взрослого разума, не было откровенности, достойной мужчины, и даже надлежащей безжалостности к своим слабостям. Не было и полного мужества, чтобы признать свои дела и сокровенные мысли.
– Ладно, буду спасать… Но сперва окунусь, – предупредил Ичивари незримого деда.
Жаловаться на то, что кожа зудит невыносимо, он конечно же не стал. Истинный махиг стерпит любую боль. Это неизменно… Хоть в чем-то отец и дед едины.
Озеро блеснуло впереди жидким серебром бликов. Зуд сразу сделался куда сильнее, терпеть его у самой воды вдвойне тягостно. Ичивари запретил себе ускорять шаг, стал без спешки расплетать тонкие косички волос, удерживающие два пера и несколько бусин-амулетов. Заколебался и не решился убрать из волос пестрый ремешок, сложно и узорно прокрашенный. Все прочее сложил в сумку при седле, а ремешок плотно обмотал тонкой кожей, спасая от сильного замокания. Исполнив все это, Ичивари снял пояс с пустыми ножнами. Серебро воды так и лезло в глаза, так и манило, ехидно подмигивая. Ручеек бежал у самых ног, спешил к берегу и пищал назойливым комариным голоском: «Поторопись, никто не увидит! Уступи слабости, сейчас можно…» Ичивари решительно отстранил ладонью звук и то незримое, что прельщало, прячась в тенях и усиливая зуд кожи. Это темный дух лихорадки, нетерпимец, породитель жажды. Ему нельзя потакать и в малом. Кажется, утром именно этот дух толкнул полукровку под локоть, вынудил некстати распрямиться от грядок и тряхнуть волосами, обращая на себя внимание… Найдя виновника своих неприглядных поступков и смутных мыслей, Ичивари успокоился. Борьба с духом жажды трудна, сын вождя уступил утром, но не сделал ничего непоправимого. Он еще не погасшая искра. А полукровка, получается, вовсе уж ни при чем. Сбежать ей помог светлый дух утоления и вразумления, когда он, Ичивари, смог преодолеть влияние зла.
Найдя подходящего врага и сочтя себя победителем, Ичивари улыбнулся и без спешки сложил вещи на плоском большом камне. Расседлал коня, освободив широкий ремень и сняв со спины Шагари шкуру ягуара, и пошел наконец-то в воду. Следовало нырнуть, отплыть подальше от берега и попробовать выгнать в мелкий затон хоть одну достойную внимания рыбину, крупную и вкусную. Многие нынешние махиги не могут удержать скользкую чешую в пальцах. Забыли и это умение, прежде ведомое каждому. Но он-то слушал стариков, позже много раз перечитывал записи, сделанные бледным пожилым писарем, и пробовал повторить, пока не усвоил уроки…
Вода приняла, как родного, обняла прохладой, погладила кожу ног вьющимися нитями текучей донной травы… Укрыла с головой. Из-под воды высокое солнце казалось сияющим, окруженным острыми длинными лучами, золотисто-лиственным… Его круг пульсировал в волнах, то растягиваясь, то сжимаясь, то удаляясь, то приближаясь. Вода играла с огненным светом, два самых сильных – по крайней мере, по мнению Ичивари, – духа жили в единении и гармонии, это было красиво и неповторимо…
Ичивари появился из зеленоватой подводной тени без плеска, нащупал дно, нашарил ногами опору, чуть шевеля руками и оглядывая берег. Теперь он уже твердо стоял, отжимая кожаный чехол с ремешком. Серебро бликов текло у самых плеч, волночки бережно гладили спину и играли распущенными волосами, довольно длинными, прикрывающими лопатки. Огромные секвойи держали на своих кронах синий свод дня, сходясь ветвями в зените. Лес дышал покоем…
А совсем рядом, в двух метрах, крутилось и клубилось такое, что и вздохнуть-то никак нельзя. Ичивари не осмелился даже повернуть голову, кожей опознав угрозу. Клубок линяющих змей! Большой, пребывающий в постоянном движении сгусток ядовитой злости и болезненного раздражения. Выныривая, сын вождя не заметил змей – помешала плывущая по воде трава. Стоп. Откуда на воде трава? Ичивари покосился на дорожку из свежесорванных сочных пучков зелени, растрепанных течением ручейка, толкущихся у берега лениво и неорганизованно. Махиг, на миг забыв о змеях, все же повернул голову, не веря себе.
На плоском камне, столкнув амулеты и шкуру ягуара, сидела полукровка. В синих глазах плясали все те же бешеные грозовые молнии. Губы приоткрыты в подобии оскала. Тонкая рука дрожит, вытянутая вперед. Ладонь чуть шевелится, словно бережно и осторожно подталкивает нечто…
Ичивари покосился на ком змей, сместившийся в воде ближе, и ощутил холод меж лопаток. Дети леса слышат свой мир и осознают себя частью его. Лес не вредит им и тоже признает родными, но внятно слышит он далеко не всех. Только мавиви могут просить и даже приказывать. Увы, последнюю мавиви бледные убили в том самом бою, в котором погиб и вождь Ичива. Самого вождя и его мавиви точно убили, это всякому известно!
Тогда кого он, внук великого воина, видит? И как понимать происходящее? Бледные, если верить деду Магуру, могут иметь душу. Но дар мавиви им никто и никогда не открывал и не передавал!
Полукровка всхлипнула, опустила дрожащую руку и зло вытерла слезы. Зашипела, скалясь сразу и на замершего в воде махига, и на змей. Клубок распался. Темные тела в новой коже, яркой и тонкой, блеснули на солнце и сгинули…
– «Ну, погоди!» – ловко повторяя тон, передразнила полукровка, шмыгая носом и чуть успокаиваясь. – Стой там и не двигайся, самозваный хозяин леса. Я еще не понимаю, почему не могу тебя убить. Хочу, но не могу! Очень хочу! Имею право! Ты пень горелый, и место тебе – в том топляке! И чтоб ты сдох… И…
Доводы угасли в невнятном бормотании, шмыганье носом и всхлипах. Шагари, стоявший по колено в воде, неторопливо выбрался на берег, прошел к камню и задышал в плечо плачущей полукровке, пожевал губами край ее убогой одежды. Ичивари чуть усмехнулся. Девчонка – она и есть девчонка. Ревет по всякому поводу и цепляется за чужое сочувствие. Вон обняла конскую морду и разводит сырость пуще прежнего. До чего нелепо! Иметь дар единой души – и не использовать его. Заниматься прополкой, а потом и вовсе почти позволить себя убить.
Бояться этой бешеной нет смысла. Слушаться ее – тоже. Так почему он еще стоит в воде? Потому что пробует следовать советам деда и думать прежде всего иного… А в голове такое творится – хоть до ночи стой, мысли не переведутся и не улягутся в узор разумного рассуждения! Боящаяся боли, жалкая и дрожащая полукровка на самом деле – мавиви. Этого никак не может быть, но он все видел сам! А что он видел? Дед бы так и спросил. Ичивари нахмурился, собирая доводы для ответа незримому деду.
Она умеет ходить по лесу, выследила махига и подстерегла. Неприятно признавать, но сомнений нет.
Она указывала на клубок змей, и тот двигался, куда было указано. Это либо совпадение, либо нечто большее, сомнения есть.
Она смогла привлечь для побега скунса – это почти достоверно.
И она рыдает и дрожит, как распоследняя бледная ничтожная слабачка… Странная мавиви, но и сомневаться в ней едва ли возможно: ведь есть еще и Слеза.
Между тем, по древнему закону, утратившему смысл со смертью последней из мавиви, всякая обида, причиненная существу с единой душой, может караться смертью. По усмотрению мавиви. Будь обидчик хоть сын вождя, хоть сам вождь. Он виновен. Впрочем, поведение бешеной полукровки с первого же мгновения было непонятным и двусмысленным. Она молчала, не отвечала на вопросы и даже не назвалась. А позже твердила невесть что по поводу покорности и извинений… И снова не назвалась.
Так что же следует из всех его мыслей, разрозненных и обрывочных, как плывущая по воде трава? Дед бы точно уже разобрался в происходящем. А его бестолковый внук все стоит и тупо глядит на нелепую плачущую мавиви. Ей действительно плохо. Ее знобит. Может, и до ее единой души добрался коварный нетерпимец, темный червь сомнений, породитель болезни?
Ичивари осторожно шагнул вперед, помогая себе руками, подгребая воду. Вон у самого камня лежит его стальной нож, брошенный девчонкой. Не потеряла и не выкинула, уже хорошо, приятно даже. Цела лучшая вещь, сделанная собственными руками, вызывавшая законную гордость. И еще – есть в обретении ножа польза: можно прямо теперь настрогать щепок и развести костер, отогреть эту нелепую незнакомку, укутать в мех ягуара.
– Стой где стоишь, – обернулась полукровка, щурясь опухшими веками и снова шмыгая носом. – Сказано же! Стой, а то…
– А то – что? – уточнил Ичивари, продолжая двигаться к берегу. – Ты уже призналась, что не убьешь меня. Сейчас я разведу костер, и будет тепло. Темный нетерпимец уйдет, и станет проще разбираться в происходящем.
– Бред, – дернула плечом полукровка. – Горячечный бред… Какой нетерпимец? На себя глянь! Иных нетерпимцев тут и не водится. Налетел, хозяин леса… Стой там! Я серьезно. У меня до сих пор руки болят. Я тебя боюсь. Подойдешь ближе – убью. Точно убью. Потому что и хочу, и могу, и не сдержусь.
– В воде холодно, – хитро прищурился Ичивари. – И никого ты не убьешь, уже ясно. Но я действительно виноват и признаю это. Как всякий махиг я обязан служить тем, кто обладает единой душой, и оберегать таких. Ты очень странная мавиви, но я в тебе не сомневаюсь.
Он сделал еще несколько осторожных шагов, выбрался к берегу, с самым торжественным видом встал на колени и поклонился полукровке. При этом голова скрылась под водой – ритуал требовал коснуться лбом земли… Ичивари выпрямился и встряхнулся, сгоняя с волос воду и сердито хлопая себя по левому уху, утратившему способность слышать. Нелепая мавиви то ли всхлипывала, то ли смеялась. Вряд ли она и сама толком понимала, что именно делает. Пегий конь беспокойно переступал ногами и фыркал ей в шею, стараясь успокоить… Девчонка решительно выпрямилась, погладила теплые мягкие губы Шагари.
– Пень горелый! – без прежней злости, но с некоторым вызовом буркнула она. – Не нужны мне твои поклоны. Все равно я тебя боюсь.
– Ты набрось на плечи шкуру ягуара, так будет куда теплее бояться, – посоветовал Ичивари.
– Она же мертвая! – Полукровка всплеснула руками от возмущения. – Совсем! Ты что, издеваешься? Ты посадил меня на коня, как раз на эту гадкую шкуру, и я едва сознание не потеряла!
Ичивари отжал волосы и задумался. А ведь дед что-то такое говорил… И старики тоже. Вроде мавиви в какие-то сезоны не питаются мясом и совсем не носят мех. Не греются у огня, разведенного из зеленых веток. Поэтому они никогда и не жили вместе с племенем. Увы, именно такой порядок вещей сделал их беззащитными перед коварством бледных. Собаки помогли выследить одиночек в лесу, пожары выгнали их в заранее подготовленные засады. И ружья сделали остальное. Так сказал дед Магур. Но как вести себя с мавиви, он не пояснил. Зачем? Обладающих единой с лесом душой больше нет в мире…
– Я разведу костер из самых сухих веток, – пообещал Ичивари. – Во вьюке, что я вез за седлом, – вон он, – есть одеяло из валяной шерсти. Оно тебе годится? Это хорошая шерсть, ее счесали у живых животных, промыли и обработали руками, не используя железа. Моя мама старалась. Возьми и грейся. А мне дай нож, чтобы я мог срезать дерн для устройства кострища и настрогать щепок.
– Только помни: медведь рядом, – мрачно предупредила мавиви. – Если что, останавливать его будет поздно. Это его владения, и он даже ко мне прислушивается не во всем. С медведями сложно. Они упрямые.
Мавиви многозначительно помолчала, давая время обдумать сказанное. Нагнулась, нашарила нож и бросила в сторону, подальше и к самому берегу. Отвернулась, порылась в мешке и добыла одеяло. Понюхала, потерлась щекой о шерсть и успокоенно кивнула. Замоталась так, что глаз не рассмотреть, один нос едва виден… Ичивари выбрался из воды, поднял нож и ушел в лес искать сухие ветки. Извинившись за утреннее поведение и обеспечив мавиви одеялом, он чувствовал себя превосходно. То и дело представлял, как расскажет все деду и тогда в глазах старого махига загорится огонь радости.