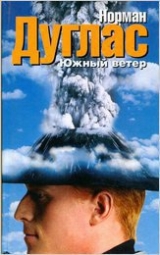
Текст книги "Южный ветер"
Автор книги: Норман Дуглас
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 32 страниц)
Глава сорок восьмая
Этим вечером люди, глядя с рыночной площади, видели многокрасочную толпу, прогуливающуюся по столь неудачно устроенному мысу госпожи Стейнлин. Весь ее дом и широкую, нависающую над морем террасу наполнили гости. Приемы госпожи Стейнлин отличались от званных вечеров Герцогини. Менее официальные, они отзывались загородным домом, напоминая скорее пикник. Хозяйка сделала все возможное, чтобы преобразовать принадлежащий ей клочок земли, этот неподатливый трахитовый мыс в подобие сада. Среди камней были пробиты дорожки, в подкрепление нескольким разрозненным оливам, аборигенам этих мест, были высажены цветы и деревья с густыми кронами, рачительно поливаемые, дабы помочь корням укрепиться в пересушенной почве. Но сад все равно просматривался насквозь.
В последние дни на Непенте появилось множество новых людей, которым хозяйка с присущей ей сердечной широтой также разослала приглашения. Здесь был знаменитый Р.А. со своей безвкусно одетой женой; группа американских политиков, предположительно составлявших доклад на экономические темы, а на деле тративших деньги правительства, бражничая по всей Европе; мадам Альбер, женщина—врач из Лиона, с помощью неповторимого сочетания магии и массажа (семейный секрет) вернувшая к жизни угасавшего Принца Филиппопольского; итальянский сенатор с двумя хорошенькими дочерьми; шумно—веселый шотландский мошенник, мистер Джеймсон, отсидевший, если правду сказать, семь лет за подлог, но не любивший напоминаний об этом; некоторое количество монастырских милосердных сестер; седой морской капитан, тайком наводящий справки о наиболее надежном в рассуждении кораблекрушения месте (судовладельцы пообещали ему двадцать процентов от суммы страховки); ветхий виконт со своей soi—disant[68]68
Так называемой (фр.)
[Закрыть] племянницей; две подвыпивших дамы из Дании, всегда путешествующие вместе и всегда улыбающиеся, правда, та что помоложе улыбалась с такой жутковатой умудренностью, что всякий невольно проникался к ней неприязнью; миссис Роджер Рамболд, обратившаяся к собравшимся с речью, в которой отстаивалось право широких народных масс на аборт; мистер Бернард, член Энтомологического общества, автор книги «Ухаживание у тараканов»; еще один молодой человек приятной наружности, которого считали архитектором по той причине, что брат его работал в известной строительной фирме —и многие другие.
Как и всегда, отсутствовал привередливый мистер Эймз. Он сидел дома, размышляя о том, что еще немного и синьор Малипиццо засадил бы его в тюрьму в связи с исчезновением Мулена. За всю свою жизнь он не попадал в такой переплет! Это показывает, насколько прав был Кит, призывавший его не поддаваться наущениям "чистой совести", а постараться поддерживать добрые отношения с законом – то есть с Судьей. Не было и Герцогини, приславшей записку с извинениями. Из—за памфлета Герцогиня пребывала в таком расстройстве, что дон Франческо не решался надолго ее покидать. Так что и он тоже отсутствовал, заодно с осиротевшим Консулом. Миссис Мидоуз давно уехала домой. Ван Коппен собирался сниматься с якоря – назавтра, с утра пораньше. Епископ с Денисом тоже уезжали на следующий день. Скоро всем предстояло расстаться.
Один только мистер Кит отказывался трогаться с места. Он дожидался первой цикады, чей скрипучий зов прозвучит, как он уверял, через неделю. До той поры он намеревался сидеть на Непенте.
– Дожидаться насекомого – это занятно, – сказал его друг, ван Коппен. – Сдается мне, Кит, что в вас скрыта сентиментальная жилка.
– Я борюсь с нею всю мою жизнь. Человек должен управлять своими рефлексами. Но если насекомое умеет хорошо показывать время, – то почему бы и нет?
Он пребывал в элегическом настроении, хоть впрочем и собирался попозже вечером изгнать все свои тревоги, прибегнув к "Фалернской системе". В воздухе пахло всеобщим исходом. Еще одна весна подходит к концу – все разъезжаются! Помимо того, Кита наполняла задумчивая грусть, которая часто одолевает сложных людей, только что сделавших доброе дело. Он словно бы обессилел.
Кит сотворил чудо.
О чуде свидетельствовали и увлажненные глаза хозяйки, и ее наряд из розового муслина, гармонировавший с ее настроением, но не с цветом кожи. Петр Великий вышел из тюрьмы. И не он один, свободу получили все русские, включая даже Мессию, которого после некоторых услуг со стороны городского врача уложили, ровно малое дитя, в кроватку. Остальные русские бродили в ярких одеждах по опрятным дорожкам сада, наполняя воздух заразительным смехом, поглощая в огромных количествах вина и закуски, теснившиеся на покрякивавших под тяжестью снеди столах. Госпоже Стейнлин можно было бы доверить любое интендантство. Она знала, как удоволить душу человека. В частности, душа Петра Великого удоволилась настолько, что к радости гостей он вскоре ударился в пляс – a pas seul[69]69
Одиночный танец (фр.)
[Закрыть]. Веселая интерлюдия завершилась печально – грубая каменная терраса обманула его ожидания, и вскоре он навзничь грохнулся на нее. Да так и остался лежать, хохоча, – словно подвыпивший молодой великан.
– Не знаю, как вы это сделали, мистер Кит, – сказала она, – и даже спрашивать не хочу. Но я никогда не забуду вашей доброты.
– Да разве вы не сделали бы для меня того же? Говоря между нами, Судья, насколько я понимаю, переволновался из—за процесса и вмешательства дона Джустино. Быть может, даже потерял голову. Это со всяким из нас случается, разве нет? Человек он нервный, но вполне приличный, если поддерживать с ним добрые отношения. С людьми так легко их поддерживать. Я нередко дивлюсь, госпожа Стейнлин, почему люди питают друг к другу такую злость? Это одна из загадок, которой мне никогда не разгадать. Другая – это музыка! Вы поможете мне проникнуться удовольствием, которое вы, судя по всему, от нее получаете? Гельмгольц ничего мне толком не дал. Он объясняет, почему некоторые звуки неизбежно кажутся неприятными...
– Ах, мистер Кит! Вам бы лучше обратиться к какому—нибудь профессору. Боюсь, вы просто не очень музыкальны. Вас когда—либо охватывало желание заплакать?
– Охватывало. Но не на концерте.
– А в театре?
– Ни разу, – ответил он, – хотя я и испытывал грусть, глядя на взрослых мужчин и женщин, путающихся в смешных одеждах и притворяющихся королями и королевами. Когда я смотрю "Гамлета" или "Отелло", я говорю себе: "Эта штука неплохо составлена. Но, во—первых, тут все неправда. А во—вторых, не имеет ко мне отношения. Так чего же я стану плакать?"
– Послушать вас, получается, что вы бессердечный, лишенный воображения человек. А в вас столько сострадания к людям! Я вас совсем не понимаю. Впрочем, и себя тоже. Всю жизнь мы наощупь продвигаемся в темноте, правда? Всю жизнь пытаемся разобраться в наших проблемах вместо того, чтобы помогать людям решать их собственные. Возможно, человеку не стоит слишком задумываться о себе, хотя это, конечно, интересная тема для размышлений. Но скажите, если музыка ничего вам не говорит, почему вы не оставите ее в покое?
– Потому что хочу иметь возможность получать от нее такое же удовольствие, какое получаете вы. Вот что подстегивает мое любопытство. Я должен понять что—то, чтобы затем наслаждаться им. С моей точки зрения, знание обостряет наслаждение. В этом и состоит моя главная цель. Что такое все прочие радости – те, которыми тешатся люди неразвитые и нелюбознательные? Эти радости сродни упоению, с которым собака, разлегшись на солнцепеке, вычесывает блох. Конечно, и к ним не следует относиться с полным пренебрежением...
– Какое ужасное уподобление!
– Зато точное.
– А вам нравится быть точным?
– Это вина моей матери. Уж больно старательно она меня воспитывала.
– Я думаю, об этом стоит лишь пожалеть, мистер Кит. Если бы у меня были дети, я бы дала им полную волю. Люди нашего времени все какие—то присмирелые. Оттого столь немногим из них свойственно обаяние. Эти бедные русские – их никто не хочет понять. Почему мы все так похожи друг на друга? Потому что никогда не следуем зову наших чувств. А есть ли на свете лучший наставник, чем сердце? Мы же живем, словно бы в мире отзвуков.
– В мире масок, госпожа Стейнлин. И это единственный театр, спектакли которого стоят того, чтобы их смотреть...
Госпожа Стейнлин была слишком счастлива, чтобы задумываться о подробностях сотворения чуда, хоть и подозревала, что в них не все чисто. Она так и не узнала, насколько незатейлив был метод, примененный мистером Китом, просто—напросто давшим Его Милости понять, что за этот сезон он получил достаточно приношений и что, если Красножабкин немедленно не выйдет на свободу, то на следующий год приношений и вовсе не будет. Судья, с обычной для него юридической проницательностью, усвоил весомость аргументации своего друга. Он пошел навстречу желаниям мистера Кита и зашел даже дальше, чем тот ожидал. В приступе несомненного добросердечия – больше его поступок объяснить нечем – он отпустил всех русских, включая Мессию. Они получили "условное освобождение", каковая оговорка должна была хорошо выглядеть в протоколах Суда, а в переводе на обычный язык означала освобождение от дальнейшего судебного преследования. Инцидент был исчерпан.
Впрочем, разговоры о нем прекратились не сразу. Как и разговоры о доне Джустино, о его прошлой карьере и нынешнем процветании. Что до Мулена – о нем уже почти забыли. Как и о Консуловой хозяйке. Одна лишь госпожа Стейнлин смогла заставить себя сказать несколько добрых слов о них обоих. Но она готова была сказать их о ком угодно. Магия любви! Сердце ее раскрылось под влиянием Петра так широко, что могло вместить не только русскую колонию, но и тысячи крестьянских семей из Китая, пострадавших, согласно заметке в утренней газете, от нежданного разлива реки Хуанхэ.
– Несчастные! – говорила она. Она не могла понять, почему никто не испытывает сочувствия к горестям бедных китайцев. Смирных и несомненно честных людей, совершенно ни в чем не повинных, смело катаклизмом с лица земли! В тот вечер на террасе об этом много говорили.
Мистер Херд, также исполнившийся чрезвычайного милосердия, поддержал госпожу Стейнлин в споре с кем—то, утверждавшим, будто сочувствовать желтокожим попросту невозможно – они слишком отличны, слишком далеки от нас. Мистер Херд думал о том, как много невзгод выпадает порой человеку, как много страданий – незаслуженных, неприметных; он думал о разрушенных домах, о детях, тонущих на глазах у родителей. И похоже, никого это не волнует.
Глава сорок девятая
Несколько позже он повернулся спиной к толкущимся по дорожкам людям и отправился на удаленную, висевшую над морем террасу. Здесь можно было в тишине полюбоваться закатом – его последним на Непенте закатом.
Он стоял, облокотившись о парапет, ощущая – в который раз – странное, сердечное дружелюбие моря. Глаза его скользили по рябоватой поверхности воды, на которой кое—где проступали то ромбовидные участки длинной травы, то обломки рухнувших скал, то белесые полоски песка; он вдыхал едковатый аромат выброшенных на берег водорослей, слушал дыхание волн. Они мягко плескались о круглые валуны, разбредшиеся по берегу, будто стадо склонивших головы бегемотов. Он вспомнил, как приходил на восходе к морю, вспомнил о не выражаемом словами доверии к солнечной стихии, чьей дружеской ласке он отдавал свое тело. Как спокойна она в этом вечернем свете. Где—то совсем рядом находилась гулкая пещера, что—то напевавшая с влажной умиротворенностью. Тени удлинялись, рыбачьи лодки уходили в море на ночную работу, темными силуэтами скользя по лежащей у его ног светозарной реке. Самоцветные оттенки синего и зеленого, которыми вода переливалась по утрам, теперь выцвели, утесы южного берега, его выступы, заливало яростное сияние. Бастионы огня...
Ему показалось, что воздух вдруг стал необычайно прохладным, бодрящим.
Здесь же, на террасе, одиноко сидел на скамье граф Каловеглиа. Епископ присел рядом, они обменялись несколькими словами. Итальянец, обычно такой разговорчивый, думал о чем—то своем и не выказывал склонности к беседе.
Мистер Херд вспомнил, как он познакомился с этим стариком – с "Солью Юга", как назвал его Кит. Это было на представлении в Муниципалитете. Тогда граф тоже был на удивление молчалив; опершись подбородком о ладонь, он сосредоточенно следил за спектаклем, поглощенный страстной грацией юных актеров.
Эта встреча состоялась всего две недели назад. Меньше двух недель. Двенадцать дней. Как много в них всего поместилось!
Подобие развеселого ночного кошмара. То и дело что—нибудь да случается. Что—то яркое, дьявольское присутствует в настроении этих мест, что—то калейдоскопичное – проказливая порочность. При всем при том прочищающая душу. Сметающая паутину. Дающая меру, мерку, посредством которой можно будет отныне исчислять земные дела. Вот и еще одна веха пройдена, еще один верстовой столб на пути к просветлению. Период сомнений закончился. Его ценности сами собою выправились. Он выковал новые, крепкие; теперь у него есть работающая, пригодная для современности теория жизни. Он в хорошей форме. Печень – он и забыл, что у него когда—то была печень. Что ни возьми, Непенте во всем пошел ему только на пользу. И теперь он точно знает, чего хочет. Скажем, о возвращении в Церковь нечего и говорить. Его симпатии переросли идеалы, исповедуемые этой организацией. Волна пантеистической благожелательности смыла ее самодовольные мелкие наставления. Англиканская церковь! На что она ныне годится? Быть может, только на то, чтобы стать ступенью для перехода к чему—то более положительному и человечному, предостережением всем, кого это касается, о том, как глупо обращать в идолов давно умерших людей вместе с их заблуждениями. Церковь? Собрание призраков!
Мысли его обратились к Англии. В Африке он часто вздыхал о ее дремотном зеленом изобилии – о ручьях, окаймленных ивами, о пасущихся стадах, запахе сена, цветущих лужайках, о грачином грае в сонных ильмах; часто думал об одной деревушке, стоящей на вершине холма, о серой ее колокольне. Что ж, через несколько дней он все это увидит. И какой представится Англия в сравнении с трепетной реальностью Непенте? Пожалуй, ограниченной, серенькой: серой на сером, приглушенный свет вверху —сумеречные чувства внизу. Все такое огнеупорное, постоянно готовое пуститься в плавание. Благодушные мысли, выражаемые посредством безопасных в их неизменности формул. Бесхитростный народ. Корабли бороздят море, умы крепко стоят на якорях общих мест. Обильно питаемое тело; дух на строгой диете. Однообразие нации, старательно уважающей законы и обычаи. Ужас перед всем отклоняющимся, крайним, необщепринятым. Боже, храни Короля.
Тем лучше. Этот из души исходящий культ традиции, стремление держаться, как за надежный якорь, за очевидность и благовоспитанность еще в зародыше уничтожали присущую низкому небу и холодным зимним просторам способность плодить чудовищ. Бажакулов. Мистера Херда вдруг поразила мысль что само провидение послало на Непенте русских – ему в назидание и поучение. Хорошо, что он увидел этих существ, в Англии немыслимых. Абсурд с тремя миллионами последователей! Достаточно было взглянуть в пустое лицо Мессии, в его глаза, слезящиеся от благочестия и пьянства, чтобы приобрести широкое гуманитарное образование. А Белые Коровки! Химеры, порождение гиперборейских туманов.
Граф Каловеглиа по—прежнему молчал. Он смотрел на солнце, чей диск уже подкатил к самому краешку горизонта. Солнце медленно тонуло, обращая воду в расплавленное золото. Все затихло. Краски покинули землю, улетев на небо. Там они рассеялись меж облаков. Наверху началось совершение колдовского обряда.
В конце концов старик заметил:
– Думаю, поэтому я и не живописец. Поэтому я и преклоняюсь перед неодолимой строгостью формы. Мы, люди Юга, купаемся в изменчивой красоте, мистер Херд... И все—таки устать от этого зрелища невозможно! Это то, что вы называете романтическим ореолом, интерлюдией волхования. Природа трепещет, полная чудес. Она манит нас, призывая исследовать удивительные, невиданные места. Она говорит: Пройди вот здесь, мой друг, и здесь – пройди там, где ты еще не проходил! Престарелый мудрец отрекается от разума и вновь становится юношей. Дух его детских снов снова приходит к нему. Он вглядывается в неведомый мир. Смотри! Повсюду толпятся приключения и открытия. Эти красочные облака, их летящие по ветру флаги, их цитадели, таинственные мысы, неуследимо возникающие в этот час посреди пейзажа, островки, словно бронзовые чешуйки, рождающиеся из закатного блеска – здесь, перед тобой все чудеса "Одиссеи"!
Он говорил из вежливости и вскоре опять примолк. Мысли его блуждали далеко отсюда.
То были мысли, соизмеримые с окружающим великолепием.
Живописцем граф Каловеглиа не был. Он был скульптором, готовым с минуты на минуту пожать плоды своих трудов. Этой ночью чек уже будет у него в кармане. Триста пятьдесят тысяч франков – или около того. Вот что делало его не то чтобы угрюмым, но сдержанным. Крайности в проявлении радости, как и иные крайности, – люди их видеть не должны. Любые крайности непристойны. Ничего лишнего. Мера во всем.
Даже в фальсификации эллинских шедевров. Он создал один из них ("Деметра" не в счет) и тем удовлетворил свое скромное честолюбие. "Фавн" был его первой подделкой – и последней. Он воспользовался странным даром, ниспосланным ему Богом, чтобы восстановить состояние семьи. Отныне он будет только художником. Даже мысль о том, чтобы стать оптовым производителем античных реликвий, заставляла его ежиться от омерзения.
Триста пятьдесят тысяч франков. Вполне достаточно. Думая об этих цифрах, он начинал удовлетворенно улыбаться. Улыбаться – не более. И пока он размышлял о заключенной сделке, в глазах его неприметно возникло выражение почтительного благоговения; в этой сумме была торжественность, размах, совершенство очертаний, по—своему напоминавшее графу пропорции одного чудесного древнего дорического храма. Примись он продавать бронзы своей собственной выделки, ему за всю жизнь не скопить бы так много. Конечно, бюст или статую работы графа Каловеглиа несомненно удалось бы продать за определенную скромную сумму; но что представляла собой репутация, рыночная ценность даже самых прославленных современных художников в сравнении с репутацией и ценностью безымянного, но совершенного мастера из Локри?
Граф видел вещи в истинном свете. Ни малейшее облачко неуважения не омрачило внутреннего отношения графа к сэру Герберту Стриту и его американскому хозяину; на самом деле, к ван Коппену он питал чувства, граничащие с обожанием. Он уловил в хитроумном американце то, чего не смог уловить никто другой – черты детской свежести и простоты. По всей видимости далекий от миллионера, как далеки два дерева, роняющие листья на разных краях дремучего леса, граф тем не менее ощущал, что корни их переплетаются глубоко под землей, живя общей жизнью, питаясь соками и симпатиями древней, тучной почвы человеческих устремлений. И достигнутым он ни в малой мере не кичился. Свое превосходство над экспертом—искусствоведом граф также воспринимал как подарок богов. Тщеславие было противно его натуре. Он не гордился, но испытывал довольство – тем, что смог вернуть себе прежнее положение в обществе; и еще более тем, что смог выковать цепь, связующую его с прошлым – ключ, открывающий ему вход в содружество Лисиппа и иных, чьи царственные тени, как он полагал, давно уже с улыбкой следили за ним. Он создал "Локрийского фавна" собственными руками. Он тоже, как сказал он когда—то Денису, "имел право на хороший обед". И намеревался теперь этим правом воспользоваться. Одним мастерским ходом он восстановил свое состояние. Ничего лишнего. Граф Каловеглиа знал историю Поликрата, человека слишком удачливого. Он знал, кто поджидает самонадеянного смертного, переступающего границу достоинства и честности. Немезида!
Триста пятьдесят тысяч франков. Матильда получит хорошее приданное. А сам он вновь отдастся своей юношеской страсти, теперь он вправе позволить себе снова стать скульптором и даже, если возникнет желание, собирателем – хоть и не совсем таким, как его восхитительный друг Корнелиус ван Коппен.
– Столкновение между Депутатом и местным судьей было весьма поучительным, вы не находите?
Как и в первый раз, он нарушил молчание только из вежливости.
– Чрезвычайно поучительным, – согласился мистер Херд. —Два мерзавца, так я их для себя определил.
Епископ, подобно прочим жителям острова, с большим удовольствием вникал в мельчайшие подробности этого возмутительного процесса. Очень было похоже, что сама судьба все так устроила, чтобы позволить ему разобраться в особенностях отправления местного правосудия, дав возможность понять, какая участь ожидала кузину, если бы она попыталась искать защиты от преследований Мулена у его близкого друга синьора Малипиццо. Ни на какую справедливость ей нечего было и рассчитывать – во всяком случае с этой стороны. Вероятней всего Судья запретил бы вывозить ребенка из пределов его юрисдикции вплоть до завершения судебного процесса, которого пришлось бы дожидаться целую вечность. Да и английский суд, обремененный давным—давно устаревшими постановлениями, вряд ли счел бы Мулена кем—то иным помимо ее законного мужа, а ребенка, рожденного в более позднем союзе, постановил бы считать плодом незаконного сожительства. Незаконнорожденный: пятно на всю жизнь! Как правильно она поступила, отказавшись следовать букве злостного закона, защитив свое дитя и семью так, как того требовал непреложный человеческий инстинкт!
Непентинский судья показал, на что он способен, поступив совершенно по—скотски с полоумным мальчишкой и с тихими русскими сумасшедшими – первый спасся лишь благодаря вмешательству головореза—политикана, а те... вообще говоря, епископ не знал точно, каким образом московитам удалось выйти на свободу, но всякому, кто слышал рассказ Кита о мисс Уилберфорс, о ее периодических отсидках и периодических выкупах, не потребовалось бы особенно напрягаться, чтобы заподозрить, что этот джентльмен негласно принял определенные меры, а подстрекнула его, по—видимому, очаровательная госпожа Стейнлин. Пародия на правосудие, олицетворяемая синьором Малипиццо, – какой непривлекательной выглядит она в сравнении с более чем удовлетворительным, прямым и деловым подходом, продемонстрированным его кузиной в незамысловатом деле Мулена!
Невозможно сомневаться в том, что ей пришлось пережить немалые страдания. Епископ вспомнил, как она выглядела, как звучал ее голос во время их первой встречи на вилле "Мон—Репо", и подумал, что если бы не муж и ребенок, она скорее всего лишила бы себя жизни, чтобы избавиться от этого негодяя. Невозможно сомневаться и в том, что она как следует все взвесила. Разумные люди не предпринимают столь серьезных шагов, не обдумав возможные последствия. Должно быть, она по мере сил старалась уговорить Мулена, прежде чем прийти к заключению, что с ним ничего поделать нельзя. Она хорошо его знала – и хорошо знала себя. Она лучше чем кто бы то ни было понимала, что ее ждет, окажись она во власти Мулена. Семейная жизнь ее будет разрушена, ребенок станет незаконнорожденным, а саму ее и Мидоуза изгонят из общества – в итоге, три сломанных жизни. Ясно, что мисс Мидоуз подобное будущее не привлекало. Она не понимала, почему ее жизнь должна быть разбита – лишь потому, что некий постыдный параграф Свода законов поддерживает какого—то прохвоста? Мулен был надоедливым насекомым. Его следовало смахнуть в сторону. Видеть в таком поступке трагедию просто смешно!
Он задумался о незначительности человеческой жизни. Тысячи достойных, честных людей сметает водный поток... И это никого не волнует! Одним отвратительным шантажистом больше, одним меньше: кому какая разница?
Загадка? Никакой загадки в его кузине не было. Кит назвал ее тигрицей. Правильно назвал. Не каждый родитель сделал бы то, что сделала она. Правда, не каждый и встает перед такой необходимостью. Не каждому хватает мужества. Если бы все так же сражались за своих детей, наша раса стала бы сильнее и лучше. Размышляя об этом, он не просто все понял. Он одобрил мисс Мидоуз, спасшую свою семью. Она была лучшей среди ей подобных.
Внезапно он вспомнил еще одну мать – с пассажирского судна, которое доставило его на Непенте, некрасивую крестьянку в черном, со шрамом поперек щеки, вспомнил, как она пыталась утешить страдающее дитя. Что сказал тогда Мулен? "Бросить его в воду! Нередко это единственный способ избавиться от помехи." В воду. Сам так сказал, слово в слово. Он стал помехой, вот его в воду и бросили. Неприятно, наверное, было лететь, вращаясь в воздухе, все—таки восемьсот футов. Но люди, на странный манер Мулена внушающие к себе нелюбовь, заслуживают всего, что они получают. Разумная женщина с таким нелепым положением никогда мириться не станет, если, конечно, отыщет средства положить ему конец.
Есть же у человека обязательства перед самим собой, n'est—ce pas?
Определенно есть.
Все это ясно, как Божий день. И мистер Херд решил, что достаточно возился с Муленом, – на земле и без него так много интересного. Ничтожный маленький эпизод! Он решил, что его следует отнести к разряду незначительных событий. Хорошо, что эта история осталась на втором, так сказать, плане его непентинских впечатлений. Там ей и место. И все—таки странно, что наиболее уважаемая на острове женщина должна была оказаться убийцей.
"Подумать только! – размышлял он. – До чего же все странно. Я как—то эти вещи никогда под таким углом не рассматривал. Это показывает, насколько следует быть осторожным... К тому же еще моя родственница. Гм. Кое—кто, если бы прознал об этой истории, назвал бы ее компрометирующей. Ну и ладно, а я вот начинаю думать, что она, пожалуй, делает честь нашей семье. Побольше бы таких женщин. Всем матерям следует быть тигрицами."
– Вы не замечаете, граф, что воздух сегодня как будто искрится? Что в нем появилось нечто прозрачное, освежающее?
– Как не заметить, – откликнулся граф. – Я даже могу назвать вам причину. Сирокко на время стих. Ветер сменился на северный. От этого все вокруг выглядит ярче. И человек начинает видеть вещи в истинном свете, не правда ли?
– В точности то, что я чувствую, – сказал мистер Херд.








