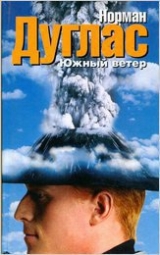
Текст книги "Южный ветер"
Автор книги: Норман Дуглас
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 32 страниц)
Глава тридцать шестая
– Вы совершенно правы, – говорил, обращаясь к мистеру Херду, граф. – Идеальное поварское искусство должно выявлять индивидуальные свойства характера, оно должно предлагать вам меню, блюда которого продуманно выбраны из кухонь самых разных стран и народов, меню, отражающее живой и разборчивый вкус хозяина дома. Существует ли, к примеру, на свете что—нибудь вкуснее настоящего турецкого плова? У поляков и испанцев также имеются выдающиеся кулинарные достижения. И если бы я имел возможность следовать в этой области моим идеалам, я бы непременно добавил к списку блюд кое—что из удивительных восточных сладостей, приготовлению которых Кит с таким успехом обучил своего повара—итальянца. Они обладают способностью наводить вас на размышления, вызывая видения роскошного и пылкого Востока, ради посещения которого я бы отдал многие из еще оставшихся мне лет.
– Так почему бы вам не сделать то, что я уже несколько раз предлагал? – спросил миллионер. – Я каждую зиму навещаю Восток; в этом году мы собираемся в первые недели ноября добраться до Бангкока. Место на борту для вас найдется. А не найдется, так мы его расчистим! Ваше общество доставило бы мне невыразимое наслаждение.
Граф Каловеглиа был, вероятно, единственным на земле существом мужского пола, когда—либо получавшим подобное приглашение от владельца "Попрыгуньи".
– Мой дорогой друг! – ответил он. – В моем положении я ничем не смогу отплатить вам за вашу доброту. Увы, это невозможно, во всяком случае сейчас. И не думаете ли вы, —продолжал он, возвращаясь к прежней теме, – что нам следует возродить некоторые забытые рецепты прошлого? Я подразумеваю не чрезмерно напичканные пряностями приправы – не огромные окорока и пироги, не лебедей и павлинов, – но, скажем, рецепты приготовления пресноводной рыбы. Щука, на мой взгляд, существо малоаппетитное, отдающее тиной. Но если приложить, как попытался однажды я, достаточные усилия и разделать ее в соответствии со сложными указаниями одной старинной поварской книги, вы получите нечто вполне съедобное и уж во всяком случае ни на что не похожее.
– Из вас вышел бы великолепный повар!
– Ясно, что граф не считает ниже своего достоинства практиковаться в самом древнем и почтенном из домашних искусств, – добавил мистер Херд.
– Ничуть не считаю. Я мог бы стряпать con amore[61]61
С любовью (лат.)
[Закрыть], имей я досуг и необходимые материалы. Любую кулинарную работу следует выполнять с уважительной любовью к делу, вам так не кажется? Утверждение, что кухарка должна иметь утварь и темперамент, необходимые для упражнений в кулинарном искусстве, не более осмысленно, чем утверждение, что солдат обязан носить мундир. И одетый в мундир солдат может оказаться плохим солдатом. Настоящая кухарка должна обладать не только этими внешними атрибутами, но и немалым жизненным опытом. Настоящая кухарка это совершенное – единственно совершенное сочетание философа и художника. Она сознает свою ценность: в ее руках счастье человечества, благополучие еще не рожденных поколений. Вот почему девушка или юноша никогда не смогут накормить вас по—настоящему. Они годятся для любой домашней работы, но только не для кухонной. Ни в коем случае! Никто не способен обратиться в философа, не завершив своего физического развития. Настоящая кухарка должна быть женщиной зрелой, она должна знать мир хотя бы в пределах, отпущенных человеку, занимающему ее положение в обществе, сколь бы скромным это положение ни было; она должна уже определить для себя, что есть добро и что зло, пусть даже самым непритязательным и неказистым образом; она должна пройти через испытания грехом и страданием или по крайней мере, – что зачастую сводится к тому же, – супружеской жизнью. Самое лучшее, если у нее будет любовник, пылкий и грубый любовник, который попеременно ласкает и поколачивает ее; ибо как всякая женщина, достойная такого названия, она испытывает, и с полным на то правом, изменчивые физические потребности, которые должны удовлетворяться исчерпывающим образом, если хозяин ее хочет иметь доброкачественный и здоровый стол.
– Мы не всегда допускаем, чтобы они отвечали всем этим условиям, – заметил мистер Херд.
– Я знаю. Поэтому нас так часто травят или морят голодом вместо того, чтобы радовать полноценной пищей.
– Но вы ведь говорили только о кухарках? – спросил ван Коппен.
– Конечно. Впрочем, само собой разумеется, что столь ответственное дело – я бы назвал его священной миссией —нельзя доверить ни одной женщине, живущей к югу от Бордо или к востоку от Вены. Причин тому много и одна из них в том, что женщины, проживающие вне этих пределов, отличаются чрезмерной сонливостью. Так вот, о кухарке, – если она еще и попивает немного...
– Попивает?
– Если она попивает, то лучшего и желать не приходится. Это показывает, что и со второй составляющей ее двойственной природы все в порядке. Это доказывает, что она обладает важнейшими качествами художника – чувствительностью и способностью испытывать восторг. По правде сказать, я порой сомневаюсь, может ли вообще что—либо вкусное выйти из рук человека, честно презирающего или страшащегося – что одно и то же – лучшего среди даров Божиих. Мой Андреа – трезвенник до мозга костей; не из каких—либо, и это меня радует, убеждений или дурного здоровья, что опять—таки одно и то же, но из необоримой потребности сэкономить мои деньги. И что же? Вы уже вкусили от его аскетизма, отведав вот этого zabbaglione, за которое я обязан принести вам мои извинения. Остается надеяться, что кофе будет отличаться большей гармоничностью.
– А вы включили бы в ваш перечень какие—либо американские блюда?
– Можете быть уверены, и немалое их число. Я сохранил приятнейшие воспоминания о балтиморской кухне.
– Все это можно получить и в Нью—Йорке.
– Несомненно, несомненно. Но что неизменно расстраивало меня во время заокеанских обедов, так это неуместная спешка с которой там покидают стол. Можно подумать, что люди стыдятся того естественного и дарующего радость занятия, для которого предназначена обеденная зала. Кроме того, не замечали ли вы, что когда гости садятся за стол, нечувствительным образом возникает определенного рода атмосфера, некий интеллектуальный тон – независимо от того, о чем ведется беседа? Наличие такой атмосферы часто остается незамеченным, но она тем не менее окутывает комнату, на какое—то время объединяя всех, кто в ней собрался. И вот нам вдруг приходится вставать, переходить куда—то еще, усаживаться в другие кресла, в другой обстановке, при другой температуре. Это тяжелое испытание. Уникальная атмосфера гибнет; гений, только что правивший нами, изгоняется, его уже не вернуть; нам приходится приспосабливаться к новым условиям, что часто требует немалых усилий и часто, очень часто оказывается нам совсем не по душе! По—моему, это порочный обычай. Из любого душевного состояния, пребываем ли мы в обществе или наедине с собой, необходимо выжимать все до последней капли, безотносительно к тому, успели мы проглотить последнюю ложку еды или не успели. Когда разговор закончится, как кончается все, лишаясь последних остатков жизни, тогда и наступит время разорвать прежнюю, соединявшую нас цепь мыслей и выковать новую, в новом, если потребуется, окружении.
– Признаюсь, стремление поскорей разбежаться в стороны всегда казалось мне несколько варварским, – сказал американец. – Я предпочитаю засиживаться за столом. Но дамы этого не любят. Они понимают, что их платья гораздо лучше смотрятся в гостиной, чем под красным деревом стола; возможно и дамские голоса приятнее звучат среди ковров и кресел. Так что нам приходится, как обычно, бежать за ними следом вместо того, чтобы заставить их бегать за нами ("как делаю я", – добавил он про себя). Однако граф! Если вам нравятся наши американские блюда, почему бы не послать вашего человека к Герцогине, чтобы она обучила его готовить некоторые из них? Я уверен, что она с удовольствием научит его; она не так ревниво оберегает свои познания, как профессиональный повар.
– Я давно уже попросил бы ее об этой услуге, если бы Андреа был прирожденным поваром, подобным тому, что служит у Кита. К несчастью он совсем не таков. Философ в его натуре представлен, а художник – увы. Он всего лишь старательный обитатель Аркадии, переполненный благими намерениями.
– А разве они в счет не идут? – осведомился епископ.
– Мне говорили, что в искусстве и в литературе они способны искупить отсутствие прирожденного дара. Все может быть. По крайней мере, некоторым удается так улестить свой разум, чтобы тот в это поверил. Но как бы там ни было, не думаю, что это правило распространяется на поварское искусство. Благие намерения – увольте! Кому приспеет охота испытывать подобное надувательство на собственном желудке, органе честном и бескомпромиссном, не желающем выслушивать всякую чушь? Или позволить ему самому ставить опыты? Благие намерения чреваты гастритом...
Мистер Херд вытянул ноги. Он чувствовал себя все более непринужденно. Ему нравился этот приятный старик; что—то прочное, неизменное было в его взглядах, во всей его личности. Да и в окружавшей их обстановке мистер Херд чувствовал себя как дома. Выражение простоты и изящества присутствовало в этой лежавшей на одном уровне с землей покойной зале, в приглушенном свете, проникавшем в нее сквозь выходящие в сад окна, в ее благородных пропорций крестовых сводах, в написанном прямо по штукатурке фризе, приобретшем от времени оттенок слоновой кости, и в иных украшениях, которые граф, верный традициям сельской архитектуры прежних времен, благоговейно оставил нетронутыми – а может быть, приспособил к современным нуждам, произведя изменения с такой искусностью, что проявленное им совершенное мастерство оставило их незримыми. В открытую дверь, через которую они сюда вошли, задувал теплый ветер, принося с собою вкрадчивый аромат белых лилий, наполовину запущенных, росших в тенистом углу двора. Епископ приметил их, когда входил, – они стояли гордыми купами, с мощным усилием клонясь, чтобы достигнуть света.
Его глаза прошлись по дворику, по полумраку, созданному могучей кроной смоковницы, по обломкам скульптур, полупогребенным в гуще листвы и кивающих цветов, и услужливо остановились на узорчатом, "в елочку", кирпичном полу дворика, отливающем красноватым, бархатистым теплом. Пол, местами немного вытертый человеческими ногами, оживляли пятна изумрудно—зеленой травы и прожилки янтарного света, игравшего на его поверхности там, где солнечным лучам удавалось пробиться сквозь накрывавшую дворик плотную листву.
Со своего места епископ видел стоявшего на пьедестале "Локрийского фавна". Фигурка тонула в сумраке. Казалось, она дремлет.
Между тем Андреа, непривычно церемонный во фраке и нитяных белых перчатках, подал кофе. Кофе оказался необычайно хорош.
– Абсолютно гармоничен, – объявил епископ и, сделав пару глотков, без колебаний распространил одобрение и на обладающий удивительным вкусом ликер, распознать составные части которого ему не удалось.
– Он из моих крошечных владений на материке, – пояснил граф. – Будь воздух яснее, я пригласил бы вас на крышу, чтобы показать это место, хотя оно находится во многих лигах отсюда. Но в такое время дня южный ветер всегда окутывает материковые земли дымкой, своего рода вуалью.
Знаток и ценитель сигар, мистер ван Коппен, открыл свой объемистый портсигар и предложил собеседникам воспользоваться его содержимым, не сообщая, впрочем, того, что сигары эти за баснословные деньги изготавливаются специально для него.
– Надеюсь, они вам покажутся достойными того, чтобы их курить. Хотя вообще говоря, пытаться, живя на яхте, сохранить сигары в приличном состоянии – дело пустое. Да и на острове вроде этого наверное тоже. В том, что касается табака, Непенте ничем не отличается от стоящего на якоре судна.
– Вы правы, – сказал граф. – Для хороших сортов влажный сирокко опасен.
– Южный ветер! – воскликнул мистер Херд. – Этакая африканская язва! А другие ветра здесь бывают? Скажите, граф, неужели сирокко дует всегда?
– По моим наблюдениям, он постоянно дует весной и летом. Едва ли с меньшим постоянством осенью, – добавил он. – Ну и зимой иногда по целым неделям.
– Звучит многообещающе, – заметил епископ. – И что же, он как—либо сказывается на поведении людей?
– Местные жители привыкли к нему или махнули на него рукой. Но иностранцы порой совершают под его воздействием странные поступки.
Американец сказал:
– Вот вы говорили о том, чтобы создать сплав нашей кухни с вашей или наоборот. Этого несомненно можно достичь и обе стороны только выиграют. Но почему бы не пойти дальше? Почему не соединить в один сплав наши цивилизации?
– Приятная греза, друг мой, которой и сам я временами обманываюсь! Наш вклад в благоденствие рода людского и вклад Америки – разве они не являются несовместимыми? В чем состоит ваш? В комфорте, в приспособлениях, позволяющих сберегать время и силы, в изобилии, словом, во всем, что, объединяясь, образует понятие полезности. Наш, если позволено будет так выразиться, – в красоте. Несомненно, мы можем к взаимной выгоде внушить друг другу наши идеалы. Но сплава все равно не получится, место соединения так и останется заметным. То будет скорее успешное сращивание, чем слияние элементов. Нет, я не вижу, как можно синкретизировать красоту и полезность, получив однородную концепцию. Они слишком антагонистичны, чтобы соединиться в одно.
– Но в жизни современной Америки, – сказал миллионер, —много прекрасного и величественного – помимо ее природы, хотел я сказать. Замечательные паровозы, к примеру – я называю их прекрасными, в совершенстве приспособленными для выполнения своего назначения. Так ли уж их красота антагонистична тому, в чем усматривает красоту ваша цивилизация?
– Я знаю, что кое—кто из выдающихся людей писал в последнее время о красоте стремительно летящего автомобиля и тому подобных вещах. В определенном смысле этого слова они правы. Ибо существует красота механической целесообразности, которую никаким искусством не усовершенствуешь. Но это не та красота, о которой я говорил.
– И потому, – заметил епископ, – нам следует придумать для нее новое слово.
– Совершенно справедливо, мой дорогой сэр! Нам следует придумать новое слово. Все существующие ценности постоянно пересматриваются и испытываются заново. Разве не так? Последние полвека мы заново формулируем моральные ценности, то же самое происходит и с художественными. То и дело возникают новые каноны вкуса, новые мерки, происходит общее расширение и умножение понятий. Полагаю, это должно заставить нас с большей осторожностью относиться к словам, которыми мы пользуемся, и быть готовыми к созданию новых слов в тех случаях, когда предстоит выразить новую идею. Если наши представления обогащаются, нужно соответственно обогащать словарь. Когда я говорю о красоте, я использую это слово в его узком классическом значении, значении быть может и вышедшем из моды, но очень удобном хотя бы тем, что оно неоспоримо закреплено и определено для нас всем, что мы унаследовали от древних по части искусства и художественной критики. И вот эта—то красота, утверждаю я, несовместима с той, другой красотой, о которой вы говорите.
– Почему же? – спросил миллионер.
– Ну, например, эллинистической скульптуре присуще некое качество – как бы нам его назвать? Назовем его фактором необычайности, тайны! Такие произведения искусства излучают нечто неясное, сообщая нам чувство их универсальной приемлемости для нас, какие бы настроения и страсти нами не владели. Полагаю, потому мы и называем их вечно юными. Они притягивают нас, будучи словно бы и знакомыми, но тем не менее принадлежащими как бы к неисследованному нами миру. Когда бы мы ни обратились к ним, они беседуют с нами на каком—то любовном и все—таки загадочном языке, на том языке, слова которого мы порою читаем в глазах просыпающегося ребенка. Между тем, самый быстрый и красивый паровоз в мире не является вечно юным, он устаревает и, прожив краткую жизнь, попадает на свалку. Иначе говоря, дух тайны, вечной юности улетучивается оттуда, куда вторгается полезность. Существует и еще один элемент классической красоты, столь же несовместимый с вашей современной ее концепцией: элемент авторитета. Увидев Праксителева "Эрота" даже совершенно неотесанный человек проникается уважением и к самому изваянию, и к его творцу. "Что за человек его сделал?" – интересуется он, ибо сознает, что эта скульптура как—то воздействует на его неразвитый ум. Возьмем теперь некоего мсье Кадиллака, который строит прекрасные автомобили. Что за человек их делает? Нас это и на йоту не интересует. Он, может быть, и не человек вовсе, а еврейский синдикат. Ничего не попишешь, я не могу принудить себя чтить мсье Кадиллака с его машинами. Они комфортабельны, но фактор авторитета, вынуждающий нас склониться перед "Эротом", в них отсутствует полностью. Тем не менее и то, и другое называют прекрасным. Что же доказывает применение нами одного и того же слова к произведениям столь различным, столь безнадежно антагонистичным одно другому, как произведения Праксителя и мсье Кадиллака? Лишь недостаточность нашей изобретательности. А о чем оно свидетельствует? О том, что в головах у нас царит неразбериха.
Глава тридцать седьмая
Миллионер заметил:
– Думаю, с годами взгляды людей меняются. Демократия наверняка изменила прежние ваши воззрения.
– Безусловно. Насколько я понимаю, ни американцы, ни какие—либо иные из наших современников, к какой бы расе они ни принадлежали, не способны отделаться от представлений, согласно которым все люди равны: в глазах Господа, добавляют они, подразумевая свои собственные. И опять—таки насколько я понимаю, ни древние греки, ни какие—либо иные древние, к какой бы расе они ни принадлежали, не могли бы впасть в столь нелепое заблуждение. Демократия не изменила моих воззрений, она их уничтожила. Она заменила цивилизацию прогрессом. Для восприятия обладающих красотою творений, на что способны и американцы, человеку нужен разум. Разум совместим с прогрессом. Для создания их, на что были способны греки, необходим разум и кое—что еще – время. Демократия, покончив с рабством, устранила и элемент времени – элемент, для цивилизации обязательный.
– У нас в Америке рабства и поныне хватает.
– Я использую это слово в его античном смысле. Ваше современное рабство другого рода. Ему присущи все недочеты и лишь очень немногие положительные стороны классической разновидности. Оно снабжает досугом не тех, кого следует —людей, воспевающих достоинство труда. Тем, кто рассуждает о Достоинстве Труда, лучше избегать разговоров о цивилизации —из опасения перепутать ее с Северным полюсом.
Американец рассмеялся.
– Это камушек в мой огород, – заметил он.
– Напротив! Вы являетесь восхитительным примером удачного слияния, о котором мы только что говорили.
– Цивилизация и прогресс! – воскликнул мистер Херд. – В той сфере деятельности, где я подвизаюсь, эти два слова используют так часто, что я начал подумывать, а имеют ли они хоть какое—то значение, кроме следующего: все постепенно меняется к лучшему. Предполагается, будто они указывают на восходящее движение, на некоторый шаг в сторону улучшений, которых я, честно говоря, углядеть не способен. Что толку в цивилизации, если она делает людей несчастными и больными? Нецивилизованный африканский туземец наслаждается здоровьем и счастьем. Жалкие создания, среди которых я работал в лондонских трущобах, не имеют ни того, ни другого, зато они цивилизованы. Я окидываю взглядом столетия и не вижу ничего, кроме незначительных перемен! Да и в этом я не уверен. Пожалуй, одни лишь различия в мнениях относительно ценности того или этого в разные времена и в разных краях.
– Простите! Я пользовался этими словами в специфическом смысле. Под прогрессом я подразумевал сплочение общества, не важно ради какой цели. Прогресс это центростремительное движение, растворяющее человека в массе. Цивилизация центробежна, она допускает и даже утверждает обособленность личности. Потому эти два термина и не синонимичны. Они обозначают враждебные, разнонаправленные движения. Прогресс подчиняет. Цивилизация координирует. Личность возникает в рамках цивилизации. И поглощается прогрессом.
– Можно назвать цивилизацию спокойным озером, – сказал американец, – а прогресс – рекой или потоком.
– Точно! – откликнулся мистер Херд. – Одна статична, другой динамичен. И кто же из них по—вашему, граф, более благодетелен для человечества?
– Ах! Лично я не стал бы заходить так далеко в рассуждениях. Вникая в эволюцию общества, мы можем заключить, что прогресс представляет собой движение более юное, ибо сплачивающее людей Государство появилось позднее обособленной семьи или клана. Это тот предел, до которого я решаюсь дойти. Споры на тему, что лучше для человечества, а что хуже, обличают то, что я называю антропоморфным складом мышления, поэтому для меня такой проблемы просто не существует. Мне достаточно установления факта несовместимости, взаимоисключаемости цивилизации и прогресса.
– Вы хотите сказать, – спросил миллионер, – что невозможно быть в одно и то же время цивилизованным и прогрессивным?
– Да, именно это. Так вот, если Америка выступает за прогресс, нашему старому миру можно, пожалуй, разрешить —сказав о нем несколько лестных слов, не больше, чем причитается любому покойнику – представлять цивилизацию. Объясните же мне, мистер ван Коппен, как вы предполагаете соединить или примирить столь яро антагонистические устремления? Боюсь, нам придется подождать, пока не наступит рай на земле.
– Рай на земле! – эхом откликнулся мистер Херд. – Еще три несчастных слова, без которых в моей профессии никак не обойтись.
– Отчего же несчастных? – спросил мистер ван Коппен.
– Оттого что они ничего не значат. Рай на земле никогда не наступит.
– Но почему?
– Да потому что он никому не нужен. Людям требуется нечто осязаемое. А к раю на земле никто не стремится.
– И это довольно удачно, – заметил граф. – Поскольку будь все иначе, Творцу пришлось бы потрудиться, устраивая его, тем более, что каждый из людей представляет себе рай на земле по—своему, совсем не так, как его сосед. Мой ничуть не схож с вашими. Интересно было бы узнать, мистер ван Коппен, на что походит ваш?
– И мне интересно! Я как—то никогда об этом не думал. То и дело приходилось решать другие задачи.
И миллионер стал обдумывать вопрос с обычной для него ясной определенностью мысли. "Без женщин не обойдешься", —вскоре заключил он про себя. Но вслух сказал:
– Думаю, мой рай принадлежит к довольно противоречивой разновидности. Прежде всего, мне потребуется табак. Кроме того, мой рай безусловно нельзя будет считать настоящим, если я не смогу подолгу наслаждаться вашим обществом, граф. У других людей все может оказаться гораздо проще. Скажем, рай Герцогини уже близок. Она вот—вот перейдет в лоно Католической церкви.
– Вы мне напомнили, – сказал мистер Херд. – Некоторое время назад Герцогиня угощала меня замечательными булочками. Восхитительно вкусными. И говорила, что они по вашей части.
– А, так вы их тоже распробовали? – рассмеялся американец. – Я много раз говорил ей, что стоит человеку приняться за ее булочки и его уже ничем не остановишь, я во всяком случае такого представить себе не могу. Я позавчера едва не объелся ими. Пришлось перенести второй завтрак на яхте на более позднее время. Больше этого никогда не случится – я имею в виду поздний завтрак. Кстати, вы не знаете, чем закончилась затея с мисс Уилберфорс?
Мистер Херд покачал головой.
– Это та особа, – поинтересовался граф, – которая много пьет? Я ни разу не беседовал с ней. Она, по—видимому, принадлежит к какому—то из низших сословий, представители которого достигают с помощью алкоголя приятных эмоций, даруемых нам хорошей пьесой, музыкой, картинной галереей.
– Нет, она леди.
– Вот как? Значит, она грешит невоздержанностью, присущей тем, кто ниже ее. Это некрасиво.
– Воздержанность! – сказал епископ. – Еще одно слово, которым мне вечно приходится пользоваться. Умоляю вас, граф, объясните мне, что вы подразумеваете под воздержанностью?
– Я сказал бы, что это такое употребление наших способностей и телесных органов, которое позволяет сочетать максимум наслаждения с минимумом страданий.
– А кто способен определить, где употребление переходит в злоупотребление?
– Сколько я себе представляю, нам не остается ничего лучшего, как обратиться за ответом на этот вопрос к нашим телам. Они точно укажут нам, как далеко мы вправе зайти, оставаясь безнаказанными.
– В таком случае, – сказал миллионер, – если вы время от времени перебираете – только время от времени, хочу я сказать! – вы не называете это невоздержанностью?
– Разумеется нет. Мы ведь не пуритане. Мы не называем вещи именами, которые им не принадлежат. То, о чем вы говорите, было бы, смею сказать, лишь переменой, как то блюдо из щуки: чем—то таким, чего мы не пробуем каждый день. Знаете, что сказали бы люди, если бы я по временам являлся домой навеселе? Они сказали бы: "Старый господин решил нынче ночью повеселиться. Да благословит Господь его душу! Пусть вино пойдет ему на пользу". Но если я начну поступать так, как судя по рассказам, поступает мисс Уилберфорс, они скажут: "Старик, похоже, не владеет собой. Он становится невоздержанным. Каждый вечер! Смотреть неприятно." Они никогда не скажут, что это плохо. Желая кого—либо осудить, они говорят: смотреть неприятно. Как видите, этический момент заменяется эстетическим. Это характерно для Средиземноморья. И одна из заслуг Католической церкви состоит в том, что она позволила нам сохранить в нашем отношении к мелким нравственным провинностям хотя бы немногие крупицы здравого смысла.
Епископ заметил:
– Те проявления местного католицизма, которые я наблюдал, показались мне похожими на пантомиму. Хотя в этом, вне всякого сомнения, повинно мое воспитание.
– О, я говорил не о внешних проявлениях! С внешней стороны Церковь, разумеется представляет собой чистейшее рококо...
В этой дружественной обстановке горизонты мистера Херда расширялись прямо—таки на глазах, он чувствовал, как вступает в соприкосновение с вечными сущностями. Он смотрел на продолжающего говорить графа. Как чарующе выглядит этот среброголовый старый аристократ! Богатство и утонченность его личности, его неторопливая беседа – как гармонично они сочетаются со всем, что их окружает! Он внушал – на свой лад – мысль о юности, обо всем блаженном, незамутненном, вечном; он был отражением, запоздалым цветком классического великолепия, руины которого лежали вокруг. Такой человек, думал епископ, заслуживает счастья и преуспеяния. Какую радость должна была доставить человеку его темперамента негаданная находка "Локрийского фавна"!
Снаружи, во дворике царил великий покой. Тени переместились. Солнечные пятна образовали на старом кирпичном настиле новый узор. Овальный столб света, мерцая в листве, падал на пьедестал "Фавна", украдкой всползая по его полированной поверхности вверх. Епископ взглянул на скульптуру. Она все еще дремала в тени. Но еле приметное изменение охватило фигурку – или, подумал епископ, что—то переменилось в его сознании вследствие сказанного графом? Теперь по напряженным мышцам "Фавна" струилась энергия. Епископ чувствовал, что при малейшем прикосновении заклятие будет снято и тусклый металл оживет.
Мистер ван Коппен немного обиделся.
– А не слишком ли вы строги к пуританам? – спросил он. – Что бы с нами стало, не будь их в Америке?
– И в конце концов, – добавил епископ, – именно они покончили с множеством злоупотреблений. Вот уж кто был воздержан! Я даже склонен думать, что в некоторых вопросах воздержанность их была чрезмерной, они далеко не всегда снисходили к человеческим слабостям. Впрочем, это у них от Библии.
Граф медленно покачал головой.
– Библия, – сказал он, – самая невоздержанная книга, какую я когда—либо читал.
– Подумать только!
Мистер ван Коппен, человек тактичный, издали учуял опасность. Он заметил:
– Не знал, что итальянцы читают Библию. Где это вы с ней познакомились?
– В Нью—Йорке. Я там нередко развлекался тем, что прогуливался по еврейским кварталам, изучая их обитателей. Чудесные типы, чудесные позы! Но разобраться в них человеку моей расы трудно. Однажды я сказал себе: надо почитать написанное ими, это может помочь. Я прочитал Талмуд и Библию, они действительно помогли мне понять этот народ и его воззрения.
– И каковы же их воззрения?
– Их Бог это верховный надзиратель. Вот в чем, на мой взгляд, главная тема Библии. И она объясняет, почему у греко—латинских народов, так и оставшихся в глубине души язычниками, Библия всегда считалась экзотической книгой. Наш Бог не надзиратель, он соучастник. Что касается остального, тенденция Библии в целом, ее наставительный тон кажутся нам противостоящими идеалам невозмутимости и умеренности, которые, как бы ими ни пренебрегали на практике, всегда считались теоретически желательными в этих краях. Говоря короче, южанам недостает того, чем обладаете вы: избирательной сродненности с этой книгой. Можно только гадать, почему моральные принципы смуглых семитов пришлись так впору чужой для них белокожей расе, срослись с ней так цепко, что смогли повлиять на все ваше национальное развитие. Хотя мне кажется, – добавил он, – что я наконец нашел решение этой загадки, меня, во всяком случае, удовлетворяющее.
Епископ, засмеявшись, прервал его:
– Должен сказать вам, граф, что я сегодня не ощущаю себя епископом. Ни в малой степени. За всю мою жизнь я не чувствовал себя епископом в меньшей мере. И кстати сказать, в последнее время сильнее всего пошатнули авторитет Библии именно наши английские духовные лица, предложившие современное ее толкование. Прошу вас, продолжайте!
– По моим представлениям, все дело в различии расовых темпераментов.
– Гот и римлянин?
– Прибегать к подобным терминам не всегда предпочтительно, слишком легко скрыть за ними убогость мысли или запутать вопрос. Но с определенностью можно сказать, что солнце, окрасившее нашу кожу и правящее нашими повседневными привычками, повлияло также на наш облик и взгляды. Почти истерические смены света и мрака, зимы и лета, так сильно отразившиеся в литературе Севера, нам незнакомы. Северные народы – по климатическими или иным причинам – привержены крайностям, так же как их мифы и саги. Библия же это по существу книга крайностей. Документ насилия. Гот или англо—сакс благоволит этой книге, потому что она всегда отвечает его целям. А целям его она отвечает по той причине, что как бы резко ни менялись его настроения, он всегда находит в ней именно то, что ищет – авторитетное одобрение любой разновидности эмоционального поведения, от варварской мстительности до презренного самоуничижения. Единственное, чего он никогда бы в ней не нашел, даже если бы захотел, это призывов к разумной жизни, к поискам интеллектуальной честности и самоуважения, к стремлению держать разум открытым для логики всех пяти чувств. Вот почему в неспокойные Средние века, когда колебания национальной и личной жизни были еще более резкими, и стало быть классическая воздержанность была более чем когда—либо сброшена со счетов, Библия так сильно владела вашими умами. Остальное довершил ваш консерватизм, ваше уважение к существующим установлениям. Нет! Я не могу припомнить ни одного места в Библии, рекомендующего вести воздержанное философское существование, хотя было бы странно, если бы в столь объемистом альманахе не содержалось нескольких здравых суждений. Воздержанность, – заключил он, словно обращаясь к себе самому, – воздержанность! Все прочее – лишь прикрасы.








