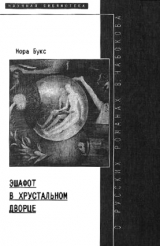
Текст книги "Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова"
Автор книги: Нора Букс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 12 страниц)
Однако названными произведениями аллюзия не исчерпывается. Человек, свистящий под окном, символизирующий убийство, надвигающуюся смерть, весь белый, оснеженный с ног до головы [182]182
Именно таким «белым» человеком и приходит к Кречмару Горн. На следующее утро после ужина «сам Кречмар открыл ему дверь и не сразу узнал вчерашнего гостя в этом убеленном снегом человеке» (с. 98). Образ Горна наделен и другим признаком убийцы: Магда «заставала его за работой. Он издавал музыкальный, богатый мотивами свист, пока рисовал» (с. 133).
[Закрыть], является пародийной, инверсивно-цветовой отсылкой к «черному человеку» из «Моцарта и Сальери» Пушкина, к литературному произведению о музыке. После смерти дочери Аннелиза вышла на балкон и увидела мороженщика, чей сливочный товар приводил в восторг девочку; «странно было, что он – весь в белом, а она – вся в черном», – думает Аннелиза (с. 163). Символ смерти и символ радости неразличимы на глаз – сходство, уходящее в уже означенную тему зрения/понимания.
Из аллюзий, предполагающих музыкальный адресат, приведу еще две. Магда играет в фильме «Азра», рассказывающем о несчастной любви с трагическим финалом. Название фильма, как и его тема, – аллюзия на стихотворение Г. Гейне «Азра», вошедшее в сборник «Романсеро».
Отсылка обнаруживается и в других сценах «Камеры обскура». У Гейне любовная встреча и объяснение происходят у фонтана. Цитирую по переводу В. Брюсова:
В романе любовные сцены также связаны с каскадом воды, но воспроизводимым пародийно, например, воды в ванной. В этом случае камерность жанра-адресата соотносится с изобразительной камерностью визуализированного чувства. Пример: после долгого перерыва, в отеле, в городке Ружинар, Магде наконец удается соединиться с Горном благодаря общей ванной. Едва вносят чемоданы, Магда бросается в ванную, закрывает задвижку. Кречмар остается бриться в номере.
«За дверью вода продолжала литься. Она лилась громко и непрерывно. Кречмар тщательно водил бритвой по щеке. Лилась вода, – причем шум ее становился громче и громче. Внезапно Кречмар увидел в зеркало, что из-под двери ванной выползает струйка воды, – меж тем шум был теперь грозовой, торжествующий».
(с. 139)
Льющаяся вода, очередная визуализация потока чувств, который заливает счастливых любовников в соседнем номере. Любовная сцена «у фонтана» повторяется в романе. Например, живя втроем в домике со слепым Кречмаром в Швейцарии, Горн и Магда регулярно шли «гулять на часок […] поднимались к водопаду» (с. 183).
Между тем ванная является сквозным образом романа. В ванной Горн запирает Левандовскую, чтобы сбежать с Магдой (с. 24); пока Аннелиза возится в ванной, Кречмар договаривается по телефону с Магдой (с. 35); обманутая Аннелиза вспоминает, как они с мужем купали «трехлетнюю Ирму в ванночке в Аббации» (с. 74), Кречмар учит Магду «каждое утро принимать ванну» (с. 62), а по вечерам сам купает ее, «так водилось у них» (с. 83), наконец, благодаря смежной ванной Магда перебегает в номер к Горну. В романе воплощаются два мотива, содержащихся в образе купания в ванне: мотив родительской любви и любви эротической, очищения и порока. Это связано с общим развитием любовной темы в произведении – Кречмар уходит от жены и дочери к женщине-девочке, похоть и нежность концентрируются на одном объекте.
Однако образ женщины в ванной является в романе еще одной аллюзией, обнаружение адресата придает ему неожиданный пародийно-политический смысл. На ужине у Кречмара врач-меломан Ламперт говорит Магде о музыке Хиндемита (с. 87). Упоминание Хиндемита не случайно в контексте синкретичной аллюзивности романа; большинство произведений этого композитора, принесших ему известность в 20-е годы, написаны на основе литературных произведений. Так, например, цикл песен «Житие Марии» (1923) на стихи Рильке, опера «Кардильяк» (1926) по повести Гофмана «Мадемуазель де Скюдери». В 1929 году Хиндемит написал оперу «Новости дня», центральная сцена ее – женщина в ванной – вызвала гнев нацистов, а впоследствии и личное возмущение Гитлера.
В романе немало аллюзий на произведения, созданные на пересечении литературы и живописи. Например, на ужине у Кречмара художница Марго Денис упоминает работы Каммингса, «его последнюю серию – виселицы и фабрики» (с. 88). Эдвард Каммингс, американский поэт и художник, сочетал в своем творчестве лиризм и семантическое разрушение. В 1923 году был знаменит его сборник «Тюльпаны и трубы» [184]184
Grosman D. J.E. E. Cummings. Seghers, 1996.
[Закрыть].
Другой пример: герой прозы Зегелькранца, «вспомнил строку из „Пьяного корабля“» (с. 148), глядя на рекламу со словом «левиафан». Аллюзия обнаруживает двух адресатов: одного, очевидного, – стихотворение А. Рембо «Пьяный корабль», другого, скрытого, – картину И. Босха «Корабль дураков», изображающую пьяных мужчин, женщин и монаха на кораблике. Тема «пьяных на барже» традиционна в фольклоре и литературе Фландрии XV века [185]185
Многие искусствоведы датируют картину И. Босха 1494 годом, когда появилась сатирическая поэма Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и соответственно связывают с ней изображенное на полотне.
[Закрыть]. Вишни на тарелке на полотне Босха носят смысл эротического соблазна. Вишни, привезенные в Европу из крестовых походов, считались в эпоху Босха плодами рая. Ср. у Набокова: Кречмар при повторном посещении кинотеатра видит фильм «Когда цветут вишни» (с. 15). Название картины – пародийная отсылка к «Вишневому саду» А. Чехова. Вишни как пародийный знак утраченного рая возникают позднее в повествовании: слепой Кречмар, лишенный близости с Магдой, «сокрушенно кивал, медленно поедая вишни» (с. 181).
Второй треугольник, возникающий в романе: Кречмар – Магда – Горн, – является пародийным воспроизведением треугольника библейского: Адам – Ева – Змей, при этом роли соблазненного и соблазнителя постоянно меняются. Признаки змеи появляются то у Магды [186]186
«Магда, как змея, высвобождалась из темной чешуи купального костюма» (с. 78). Последняя мысль Кречмара: «какие у нее выпуклые глаза» (с. 204) – глаза змеи.
[Закрыть], то у Горна [187]187
«…Она и Горн, оба гибкие, проворные, со страшными лучистыми глазами навыкате…»
(с. 199)
[Закрыть]; Адама – то у Кречмара [188]188
Райское одиночество вдвоем с молодой купальщицей в снах Кречмара.
[Закрыть], то у Горна [189]189
«Горн сидел на складном стульчике, совершенно голый» (с. 193) перед слепым Кречмаром, и, когда на него неожиданно набрасывается приехавший Макс, «вдруг произошла замечательная вещь: словно Адам после грехопадения, Горн, стоя у стены и осклабясь, пятерней прикрыл свою наготу» (с. 195). Постоянная смена ролей только подкрепляет аллюзию на библейский сюжет. Так, в 3-й главе Книги Бытия Господь Бог наказывает змея враждой между ним и женщиной, предсказывая, что она будет поражать его в голову, а он ее в пяту.
В результате аварии Кречмар слепнет от кровоизлияния в мозгу, «его лицо обросло жестким, курчавым волосом, и ярко розовел на виске шрам» (с. 180). В сцене в отеле, когда Кречмар хочет убить Магду из ревности, он думает: «Невозможно стрелять, пока она снимает башмачок. На пятке было красное пятно, кровь просочилась сквозь белый чулок» (с. 155). После примирения «он встал, подошел к ней, посмотрел на ее сморщенную розовую пятку с черным квадратом пластыря, – когда она успела наклеить?» (с. 158).
[Закрыть]. По тексту «рассыпаны» экзотические райские фрукты: груши, абрикосы, апельсины [190]190
Пародийно они трансформируются в человеческие черты: старик «с носом как гнилая груша» (с. 26), «певица с абрикосовыми волосами» (с. 86).
[Закрыть]. Так, в сцене смерти дочери познавший любовь Кречмар, т. е. уже вкусивший от плода познания, привычно ест апельсин: «Погодя он взял апельсин и машинально принялся его чистить […] Кречмар медленно ел апельсин. Апельсин был очень кислый. Вдруг вошел Макс и, ни на кого не глядя, развел руками» (с. 118–119). В романе обманно повернут и маршрут библейского сюжета: обретение любви понимается героями как обретение рая [191]191
Кречмар, летя в таксомоторе к Магде, думает: «Сейчас будет рай» (с. 51).
[Закрыть], которое внезапно превращается в «адовое ощущение плотной, черной преграды», «смертельный, могильный ужас» (с. 168), непрерывное страдание. Развитие романного сюжета по аналогу библейской модели понимается как аллюзия на знаменитый триптих И. Босха «Сад наслаждений» [192]192
Отмечу, что в английском романе «Laughter in the Dark» живописные аллюзии Набокова на картины другого фламандского художника, более позднего, П. Брейгеля. Исследователи часто цитируют названную в тексте работу Брейгеля «Нидерландские пословицы» (с. 11), однако в повествовании легко обнаруживаются отсылы к полотнам неназванным, как, например, «Крестьянская свадьба» (с. 8), «Свадебная трапеза» (с. 8), «Зимний пейзаж с катающимися на льду» (с. 9).
[Закрыть].
Левая часть триптиха отличается светлой палитрой, прозрачностью красок. Ева представляется уже проснувшемуся Адаму самим Создателем (ср.: в романе сны Кречмара и встреча с Магдой наяву в кинотеатре, кино, как искусство, выступает в роли творца). На первом плане дерево с плодами. Экзотическая обстановка рая обусловливает подмену традиционного яблока экзотическими фруктами.
Средняя часть триптиха, изображающая грехопадение людей, самая яркая по цвету, отличается массовостью сцен. Ср.: в романе после сближения Магды и Кречмара мир их наполняется людьми. Приведу примеры: пляж в Сольфи, танцы в казино, ужин у Кречмара, просмотр фильма, Спорт-Палас, поездка втроем на Итальянские озера – у Босха в верхней части картины виднеется чистое голубое озеро.
Третье полотно триптиха, мрачное и темное по цвету, называется «Ад музыкантов». Мотив наказания за творчество пародийно отражается у Набокова. Артистическая мотивация обнаруживается в наказании Кречмара слепотой: «Специальностью Кречмара было в конце концов живописное любострастие. Лучшей его находкой была Магда. А теперь от Магды остался только голос, да шелест, да запах духов…» (с. 179). Наказание за попытку творчества испытывает и Магда на просмотре фильма, в котором играет: «…она была как душа в аду, которой бесы показывают земные ее прегрешения» (с. 128).
В центре картины в кресле изображен монстр, наблюдающий и пожирающий людей. Ср.: в романе – Горн, наблюдающий жизнь Кречмара как программу «превосходного мюзик-холла, в котором ему, Горну, предоставлено место в директорской ложе» (с. 124). Рядом, также в центре полотна, расположено гигантское ухо, пронзенное стрелой, – знак несчастья, глухота – евангельская парабола: «Имеющий уши да услышит».
В романе на первом плане глаз, зрение, слепота; подмена объясняется пародийной моделью произведения – визуальным искусством кинематографа.
Синкретизм приведенной аллюзии особенно эффектен не только тем, что адресатом ее является одновременно библейский текст и живописное полотно, но и тем, что жанр цитируемой картины, триптих, представляет собой максимальное приближение живописи к кино.
3
Экран в романе Набокова, как некое освещенное замкнутое пространство, в котором происходит действие, делит персонажей произведения на зрителей/наблюдателей этого действия и на его участников. Это подкрепляется еще и буквальным разделением героев на две группы: артистов (о пародийной причастности героев к искусству упоминалось выше) и, условно говоря, прислугу: горничных, бонн, почтальонов, кухарок, швейцаров… Они-то и образуют публику зрительного зала, наблюдают яркую до нереальности жизнь других, формулируют общее мнение, расхожую мудрость, которая закрепляется в словесных метафорах, речевых штампах. К визуализации этих штампов и стремится кино.
Приведу пример:
«Швейцар, разговаривавший с почтальоном, посмотрел на Кречмара с любопытством.
– Прямо не верится, – сказал швейцар, когда те прошли, – прямо не верится, что у него недавно умерла дочка.
– А кто второй? – спросил почтальон.
– Почем я знаю. Завела молодца ему в подмогу, вот и все […] А ведь приличный господин, сам-то, и богат, – мог бы выбрать себе подругу поосанистей, покрупнее, если уж на то пошло.
– Любовь слепа, – задумчиво произнес почтальон».
(с. 125–126)
Художественная замкнутость кинопроцесса делает возможным переход героев из одного статуса в другой: так, Магда, дочь швейцарихи, становится кинодивой, а Горн, артист, превращается в зрителя.
Ракурс, как точка зрения наблюдателя или как точка зрения действующего лица, одно из важных стилистических средств кино, трансформируется в художественный литературный прием в набоковском киноромане. Установка на визуализацию повествования при отсутствии нарратора в тексте реализуется во многом при помощи ракурса. Прием ракурса при переведении из кино в литературу способствует регистрации не только видимого, но и видящего. Так, восприятие Кречмаром внешности Магды обнаруживает в нем знатока живописи («…чудесный продолговатый блеск случайно освещенного глаза и очерк щеки, нежный, тающий, как на темных фонах у очень больших мастеров», с. 13–14), а ракурс Магды вскрывает свойственный ей мещанский здравый смысл, материальную оценочность как основной жизненный критерий («После вдумчивых и осмотрительных поисков она нашла в отличном районе неплохую квартиру», с. 46).
Условия ракурса определяют в романе функции глаза – зрение и отражение. Кречмар не скрывается перед «остроглазым» Горном (с. 100), который быстро подмечает все. Одновременно глаза Горна отражают печальное положение его дел.
«„Скажи, – спрашивает Горн Магду, – как ты вынюхала, что у меня нет денег?“
„Ах, это видно по твоим глазам“, – сказала она».
(с. 103)
Глаза, которые ничего не отражают, являются в романе признаком глупости (у Аннелизы были «светлые, пустые глаза», с. 49) или смерти (умирающая Ирма «тихо мотала из стороны в сторону головой, полураскрытые глаза как будто не отражали света», с. 117). Невидящие глаза, глаза слепого – еще одна категория, вводимая в текст. Восприятие слепого – интуитивное [193]193
Пример интуитивного восприятия слепого:
«Профессор, знаменитый окулист […] Кречмар представил его себе карапузистым старичком, хотя в действительности профессор был очень худ и моложав».
(с. 171)
[Закрыть], основанное на свидетельстве зрячих [194]194
«Магда описывала ему все краски там – синие обои, желтый абажур, – но, по наущению Горна, нарочно все цвета изменила: Горну казалось весело, что слепой будет представлять себе свой мирок в тех красках, которые он, Горн, продиктует».
(с. 182)
[Закрыть], на собственной памяти [195]195
«Питаясь воспоминаниями о ней [о жизни. – Н. Б.], он словно перебирал миниатюры […] Он с ужасом замечал теперь, что, вообразив, скажем, пейзаж, среди которого однажды пожил, он не умеет назвать ни одного растения, кроме дуба и розы, ни одной птицы, кроме вороны и воробья».
(с. 178–179)
[Закрыть], на звуковых впечатлениях [196]196
«Он старался жить слухом, угадывать движения по звукам…» и, когда «вдруг услышал в конце стола странный звук, – как будто человеческое придыхание», решил, что у него «начинаются слуховые галлюцинации» (с. 182–183).
Трагическая ситуация слепоты в романе как изоляции от мира («гладким покровом тьмы он был отделен от недавней […] ярко-красочной жизни…» (с. 178) служит аллюзией на стихотворение В. Ходасевича «Слепой»:
Палкой щупая дорогу,Бродит наугад слепой,Осторожно ставит ногуИ бормочет сам с собой.А на бельмах у слепогоЦелый мир отображен:Дом, лужок, забор, корова,Клочья неба голубого —Все, чего не видит он.(1923) Ходасевич В.Собрание стихов. Париж, 1983. Т. 2. С. 6.
[Закрыть]– всегда ошибочно и ложно, как ложно и ошибочно зримое восприятие мира.
«Все, – вспоминает ослепший Кречмар, – в прошлой жизни было прикрыто обманчивой прелестью красок, его душа жила тогда в перламутровых шорах, он не видел тех пропастей, которые открылись ему теперь» (с. 179).
Однако и противоположное убеждение, «что физическая слепота есть в некотором смысле духовное прозрение» (с. 179), оказывается несостоятельным.
В романе воспроизводятся разные смысловые уровни зрительного процесса. Отмечу некоторые из них.
Предвидеть – в значении заранее предчувствовать надвигающееся событие, хоть и не связано с визуальными возможностями, декларируется как открытое видение, не блокированное границами времени и пространства. Например, «после размолвки с мужем у Аннелизы развилась прямо какая-то телепатическая впечатлительность» (с. 105).
Видеть – в значении регистрировать окружающий мир как модель для копирования. В этом состоит метод Зегелькранца: «воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью». Но, перенесенная в текст, жизнь теряет изобразительность, становится «анонимным письмом» (с. 176).
Видеть – в значении эстетического любования, игнорируя смысл объекта. Например, сцена на пляже в Сольфи, когда Кречмар разглядывает Магду [197]197
«Теперь Кречмар видел ее, окруженную солнечной пестротой пляжа, которая, однако, была сейчас для него мутна, настолько пристально он сосредоточил взгляд на Магде. Легкая, ловкая, с темной прядью вдоль уха, с вытянутой после броска рукою в сверкающей браслетке, Магда виделась ему как некая восхитительная заставка, возглавляющая всю его жизнь».
(с. 77)
[Закрыть]. Такое использование дара зрения, как уже говорилось выше, наказуется.
Видеть – в значении постигать ситуацию, согласно зрительным впечатлениям. Понимание, как правило, оказывается ошибочным. Пример – та же сцена на пляже в Сольфи, но увиденная англичанкой. Она принимает любовников за резвящихся отца с дочерью и ставит Кречмара в пример своему ленивому мужу [198]198
«Look at that German romping about with his daughter. Now don’t be lazy, take the kids out for a good swim».
(p. 78)
[Закрыть]. Ее замечание, сделанное по-английски, сохраняет смысловое несоответствие на уровне соседства двух иностранных языков.
Реальному визуальному акту в романе противопоставлено видение нереальное: снов, воспоминаний (зрение, обращенное в прошлое), мечтаний (в будущее). С физической слепотой в «Камере обскура» связано как непонимание, основанное на невозможности узреть (пример: слепой Кречмар верит, что «жизнь его с Магдой стала счастливее, глубже, чище» (с. 179), так как не видит, что она «на глазах» изменяет ему с Горном), так и внезапное прозрение (например, слепой почти догадывается о присутствии Горна в доме: «Минуты две Кречмар о чем-то напряженно думал. „Не может быть“, – проговорил он тихо и раздельно», с. 188).
И еще одно измерение, связанное со зрением, – наблюдение. Ему присуща та же открытость и некоторая доступность, как и предвидению [199]199
Пример – сцена аварии, зарегистрированная глазом наблюдателя: «Старуха, собирающая на пригорке ароматные травы, видела, как с разных сторон близятся к быстрому виражу автомобиль и двое велосипедистов. Из люльки яично-желтого почтового дирижабля, плывущего по голубому небу в Тулон, летчик видел петлистое шоссе […] и две деревни, отстоящие друг от друга на двадцать километров. Быть может, поднявшись достаточно высоко, можно было бы увидеть зараз провансальские холмы и, скажем, Берлин, где тоже было жарко…» (с. 163). В приведенной цитате очевидно использование киноприема – отдаления камеры, смены планов. Однако чем дальше от объекта глаз, тем больше и одновременно меньше он видит, происходит абсурдирование визуальных возможностей наблюдения.
[Закрыть]. Именно наблюдателю отводится в романе роль понимающего происходящее. Каждый, выходя за пределы действия, становится его зрителем, а действие в его восприятии превращается в зрелище. Так, Горн наблюдает за судьбой Кречмара, неучаствующие персонажи, «зрители», – за развитием сюжета, читатель – за фильмом-романом.
Между тем у Набокова возможности видения и отражения, характерные для глаза человеческого, пародийно трансформируются в признаки «киноглаза». Это очевидная перекличка с провозглашенным в 1922 году Дзигой Вертовым принципом киноглаза [200]200
В 1922 г. состоялось программное выступление Дзиги Вертова с манифестом «Мы» (журнал «Кино-фото», 1922, № 1). Группа кинематографистов, объединившихся вокруг Вертова, провозглашала себя «киноками», а исходным пунктом своей программы – «киноглаз».
[Закрыть], основанным «на использовании киноаппарата как киноглаза, более совершенного, чем человеческий глаз» [201]201
Вертов Дзига.Статьи, дневники, замыслы. М., 1966. С. 53.
[Закрыть]. «Киноглаз» – прием монтажа и смены ракурсов – манифестировался Вертовым как прием документальный, призванный точно и верно отражать действительность.
Сама художественная задача искусства – точно отражать жизнь – пародируется в романе как на уровне литературы (пример: проза-донос), так и на уровне кино. Пародийное соотнесение кино с глазом обнаруживается уже в названии кинотеатра, в котором жизнь Кречмара превращается в фильм, – «Аргус» [202]202
Аргус – мифологический персонаж, – великан, чье тело испещрено бесчисленным количеством глаз.
[Закрыть]. Но наиболее полно идея пародии воплощается в фильме «Азра», в котором Магда исполняет роль брошенной невесты (обыгрывается реальная инверсивность амплуа). Магда, которая в жизни подражает Грете Гарбо, на экране, в отражении «киноглаза», оказывается «неуклюжей девицей […] похожей на ее мать-швейцариху на свадебной фотографии» (с. 127). Фильм, как и проза Зегелькранца, служит разоблачением. В набоковском романе в сопоставлении «жизнь – искусство» именно жизнь отражает и копирует искусство, а не наоборот.
Подытоживая, замечу, что «Камера обскура» В. Набокова воспроизводит пародийную оппозицию «киноглаза» как символа киноискусства – образу Глаза Божьего и в этом значении воспринимается как аллюзия на картину И. Босха «Семь смертных грехов», где на темном полотне изображены сцены греха, отраженные в Божественном Оке. Тематика греховная и тематика эсхатологическая объединены в этом произведении в единый круг, что соответствует сюжетному и композиционному построению романа.
В этом контексте метафоричность названия английского текста «Смех во тьме» оборачивается пародией на сатанизацию намека, которая исчезает при вспышке «волшебного фонаря» искусства.
Глава V. Эшафот в хрустальном дворце
«Приглашение на казнь», самое фантастическое из произведений В. Набокова, известно в литературной критике разнообразием интерпретаций. В набоковедении закрепилось понимание романа как экзистенциальной метафоры, идеологической пародии, художественной антиутопии, сюрреалистического воспроизведения действительности, тюремности языка, артистической судьбы, эстетической оппозиции реальности, тоталитарной замкнутости, свободы воображения [203]203
Несмотря на относительную молодость, набоковедение насчитывает внушительное количество работ об этом произведении. Ограничусь упоминанием некоторых из них, где выдвигаются названные интерпретации: Alter R.Invitation to a Beheading: Nabokov and the Art of Politics. – In: Appel A.and Newman Ch.,eds, Nabokov, Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes. Evanston, 1970; Pifer E.Nabokov and the Novel. Cambridge, 1980; Rowe W. W.Nabokov’s Spectral Dimension. Ann Arbor, 1981; Rampton D.Vladimir Nabokov. A Critical Study of the Novels. Cambridge, 1984; Foster L.Nabokov’s Gnostic Turpitude: the Surrealistic Vision of Reality in « Priglashenie na kazn’» —In. Baer J., Inghman N.,eds. Mnemozina: Studia literaria in Honorem Vs. Setchkarev. Munich, 1974; Johnson D. B.The Alpha and Omega of Nabokov’s Prison House of Language: Alphabetic Iconicism in «Invitation to a Beheading» – Russian Literature. 1978. № 6; Couturier M.Nabokov. Lausanne, 1979; Parker S. J.Understanding VLadimir Nabokov. Columbia, 1987; Connolly J. W.Nabokov’s Early Fiction: Patterns of Self and Other. Cambridge, 1993; Alexandrov V. E.Nabokov’s Otherworid. Princeton, 1991.
[Закрыть]и т. д. Исследовательские трактовки не исключают, а дополняют друг друга, разворачивая художественное и смысловое богатство текста. Предлагаемая глава – еще один вариант прочтения набоковского романа.
1
«Приглашение на казнь» В. Набоков писал летом 1934 года, в период работы над «Даром», а точнее – сразу по окончании «Жизни Чернышевского», ставшей в романе главой IV, но написанной первой [204]204
Boyd В.Vladimir Nabokov. The Russian Yeare. P. 416–417.
[Закрыть]. Этот, как известно, самостоятельный текст не просто связан с «Приглашением на казнь» творческой хронологией, но образует с романом тематический, сюжетный и композиционный диптих.
Оба романа – пародии, одна – на героя, наказуемого обществом (Жизнеописание), другая – на общество, наказующее героя («Приглашение на казнь»), В главе IV «Дара» повествовательная точка зрения расположена вне стен крепости, куда в конце концов заключают Чернышевского; в «Приглашении…» – наоборот, внутри самой крепости-тюрьмы. Оппозиционные координаты повествования отражают соотнесенность двух текстов в художественном пространстве: находясь по разные стороны пародийного зеркала, романы фактически «повернуты» друг к другу. Такая конструкция, не исключая автономности пародийной установки каждого из романов, реализует условие взаимного пародийного отражения, с учетом характерного для поэтики Набокова сдвига и при очередности смены ролей.
Композиционная «повернутость» произведений проявляется уже в их темпоральной связанности. «Жизнь Чернышевского» обладает календарной датировкой, но воплощает тематическую обращенность в будущее, которое оценивается героем как наступающий прогресс. Чернышевский понимает свое время как эпоху «великих реформ»: «…а что, если мы в самом деле живем во времена Цицерона и Цезаря […] и является новый Мессия, и новая религия, и новый мир?..» [205]205
Набоков В.Дар. Ann Arbor Ardis, 1975. C. 277. В дальнейшем цитаты из романа приводятся по этому изданию, с указанием страниц.
[Закрыть](с. 277) – записывает он в своем дневнике.
В романе «Приглашение на казнь» отсутствует календарная закрепленность, но есть экзистенциальная – герой находится у порога смерти, что ориентирует повествование в прошлое. При этом отдаленное прошлое, ушедший век, понимается героем как более совершенная форма жизни, как прогресс утраченный. Цитирую:
«То были годы всеобщей плавности, – размышляет Цинциннат. …Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству […] Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен […] и никому не было жаль прошлого, да и само понятие „пошлого“ сделалось другим» [206]206
Набоков В.Приглашение на казнь. Анн Арбор: Ардис, 1979. С 60–61. В дальнейшем цитаты из романа приводятся по этому изданию с указанием страниц.
[Закрыть].(с. 61)
Оба романа расположены как бы по разные стороны одного историко-социального процесса, отмеченного разрушением прежней качественной иерархии, пространственных параметров, временных измерений. Отсутствие их в «Приглашении на казнь» в этом прочтении понимается как следствие преобразований прогресса.
Мир «Приглашения на казнь» – крепость-тюрьма – есть конечная остановка движения, начало которого воспроизведено в Жизнеописании.
«Вдруг ему [Годунову-Чердынцеву, автору главы IV. – Н. Б.] стало обидно – отчего это в России все сделалось таким плохоньким, корявым, серым [ср. в „Приглашении…“: „…должен же существовать образец, если существует корявая копия “ , – пишет Цинциннат (с. 99)] … Или в старом стремлений „к свету“ таился роковой порок, который по мере естественного продвижения к цели становился все виднее, пока не обнаружилось, что этот „свет“ горит в окне тюремного надзирателя…» (с. 197).
В свою очередь, сюжет «Приглашения на казнь» по отношению к Жизнеописанию реализует обратное движение из зазеркалья пародии. Цитирую из «Дара»:
«…в смертной казни есть какая-то непреодолимая неестественность, кровно чувствуемая человеком, странная и старинная обратность действия, как в зеркальном отражении, превращающая любого в левшу…»
(с. 228)
И далее:
«…в Китае именно актером, тенью, и исполнялась обязанность палача, т. е. как бы снималась ответственность с человека, и все переносилось в изнаночный, зеркальный мир».
(с. 229)
Цитата фактически вскрывает принцип художественного воплощения мира, который казнит Цинцинната, как мира теней, призраков, пародии……
Повествование обоих текстов строится вокруг одного героя и в одном жанре – жанре жизнеописания. Биография Цинцинната – пародийное отражение биографии Чернышевского. Чернышевский учительствовал в Саратове, «просветительская забота, однако, определилась у него на всю жизнь» (с. 261), он видел себя духовным наставником общества. Цинциннат тоже учительствует, его определили «в детский сад учителем разряда Ф…» (с. 42), разрешили «заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, – дабы посмотреть, что из этого выйдет» (c. 43).
Деятельность Чернышевского, литературного критика, для которого литература подчинена утилитарным целям украшения и пояснения действительности, «ломавшего» писателей во имя своих поучительных задач, в пародийном варианте Цинциннатовой жизни сводится к работе в мастерской, где герой изготовлял «мягких кукол для школьниц – тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький в зипуне, и […] застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол» (с. 39).
Все герои «Приглашения на казнь» наделены детскими признаками, их учат, одергивают, с ними сюсюкают. «Детскость» персонажей обусловлена пародированием учительского отношения Чернышевского к публике, к читателю. Его позиция наставника с особой демонстративностью отразилась в романе «Что делать?», заглавие которого звучит как титр учебника. Цитирую: «… ты знаешь только то, что тебе скажут, – обращается Чернышевский к читателю, – сам ты ничего не знаешь» [207]207
Чернышевский Н.Избранные сочинения. М.; Л., 1960. С. 6. В дальнейшем цитаты из романа «Что делать?» приводятся по этому изданию, с указанием страниц.
[Закрыть].
«Автору не до прикрас, добрая публика, потому что он все думает о том, какой сумбур у тебя в голове […] Я сердит на тебя […] и браню тебя. Но ты зла от умственной немощности, и потому, браня тебя, я обязан помогать тебе».
(с. 6)
Пародийное сходство Цинцинната с Чернышевским моделируется как на уровне общественном, так и личном. Оба героя – обманутые мужья. «…Очень мучительны, верно, были ему [Чернышевскому. – Н. Б.] молодые люди, окружавшие жену и находившиеся с ней в разных стадиях любовной близости, от аза до ижицы» («Дар», с. 264). Аналогичное испытывает и Цинциннат: «…Марфинька в первый же год брака стала ему изменять; с кем попало и где попало» (с. 43). Симптоматична общая деталь в портрете обеих героинь: Ольга Сократовна, «гладко причесанная, с открытыми ушами, слишком для нее большими…» (с. 327). Цитирую из письма Цинцинната Марфиньке: «…я хочу это так написать, чтобы ты зажала уши, – свои тонкокожие обезьяньи уши […] я их щиплю, холодненькие […] чтобы как-нибудь их согреть, оживить, очеловечить, заставить услышать меня» (с. 143). Отсыл к евангельской параболе отзывается в личной драме героя эхом одиночества.
Костюм, в котором появляется Марфинька – «выходное черное платье, с бархоткой вокруг белой холодной шеи» (с. 103), – преждевременный траур по еще не казненному мужу. Бархотка на шее – аналог «креповой повязки» (с. 107) на рукаве одного из ее братьев, «щеголя и остряка» (с. 107). Наряд Марфиньки – отсылка к образу «дамы в трауре» из романа «Что делать?», в котором Чернышевский изобразил собственную жену. Траур ее – намек на печаль о муже, заключенном в крепость.
Судьба Цинцинната повторяет судьбу Чернышевского. Оба воспринимаются обществом как враждебная, темная сила. Чернышевского считали «сердцем черноты» («Дар», с. 298), Цинциннат казался своим согражданам «темным», «как будто был вырезан из кубической сажени ночи» (с. 38). В возрасте тридцати лет (аллюзия на сакральный возраст Христа) Чернышевского и Цинцинната судят, заключают в крепость и казнят. Цитирую: «…в лице Чернышевского был осужден его – очень похожий – призрак; вымышленную вину чудно подгримировали под настоящую» («Дар», с. 312). Цинцинната судят призраки, загримированные под людей. Казнь Чернышевского, «шутовская» (с. 316), поучительная, происходит на Мытнинской площади, казнь Цинцинната – «показательное представление» (с. 174), балаганное (декорации мира распадаются в финале романа) – на Интересной площади.
Пародийное сближение действия подчеркнуто сходной реакцией толпы, состоящей в обоих случаях из эмансипированных женщин. Во время казни Чернышевского «вдруг из толпы чистой публики полетели букеты […] Стриженые дамы метали сирень» («Дар», с. 313). Во время казни Цинцинната «несколько девушек без шляп, спеша и визжа, скупали все цветы у жирной цветочницы […] и наиболее шустрая успела бросить букетом в экипаж» […] на Садовой «в кузов ударил еще букет» (210).
Чернышевский после разыгранной казни фактически умирает для публики, превращается в собственный призрак (с. 325). Цинциннат после казни, понимаемой буквально и лишь обставленной театрально, освобождается от призраков, направляется к существам, «подобным ему» (с. 218).
В критической литературе о романе «Приглашение на казнь» Цинцинната принято считать поэтом [208]208
В этом сходятся большинство упомянутых выше исследователей, (см. сноску 1 данной главы (в файле – сноска № 203 – прим. верст.)).
[Закрыть]. Это определение образа кажется спорным. Цинциннат сам заявляет, что не владеет литературным даром. Цитирую: «Не умея писать, но преступным чутьем догадываясь о том, как складывают слова, как должно поступить, чтобы слово обыкновенное оживало […] я, однако, добиться его не могу» (с. 98). Это признание в художественной несостоятельности – пародийное отражение откровений, сделанных Чернышевским в романе «Что делать?». Цитирую|«У меня нет ни тени художественного таланта, – пишет он в Предисловии. – Я даже и языком-то владею плохо») (с. 6).
Косноязычие, стилистическая убогость, навязчивое топтание повторов, характерные для манеры Чернышевского, многократно воспроизводятся в «Приглашении на казнь». Приведу один пример. Цинциннат думает об адвокате, потерявшем запонку: «Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы» (с. 47).
Цинцинната делает писателем условие надвигающейся казни. Драматизм ситуации придает последнему слову героя статус литературного факта, значительность которого обусловлена не художественным качеством, а предполагаемым идейным смыслом. Такое возведение смерти в моторную творческую силу пародирует написание Чернышевским в крепости «вещи, в высшей степени антихудожественной» (с. 308), но читавшейся современниками как «богослужебные книги» («Дар», с. 309). «Истина – хорошая вещь, – пишет Чернышевский в Предисловии, – она вознаграждает недостатки писателя, который служит ей […] все достоинства повести даны ей только ее истинностью» (с. 6).
Аналогичной цели посвящает свое писание и Цинциннат.
«Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что… Небольшой труд… запись проверенных мыслей… Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть, я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен».
(с. 62)
Текст, который создает Цинциннат в крепости, повторяет отдельные элементы утопии Чернышевского. В романе «Что делать?» Чернышевский изображает «светлое и прекрасное» будущее человечества, которое можно реализовать, если «быть рассудительными, уметь хорошо устроиться, узнать, как выгоднее употреблять средства» (с. 167). Цинциннат мечтает о мире, где «неподражаемой разумностью светится человеческий взгляд; там на воле гуляют умученные тут чудаки…» (с. 99).
Оппозиция «тут/там», традиционно интерпретируемая исследователями как оппозиция настоящего и потустороннего миров, прочитывается в этом варианте как оппозиция «реальность/утопия» и оказывается противопоставленной аналогичной модели романа Чернышевского. Гипотеза подтверждается еще и тем, что идиллия будущего в «Что делать?» воплощается в снах Веры Павловны, главной героини. Цинциннат также в снах видит счастливый мир, означенный словом «там».
«А ведь с раннего детства мне снились сны… – пишет Цинциннат. – В снах моих мир был облагорожен, одухотворен; люди […] появлялись там в трепетном преломлении […] их голоса, поступь, выражение глаз и даже выражение одежды – приобретали волнующую значительность; проще говоря: в моих снах мир оживал, становясь таким пленительно важным, вольным…»
(с. 97)
А вот каким видит в своем четвертом сне людей будущего Вера Павловна: «Как они стройны и грациозны, как выразительны их черты!», «их платье скромно и прекрасно […]. Как мягко и изящно обрисовывает оно формы… Все они счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения…» (с. 167–168).
Пародийная зеркальность этих «внутренних» текстов, так же как и самих романов в целом, реализуется в их темпоральной разнонаправленности: утопия Чернышевского, мечта, проецируется в будущее, утопия Цинцинната, ностальгия, – в прошлое. «Там, – пишет он, – оригинал тех садов, где мы тут бродили» (с. 99), «там сияет то зеркало, от которого иной раз сюда перескочит зайчик» (с. 100).
Философская роль обоих протагонистов отражается в их концепции и поведении. Так, Чернышевский, «устраняя дуализм метафизический, попался на дуализме гносеологическом» (с. 276). Цинциннат был «обвинен в гносеологической гнусности» (с. 80), за резкий, правдивый тон его казнят (с. 48). Ср. в «Даре» о журнальной деятельности Чернышевского: «Тон […] становится резким, откровенным; словцо „гнусно“, „гнусность“ начинает приятно оживлять страницы […] журнала» (с. 278).
Перед казнью Цинцинната заместитель управляющего городом сообщает публике, что «вечером идет с громадным успехом злободневности опера-фарс „Сократись, Сократик“» (с. 215). Название оперы обыгрывает отчество жены Чернышевского, Ольги Сократовны, а также пародирует «манеру логических рассуждений Чернышевского „в духе тезки его тестя“ (с. 318); Сократ в данном случае упоминается как философ, в лице которого, по определению Ф. Ницше, воплотилась „несокрушимая вера, что мышление, руководимое законом причинности, может проникнуть в бездны бытия и что это мышление не только может познать бытие, но даже исправить его“ [209]209
Ницше Ф.Рождение трагедии из духа музыки. – Сочинения: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 114.
[Закрыть]. Известна также дурная репутация жены Сократа. Гибель Сократа, Чернышевского, Цинцинната за идеи образует в контексте двух романов общий пародийный ряд.








