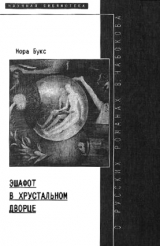
Текст книги "Эшафот в хрустальном дворце: О русских романах В. Набокова"
Автор книги: Нора Букс
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
«Он начал с того, что привел картину бегства во время нашествия или землетрясения, когда спасающиеся уносят с собой все, что успевают схватить, причем непременно кто-нибудь тащит с собой большой, в раме, портрет давно забытого родственника. „Вот таким портретом […] является для русской интеллигенции и образ Чернышевского, который был стихийно, но случайно унесен в эмиграцию, вместе с другими, более нужными вещами“, – и этим Кончеев объяснял stupefaction,вызванную появлением книги Федора Константиновича („кто-то вдруг взял и отнял портрет“)».
(с. 344)
Ср. у Гоголя в последних строках повести: «Кто-то уже успел стащить его…» [254]254
Гоголь Н.Указ. соч. Т. 3.
[Закрыть].
Эта отсылка к Гоголю подкрепляет всю бесовскую трактовку образа Чернышевского в главе IV. Приведу несколько цитат: «Недоброжелатели […] говорили о „прелести“ Чернышевского, о его физическом сходстве с бесом» (с. 281); «Агенты, тоже не без мистического ужаса, доносили, что ночью в разгаре бедствия „слышался смех из окна Чернышевского“» (с. 298–299); Годунов-Чердынцев подмечает его «хвостатенький почерк» (с. 258) и что «в шутовстве его журнальных приемов усматривали бесовское проникновение вредоносных идей» (с.259) – в этом буквальном отождествлении с бесом Чернышевского, видевшего себя Вторым Спасителем, пародируется одновременно как самотрактовка героя, так и трактовка его образа публикой. В начале романа Годунова-Чердынцева читаем:
«В описаниях его нелепых опытов, в его комментариях к ним, в этой смеси невежественности и рассудительности, уже сказывается тот едва уловимый, но роковой изъян, который позже придавал его выступлениям как бы оттенок шарлатанства».
(с. 244)
Значение «изъяна» раскрывается в главе I в размышлениях о рекламе:
«Так развивается бок о бок с нами, в зловеще-веселом соответствии с нашим бытием, мир прекрасных демонов; но в прекрасном демоне есть всегда тайный изъян, стыдная бородавка на заду у подобия совершенства».
(с. 20)
Позднее, в эссе «Николай Гоголь», Набоков продолжает эту тему:
«Но пошляк, даже такого гигантского калибра, как Чичиков, непременно имеет какой-то изъян, дыру, через которую виден червяк, мизерный дурачок, который лежит, скорчившись, в глубине пропитанного пошлостью вакуума» [255]255
Цитирую по русскому переводу: Набоков В.Николай Гоголь. – Новый мир. 1987. № 4. С. 199. «But a poshlyak even of Chichikov’s colossal dimension inevitably has somewhere in him a hole, a chink throught which you see the worm, the little shriveled fool that lies all huddled up in the depth of the poshlost’-painted vacuum» (Nabokov V.Nicolai Gogol. N.Y.: New Directions Books, 1961. P. 71–72).
[Закрыть].
И далее:
«Пошлость, которую олицетворяет Чичиков, – одно из главных отличительных свойств дьявола, в чье существование, надо добавить, Гоголь верил больше, чем в существование Бога. Трещина в доспехах Чичикова, это ржавая дыра, откуда несет гнусной вонью […] непременная щель в забрале дьявола» [256]256
Там же. С. 200. «The poshlost’ which Chichikov persionifies is one of the main attributes of the Devil, in whose existence, let it be added, Gogol believed far more seriously than he did in that of God. The chink in Chichikov’s armor, that rusty chink emitting a faint but dreadful smell […] is the organic aperture in the devil’s armor» (Nabokov V.Nicolai Gogol. P. 73–74).
[Закрыть].
Можно считать, что образ Н. Г. Чернышевского в романе Годунова-Чердынцева создается как пародийная проекция гоголевского героя. Набоковское же эссе о Гоголе, вопреки хронологии написания, но согласно и в подтверждение абсурдирования этого условия самим Набоковым, является одним из литературных текстов, втягиваемых романным повествованием в свою орбиту; его содержание сообщает дополнительный смысл не только главным, но и эпизодическим персонажам «Дара». В качестве примера приведу уже цитировавшуюся выше фразу: «Тех русского окончания папирос… тут не держали, и он бы ушел без всего, не окажись у табачника крапчатого жилетас перламутровыми пуговицами и лысины тыквенного оттенка» (с. 12). В эссе Набоков рассказывает, как в Швейцарии Гоголь «провел целый день, убивая ящериц, выползавших на солнечные горные тропки. [Гоголю виделось в них бесовское. – Н. Б.] Трость, которой он для этого пользовался, можно разглядеть на дагерротипе, снятом в Риме в 1845 году […] На снимке он изображен в три четверти […] На нем сюртук с широкими лацканами и франтовский жилет. И если быблеклый отпечаток прошлого мог расцвести красками, мы увидели быбутылочно-зеленый цвет жилетас оранжевыми и пурпурными искрами, мелкими синими глазками; в сущности он напоминает кожу какого-то заморского пресмыкающегося» [257]257
Там же. С. 177. «In Switzerland, he had quite a field-day knocking the life out of the lizards all along the sunny mountain paths. The cane he used for this purporse may be seen in a daguerreotype of him in Rome in 1845 […] He is shown in three quarters […] He wears a coat with ample lapels and a fancy waistcoat. And if the dim print of the past could burst into color we would see the bottle-green tint of that waistcoat flecked with orange and amaranth, with the pleasing addition of minute dark-blue eyespots in between – on the whole resembling the skin of some exotic reptile» (Nabokov V.Nicolai Gogol. P. 7–8).
[Закрыть].
Пресловутая частица «бы», пародируемая в манере Чернышевского (с. 287–289) и столь драматично отыгравшаяся на его судьбе («За это „бы“ судьба, союзница муз (сама знающая толк в этой частице), ему и отомстила, – да с какой изощренной неизменностью в нарастании кары!», с. 287), в эссе обеспечивает смысловое смещение фокуса, высвечивает бесовские черты в портрете самого Гоголя. Сближение текстов романа и эссе обнаруживает те же признаки в толпе персонажей, в частности у табачника. И другой пример – на собрании Общества Русских Литераторов «театральный критик, – тощий, своеобразно-тихий молодой человек, с каким-то неуловимо дагерротипным оттенком русских сороковых годов во всем облике» (с. 360).
Связь романа и эссе проявляется и в следующем: «Дар» начинается словами: «Облачным, но светлым днем, в исходе четвертого часа, первого апреля 192… года…» (с. 9). Первое апреля – праздник обмана – день рождения Гоголя. Этой датой кончается эссе Набокова о Гоголе [258]258
Там же. С. 226.
[Закрыть]. Этот прием – оглашение рождения после смерти, как условия воскресения при переводе жизни в текст, как игровая композиционная подмена конца началом – многократно использован в «Даре», но при сопоставлении романа и эссе он приобретает дополнительное значение, а именно: он воплощает интертекстуальную связь и принадлежность произведений единому пространству литературы.
«Дар» полон отсылок к другим произведениям, полон многократных пародийных повторов сюжетов, образов, приемов изобразительности… Это большая тема, и она требует отдельного рассмотрения и отдельной статьи. Моя же задача – на основе текстуального анализа выявить принцип организации романной структуры.
Надо отметить, что многократное воспроизведение оригинала реализуется в «Даре», отнюдь не последовательно обнаруживая перед читателем по мере повествовательного продвижения смысл пародии. Наоборот. Каждое воспроизведение самостоятельно и вместе с тем дополняет тему, образчики которой разбросаны по всему тексту романа. Они скорее кодируют смысл оригинала и его функции в повествовании, чем разъясняют их. Роман требует от читателя не просто внимательного чтения, но многократного возвращения к тексту (подробнее об этом см. далее). Приведу в доказательство лишь один пример из уже известных цитат: не прочитав главы IV и не узнав значения образа «пятерки подземного общества», читатель не поймет образ из бреда Федора «четыре землекопа и Некто» в главе I.
Подытоживая, можно сказать, что принцип организации романной структуры «Дара» является принципом кодирования, а сама структура текста воспроизводит структуру кроссворда. Кажется, тут и кроется обман, уготованный для читателя, на который намекает Годунов-Чердынцев в главе III [259]259
«Все тут веселило шахматный глаз: остроумие угроз и защит, фация их взаимного движения, чистота матов […] но, может быть, очаровательнее всего была тонкая ткань обмана, обилие подметных ходов […] ложных путей, тщательно уготовленных для читателя».
(с. 193)
[Закрыть]. Кроссворд исключает интерпретацию. Он предполагает догадливость, культуру, знание, но только не креативные способности, и полностью аннулирует вольное сотворчество с автором. В кроссворде все ходы продуманы, все ответы уже существуют, и читателю остается их только найти (обманное сходство с фундаментальным условием написания текста: произведение уже существует где-то, нужно только его вспомнить, обнаружить, с. 192). Декларируемая открытость книги оборачивается мнимой свободой крестословицы, и возведенный в творцы читатель неожиданно вместо венца обнаруживает на своей голове потрепанную шляпу импровизатора.
4
Литературные приемы романа «Дар» можно определить как приемы-оборотни. Их пародийная задача очевидна. Однако художественные возможности такой техники позволяют вывести пародируемый объект (будь то тема или прием) по другую сторону пародии, где он вновь возводится в степень серьезного, приобретая оппозиционное оригиналу функциональное значение [260]260
Из замечаний Кончеева: «Вы иногда доводите пародию до такой натуральности, что она, в сущности, становится настоящей серьезной мыслью и, в этомплане, вдруг дает непроизвольный перебой, который является уже собственной ужимкой, а не пародией на ужимку» (с. 380). Набоков в романе делает неоднократные попытки «забежать дорогу» критику, воспроизвести его возможные замечания. Указание на прием служит одновременно гарантией его укрытия. А критик не без иронии утверждается как активное действующее лицо в творческом процессе.
[Закрыть]. Иллюстрацией воплощения такой техники служит использование эпиграфа в романе «Дар».
«Эпиграф – изречение, которое писатель, как значок или знамя, выставляет в заголовке своего сочинения. В эпиграфе содержится основная мысль, развиваемая автором в сочинении» [261]261
Даль В.Толковый словарь… Т. 4. С. 665.
[Закрыть].
Такое традиционное назначение эпиграфа в романе неоднократно пародируется, разоблачается претенциозность его роли – декларация мысли, философская глубина которой должна раскрыться читателю при ознакомлении с произведением. Пример – описание Годуновым-Чердынцевым «тома томных стихотворений „Зори и Звезды“» (с. 167) князя Волховского. «Стихи были разбиты на отделы: Ноктюрны, Осенние Мотивы, Струны Любви. Над большинством был герб эпиграфа» (с. 167).
Пародии подвергается и другой принцип эпиграфа – использование авторитетности «чужого» слова для желаемого прочтения своего. Например, о Н. Г. Чернышевском: «Лаборатория, Лафайет, Лен, Лессинг. Красноречивое притязание! Эпиграф ко всей умственной жизни его!» (с. 267). В свою очередь, использование эпиграфа к жизни – очередное доказательство отождествления ее с текстом.
Однако далеко за пределы пародии выходит роль эпиграфа к самому роману «Дар». Им служат примеры из «Учебника русской грамматики» П. Смирновского [262]262
Смирновский П. В.Учебник русской грамматики для церковно-приходских школ. М., 1900.
[Закрыть]. Форма вынесенных высказываний – утверждение, их адрес – учебник, т. е. свод правил, – придают содержанию эпиграфа постулативный однозначный характер. Эпиграф в «Даре» не только не маркирует основную идею романа, но, наоборот, служит идейным и художественным вызовом. Текст «Дара» оппозиционен тексту эпиграфа и фактически является опровергающим ответом.
В первую очередь разоблачению подвергается основная идея эпиграфа – установление правил, согласно которым может быть упорядочен мир. Наиболее яркая иллюстрация такого разоблачения – глава IV, роман о Чернышевском, «всегда испытывавшем влечение к точному определению отношений между предметами» (с. 246), видящем возможность «из связи вывести благо» (с. 243). Бесплодной точности такого метода противопоставляется творческая иллюзорность, туманность, путь по краю тайны бытия.
Эпиграф к роману, представляющий сколок с набора общих истин, правил для всех, образует пародийную пару с флоберовским эпиграфом, помещенным внутри романного текста: «…иронический эпиграф [к Dictionnaire des idées reçues] – „большинство всегда право“ – Чернышевский выставил бы всерьез» (с. 262). Эта фигура реализует причину и следствие (правило для всех – большинство всегда право), обнажая их подменяемость, замкнутость и, следовательно, исключение свободного выбора.
Именно в значении общих истин роман опрокидывает каждое из заявлений эпиграфа. Например, «Дуб – дерево…» (с. 9). Дерево как символ природы, как конкретный пример конкретного сознания пародийно воплощается в главе IV:
«Чернышевский объяснял: „Мы видим дерево, другой человек смотрит на этот же предмет. В глазах у него мы видим, что дерево изображается точь-в-точь такое же. Итак, мы все видим предметы, как они действительно существуют“. Во всем этом диком вздоре есть еще свой частный смешной завиток: постоянное у „материалистов“ апеллирование к дереву особенно забавно тем, что все они плохо знают природу, в частности, деревья. Тот осязаемый предмет, который „действует гораздо сильнее отвлеченного понятия о нем“, им просто неведом».
(с. 273)
И далее:
«…Чернышевский не отличал плуга от сохи […] не мог назвать ни одного лесного цветка, кроме дикой розы, но характерно, что это незнание ботаники сразу восполнял „общей мыслью“, что „они (цветы сибирской тайги) все те же самые, какие растут по всей России“…»
(с. 273)
Таким образом, общая истина при минимальной конкретизации обнаруживает свою полную несостоятельность, а в частном случае служит лишь прикрытием пустоты и невежества.
Однако образ дерева, как и другие образы эпиграфа, наравне с пародией реализуется в романе и в возвышенном, поэтическом значении, возвращающем ему истинный голос. Например, изображения деревьев в описаниях путешествий отца (гл II.), прогулки Федора в лесу (гл. V), или изображения розы в поэзии: «Обедневшие некогда слова вроде „роза“, совершив полный круг жизни, получали теперь в стихах как бы неожиданную свежесть» (с. 46).
С особой силой опровергаются в романе два последних утверждения эпиграфа.
1. «Россия – наше отечество» (с. 9). Объектом пародии становится:
– ностальгическая любовь к России прошлого: «В стихах, полных модных банальностей, воспевал „горчайшую“ любовь к России» (с. 46) Яша Чернышевский;
– желание быть признанным на родине: см. уже приводившиеся выше стихи Годунова-Чердынцева: «Благодарю тебя, отчизна» (с. 66). Тема подхватывается еще раз в финале романа. Зина говорит Федору: «Я думаю, ты будешь таким писателем, какого еще не было, и Россия будет прямо изнывать по тебе, – когда слишком поздно спохватится…»(с. 409);
– идея возврата на родину: один из примеров ее воплощения осуществляется сквозь гоголевскую цитату, которая актуализируется в контексте романа. Годунов-Чердынцев, прислушиваясь к Зининым перемещениям по квартире, борясь с желанием оторваться от книги и пойти к ней, читает:
«„Долее, долее, как можно долее буду в чужой земле. И хотя мысли мои, мое имя, мои труды будут принадлежать России, но сам я, но бренный состав мой, будет удален от нее“ (а вместе с тем, на прогулках в Швейцарии, так писавший колотил перебегавших по тропе ящериц, – „чертовскую нечисть“, – с брезгливостью хохла и злостью изувера) [ср. с приводимой выше цитатой из эссе „Николай Гоголь“. – Н. Б.] Невообразимое возвращение!»
(с. 202);
– возвращение на родину объявляется в романе возможным только силою памяти и творческого воображения: примеры – первые страницы гл. II – прогулки Федора по дорожкам Лешино (с. 89–92);
– буквальное возвращение приравнивается к переходу в Царство мертвых: так, покупая новые ботинки, Федор думает: «Вот этим я ступлю на брег с парома Харона» (с. 74). И далее, в диалоге с Кончеевым:
«Знаете о чем я сейчас подумал: ведь река-то, собственно, – Стикс. Ну да ладно. Дальше. И к пристающему парому сук тянется, и медленным багром (Харон) паромщик тянется к суку сырому (кривому) […] и медленно вращается паром. Домой, домой. Мне нынче хочется сочинять с пером в пальцах».
Набоковский вольный перевод 302-й строки из песни VI «Энеиды» Вергилия внезапно обрывается на словах «вращается паром», и не отделенные кавычками строки сливаются с фразой, лежащей в ситуативном сознании поэта Годунова-Чердынцева: «Домой, домой» (см. упоминание «Энеиды», сделанное выше) [264]264
Именно в этом контексте прочитывается образ «темно-пепельного orpheus Godunov – наподобие маленькой лиры» (с. 127), бабочки, которую Федор хочет «выставить как frontispiece к своему роману об отце» (с. 127).
[Закрыть];
– в романе объявляется новый смысл понятия «родина»: подмена происходит путем перевода из категории внешней, пространственной – в категорию внутреннюю, эмоциональную, устанавливается другая география чувств.
«Не следует ли раз навсегда отказаться от всякой тоски по родине, от всякой родины, кроме той, которая со мной, во мне, пристала как серебро морского песка к коже подошв, живет в глазах, в крови, придает глубину и даль заднему плану каждой жизненной надежды?» – думает Федор (с. 197).
2. «Смерть неизбежна» (с. 9). Это последнее правило эпиграфа (конец жизни – конец жизненных истин) опровергается в «Даре» в первую очередь в его буквальном значении: смерти как финала жизни. Доказательством может служить уже рассмотренное выше воплощение в романе смерти как условия воскресения-воспроизведения и, следовательно, приобретения бессмертия.
Наравне с идейной оппозицией роману эпиграф реализует и оппозицию художественную. Например, в «Даре», в главе IV, приводится цитата из письма Чернышевского сыновьям, в котором он критикует Фета:
«Можно ли писать по-русски без глаголов? Можно – для шутки. Шелест, робкое дыханье, трели соловья. Автор ее некто Фет, бывший в свое время известным поэтом. Идиот, каких мало на свете. Писал это серьезно, и над ним хохотали до боли в боках».
(с. 269)
Стихотворение Фета как образец «чистой» лирики выстраивается параллелью эпиграфу, составленному из набора правил, написанных также без глаголов. Сопоставление двух разных текстов, первого – литературного, второго – образовательного, информативного, допустимое за счет использования одного стилистического приема, с особой яркостью демонстрирует контрастность его художественных возможностей. В стихе безглагольность манифестирует эскизность, иллюзорность, неопределенность, подвижность:
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени,
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря… [265]265
Фет А. А.Стихотворения и поэмы. С. 192, Ср. у Бальмонта стихотворение «Безглагольность». Прием становится признаком описываемого предмета. См.: Бальмонт К.Стихотворения. Л., 1969. С. 293.
[Закрыть]
В эпиграфе – категоричность, статичность, неизменность выдвигаемых утверждений.
Примечательно и то, что взаимодействие этих двух текстов, не принадлежащих перу Набокова, осуществляется именно в пределах его произведения.
«Дар» и его эпиграф с точки зрения их художественного определения могут рассматриваться как своеобразное воплощение одной из ведущих тем романа: поэт и импровизатор. Эпиграфом ко второй главе «Египетских ночей» Пушкина служит строка из оды Г. Державина «Бог»:
Я царь – я раб, я червь – я Бог!
Написанная также без глаголов, она является тематическим пунктиром «Дара», в романе реализованы все названные ипостаси поэта. Это стилистическое и тематическое сходство (сходство перекрестное: стилистическое с эпиграфом, тематическое с романом) допускает мысль, что пушкинский эпиграф – неназванный, предлагаемый к обнаружению «оригинал» – исходный эпиграф к «Дару».
5
Особого внимания заслуживает рассмотрение композиционных особенностей «Дара», фактически определяющих порядок его прочтения.
Пять глав, объединенных героем/рассказчиком в цельное повествование биографического романа, вместе с тем отличаются большой сюжетной и композиционной свободой. Каждая из них снабжена доминирующим и тематически автономным текстом. В границах романа главы могут меняться местами, выпускаться (пример тому глава IV «Дара»), и все это без особого ущерба для развития сюжета. Перестановка возможна и внутри самих глав, а также отдельные композиционные единицы текста из разных глав могут объединяться и легко менять свой адрес в повествовании.
Такая демонстративная композиционная свобода «Дара» сообщает ему признаки идеального романа, который читается в любом порядке. Большая вариативность прочтения в действительности не влияет на читательское проникновение в текст; она обусловлена не столько композиционной вольностью, сколько строгой композиционной заданностью.
Первые признаки ее обнаруживаются в обилии симметрических построений в тексте. А симметрия объявляется в «Даре» условием подчинения, несвободы. Пример:
«Симметричность в строении живых тел (говорит Чердынцев. – Н. Б.) есть следствие мирового вращения […] В порыве к асимметрии, к неравенству слышится мне вопль по настоящей свободе, желание вырваться из кольца».
(с. 384)
Симметрия в романе существует:
– между главами, например, I и V – в обеих расположены диалоги поэтов, собрания литераторов;
– внутри глав, например, в главе I: сопоставление двух молодых поэтов Федора Чердынцева и Яши Чернышевского; в главе III – сопоставление тем отца и отчима, и т. д.
Другой композиционной фигурой подчинения, фактически определяющей для «Дара», является кольцо. Жизнеописание Чернышевского, которое Годунов строит «в виде кольца, замыкающегося апокрифическим сонетом» (с. 230), становится композиционной моделью романа, а прием манифестируется как эстетическая установка, как отказ от конечности книги, «противной кругообразной природе всего сущего» (с. 230).
Глава IV – образец композиционной замкнутости: смерть героя смыкается с рождением, темы жизни, «совершив полный круг» (с. 230), получают завершение в финале, и, наконец, весь текст обрамлен сонетом. Обращает на себя внимание его форма – опрокинутого сонета, – очередной пародийный намек на судьбу героя, напоминавшую «обратный ход вечного двигателя» (с. 245).
Кольцевая композиция организует большинство тем «Дара». Например, поэтическое творчество Годунова-Чердынцева. Глава I: публикация и разбор его стихов. (Избегаю указания на кольцевую форму сборника «Стихи», это делает сам автор, с. 35). Глава III – возвращение к истоку темы: увлечение поэзией, которое совпадает с первой любовью к женщине, творчество/любовь и разлука. И вновь возвращение к финалу-началу темы:
«Первое чувство освобождения шевельнулось в нем при работе над книжкой „Стихи“, изданной вот уже больше двух лет тому назад. Она осталась в сознании приятным упражнением […] Книгу он издал за свой счет (продал случайно оставшийся от прежнего богатства портсигар, с нацарапанной датой далекой летней ночи, – о как скрипела ее мокрая от росы калитка!)».
(с. 174)
Это упоминание о калитке – пародийный парафраз романсной строчки: «Отвори потихоньку калитку…» – включается в образ возлюбленной поэта, о которой он говорит в главе I: «От стихов она требовала только ямщикнегонилошадейности…» (с. 86).
Другой пример. В главе I описывается вселение Годунова в новую квартиру и знакомство его с улицей:
«Обсаженная среднего роста липами […], она шла с едва заметным наклоном, начинаясь почтамтом и кончаясь церковью, как эпистолярный роман».
(с. 10)
В главе V, во сне, Годунов возвращается на свою первую квартиру, на знакомую улицу:
«Он нашел свою улицу, но у ее начала столб с нарисованной рукой в перчатке с раструбом указывал, что надо проникать в нее с другого конца, где почтамт, так как с этого свалены флаги для завтрашних торжеств».
(с. 397)
И наконец, общая композиция «Дара» образует замкнутое кольцо. Уже говорилось выше, что конец романа стыкуется с началом, фактически аннулируя предшествующее повествование. Восстановление текста осуществляется возвратом к нему, и, перевернув последнюю страницу, читатель вновь оказывается у начала романа. Многократность прочтения обусловлена как кольцевой композицией так и структурным принципом кодирования (см. гл. III наст. издания).
Такое хождение по кругу, к которому вынуждает читателя автор, на самом деле оставляет его по-прежнему у края тайны. Постижение возможно только проникновением в текст. Как ни поразительна банальность намека, «мнимая нелепость», как говорит о своем приеме Набоков, но поиск ключа к тексту связан в романе буквально с темой ключей от дома.
Она протягивается через все повествование «Дара». Так, в главе I, переехав на новую квартиру, Годунов-Чердынцев забывает ключи от нее внутри.
«Он опять было нагнулся к замку, – и вдруг его осенило: это были, конечно, ключи пансионские […] а новые остались, должно быть, в комнате».
(с. 63)
В последней, V главе Федор и Зина возвращаются домой, наконец, одни. Вход в дом отождествляется с входом в новую жизнь. Но ключей от входной двери у них нет, ключи по нелепой случайности остались в квартире [266]266
– Ах, да, – говорит Зина на вокзале уезжающей матери. – Я сегодня дала тебе мои ключи. Не увези их, пожалуйста.
– Я, знаешь, их в передней оставила… А Борины в столе… Ничего: Годунов тебя впустит, – добавила Марианна Николаевна примирительно.
(с. 403) Но ключей у Годунова нет. Их накануне украли в парке вместе с его одеждой.
[Закрыть].
Ключ от дома остается внутри дома, так же как от текста – внутри текста. Обнаружение смыслового ключа обеспечивает «открытие» текста, а буквально значит обнаружение его начала. В этом убеждает и цитата из описаний шахматного композиторства Годунова-Чердынцева, полного намеков на приемы, обманные авторские ходы. Составление шахматной задачи открыто манифестируется как синоним литературного творчества:
«Еще одна проверка, и задача была готова. Ее ключ, первыйход белых, был замаскирован своей мнимой нелепостью, но именно расстоянием между ней и ослепительным разрядом смысла измерялось одно из главных художественных достоинств задачи».
(с. 193)
В романе «Дар» началом текста является глава IV [267]267
Это наблюдение, сделанное мной в статье о романе (см.: Букс Н.Роман-оборотень.), опубликованной в 1990 году, было подтверждено свидетельством биографическим, сделанным в том же 1990-м Б. Бойдом (см.: Boyd В.V. Nabokov: The Russian Years.). Б. Бойд пишет, что четвертая глава романа была написана первой (р. 408), см. также гл. V наст. издания.
[Закрыть]. Именно в ней истоки всех центральных тем произведения: подмена смысла в понятии «литература» – вытеснение в ней художественного идеологическим; темы: отца и сына, поэта и импровизатора, бесовской сути пошлости и т. д.
Не зная содержания главы IV, читатель не поймет, например, появления в главе I духовных потомков шестидесятника – семьи Чернышевских, трагедии Яши Чернышевского.
Приведу в доказательство цитату из повести о Яше из главы I, которая не прочитывается без знания главы IV:
«… мне иногда кажется, что не так уж ненормальна была Яшина страсть, – что его волнение было в конце концов весьма сходно с волнением не одного русского юноши середины прошлого века, трепетавшего от счастья, когда, вскинув шелковые ресницы, наставник с матовым челом, будущий вождь, будущий мученик, обращался к нему…»
(с. 51–52)
Неясными остаются сквозные темы, вроде темы вокзала, наделенного пародийными символическими признаками нового времени (с. 53), большинства маргинальных образов, например, уже упоминавшейся «пятерки», так в главе I: «четыре землекопа и Некто» (с. 28), «пятерка кремлевских владык» (с. 43). Примеров-доказательств множество.
Все остальные главы романа осуществляют многократный перевод-воспроизведение воплощенных в главе IV тем, образов, приемов. Находясь в центре текста, как ключи в доме, она композиционно закамуфлирована, что обеспечивает даже при многократном круговом прочтении романа его смысловую непроницаемость.
Знаменательно, что этот маскировочный композиционный прием приобрел неожиданные разоблачительные функции. А произошло это, когда в конце 30-х годов издатели журнала «Современные записки» опубликовали «Дар» за выпуском главы IV.








