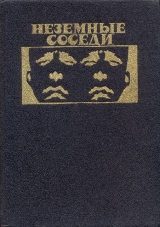
Текст книги "Новый потоп"
Автор книги: Ноэль Роже
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
– Ах! Господа, господа, – повторял он, пожимая руки Максу и доктору Лаворелю. – Господа…
Потом, обернувшись к белокурому пастуху, проговорил:
– Спасибо!.. Спасибо!..
Целый поток вопросов полился из его уст: Откуда они? Спасся ли кроме них еще кто-нибудь?..
Его два спутника присоединились к группе: лысый человек, рваная одежда которого болталась на исхудавшем теле, и рыжий рослый горец с могучими плечами, худой и крепкий, которого Игнац весело окликнул:
– А, это ты, Жоррис Эмиль?!
– Это ты, Игнац? – ответил Жоррис.
И невольным движением он прижал юношу к своей широкой груди.
Остальные с удивлением смотрели друг на друга. Спасшиеся на Суасском хребте оглядывали людей Сюзанфа и изумлялись меховой одежде, огрубелой коже, энергичной походке дикарей. Они сами были истощены и в лохмотьях. Вся внешность их говорила о лишениях и страшной нужде. Лысый человек повернулся к Жану Лаворелю, стараясь улыбнуться, и вдруг опустился на колени и заплакал, закрыв лицо руками.
Человек с орденом в петлице мог еще говорить.
– Разрешите представиться и представить вам своих товарищей.
Старая формула, произнесенная этим взлохмаченным стариком, у которого из-под рваных брюк виднелись голые колени, странно прозвучала в этой пустыне.
– Фриц Шмидели, из Базеля, страстный ботаник, жалеющий растения еще больше, чем людей… Наш проводник из Шампери – Эмиль Жоррис, которому мы обязаны тем, что осталось от нашей жизни.
Непринужденность, вернувшаяся к старику, поражала своей неожиданностью и передалась остальным. Произнесенные им слова вызвали на их устах подобные же ответы. И Макс, протягивая руку ботанику, чуть не сказал:
– Очень рад с вами познакомиться.
Поймав себя на этом, он рассмеялся. По полному, добродушному лицу базельца катились слезы. Он молча пожимал руки.
– А я… Жорж Гризоль… из Парижа.
– Жорж Гризоль? Писатель? – воскликнул Жан Лаворель.
– Он самый, – громко ответил Гризоль.
И добавил меланхолично:
– Ваше удивление будет, несомненно, моим последним удовлетворением в этой области…
Гризоль, член Французской Академии! Модный писатель, произведения которого, выдержав большое число изданий, были переведены на все языки! Художник, рисующий великосветскую жизнь и умеющий сочетать скандальную хронику с вековыми идеалами! Искуснейший усыпитель робкой совести!..
– Как это странно! – прошептал Жан. – Встретиться здесь!
– Да, – повторил Гризоль, – Много странного и… ужасного…
Они замолкли. Страшные картины снова заполнили тишину.
– Вы лучше приспособились, чем мы, – сказал писатель.
Тогда Макс, как бы очнувшись от сна, подошел к ним и в свою очередь представил своих друзей.
Он добавил:
– Вы увидите в Сюзанфе моего тестя, – Франсуа де Мирамара, имя которого вы, вероятно, знаете.
– Знаю ли я его! Еще бы! – воскликнул романист. – Мне часто приходилось справляться по его превосходным трудам!
Игнац повернулся к Жоррису.
– Сколько у вас там коз? – спросил он. Без сомнения он думал, что эти городские жители все еще не излечились от мании пустословия.
Они направились в глубь котловины. Спотыкаясь о камни, романист продолжал говорить.
– Какую жизнь, какую жизнь мы ведем! Это невероятно!.. Мы уж было приготовились к смерти, совершенно просто, без всякого смирения… Ваше присутствие пробудило жизнь… У вас есть хижины? Огонь? Вы можете варить пищу, греться?
Он все еще не мог прийти в себя. Послышался смех Жорриса. Огонь?
– Нас целая компания, – продолжал Гризоль, – больной англичанин, русский князь и еврей-финансист… один из крупнейших капиталистов Европы. Добреман! Тот самый, который похитил красавицу Моро-Дельваль, жену бывшего министра. В Париже только об этом и говорили!
Макс кивнул головой. Названные имена пробудили в нем отголосок далекого скандала. Только два месяца тому назад! А между тем, целое столетие вычеркнуло все это из его памяти…
Романист понизил голос.
– Он похитил ее на празднестве, устроенном специально для нее. Оно стоило целое состояние… Каждая женщина представляла собой какой-нибудь драгоценный камень. Салоны были обиты различными шелками и изображали гигантские футляры для драгоценностей… Госпожа Моро-Дельваль была чудесным опалом… В разгаре празднества она исчезла с Добреманом. Муж смотрел на их связь сквозь пальцы, так как Добреман финансировал строительные работы в разоренных войной департаментах, работы, в которых министр был сильно заинтересован. Но эта терпимость перестала их удовлетворять… Это была прекрасная страсть.
Романист наткнулся на камень и, неловко схватившись за скалу, до крови ободрал себе руку.
– Каждый день так! – простонал он. – И подумать только, что дорог больше не существует!
Он виновато улыбнулся и вернулся к рассказу:
– Они приехали в Шампери на автомобиле в ту самую ночь, которая предшествовала потопу. Мы жили в одном отеле, потом бежали куда глаза глядят и очутились здесь…
– Как могла дама добраться до этих скал? – прошептал ботаник из Базеля. – Это неслыханно! Сколько подвигов заставило совершить это несчастье!
– Так она здесь? – спросил Макс.
– Несчастная женщина умерла через месяц, – ответил романист… – Изнемогая от болезни, лишившись своей красоты, с лишенными блеска волосами, она видела, как на ее же глазах таяла да таяла его великая любовь… Разве такой тип, как Добреман, мог по-прежнему любить женщину, которая вечно стонет, одета в лохмотья и кашляет день и ночь? Я только один раз видел ее улыбку. Это было, когда она почувствовала, что наступает конец… Мы отнесли ее тело в сторону и опустили его в воду. Но прилив прибивал его обратно… Каждый день во время прилива появлялась страшная посетительница. Вечером ли, ночью ли, – я знал, что она колышется там – вон под теми скалами…
Остановившись, он указал рукой на гладкую стену, выступавшую из серой воды…
– Кончилось это тем, что Жоррис привязал камни к ее юбкам…
Они приближались к площадке, расположенной на склоне котловины. Булыжники, несколько жидких пучков травы, бесплодная почва и – море.
– А вот и Добреман, – сказал ботаник из Базеля.
К ним навстречу поднялся высокий молодой человек. Со своими черными удлиненными глазами, орлиным носом и неподвижными чертами матового лица, он похож был на свергнутого и униженного языческого бога.
– Ах, господа!.. Если бы вы знали, до какой степени мы исстрадались! – повторял он, сжимая в своих все еще белых и тонких руках огрубелые руки пришельцев.
Отвесная скала едва защищала их от дождя. Паника в Шампери наступила так неожиданно, что они бежали, не захватив с собой ничего… У них не было даже спичек. Присоединившийся к ним проводник, убедившись в, невозможности развести огонь на скалах «Крепости», прикончил свои спички, разжигая трубку. Кругом не было ни куска дерева. Они питались козьим молоком и с тоской наблюдали за погодой, сознавая, что первый же снег принесёт им неминуемую гибель.
– Как мы уже сто раз не погибли? – вздохнул Добреман…
На его лице Макс прочел лишь ужас холода, голодовки, тысячи мучений, угрожавших телу… Несколько поодаль лежала длинная человеческая фигура. Лаворель подошел ближе и увидел худое лицо кирпичного цвета и тело гиганта, свалившегося на камни и казавшегося совсем разбитым.
– How do you do? – проговорил англичанин, не выражая никакого удивления.
– Вы больны? – спросил доктор. Англичанин покачал головой и ничего не ответил.
– Я думаю, что у него болен мозг, – сказал проводник. – О! Он не понимает ни одного слова по-французски! – добавил он, отвечая на жест Лавореля. – А, между тем, это здоровый парень. Он поднимался вместе со мной на «Собор» и на «Крепость». Катастрофа произошла на третий день после того, как мы тронулись в путь. Нам было легко спастись… Мы заметили ее приближение… Но англичанин впал в уныние. Он лег на землю и плакал, повторяя: «England! England!». С тех пор он почти ничего не говорил. Он не хотел ни вставать, ни ходить…
Макс смотрел на эту отвесную террасу и котловину, зажатую между ледником и водой.
– Почему вы не искали лучшего убежища? Не подумали о долине Сюзанф?
– Стоило мне отойти от них на двадцать шагов, как они уже считали себя погибшими, – ответил проводник. – Как же вы хотите, чтобы я пустился с ними в путь по отвесным обрывам?
Он указал на распростертого англичанина, Гризоля и Добремана.
– Есть еще русский! – вздохнул Жоррис… – Но он… он не знает гор… Что ж было делать?
К ним приближался ленивым шагом высокий юноша с мягкими чертами бледного лица, славянским носом и светло-голубыми глазами. Вся его фигура носила отпечаток преждевременного увядания.
– Мой шофер, – небрежно проговорил Добреман.
– Князь Орлинский, – докончил тот, с любезной улыбкой протягивая руку.
– Удивительно, – сказал Лаворель, – что с вами не спасся никто из поселян.
– У них у всех есть в долине свои дома, – ответил Жоррис. – Они спустились, чтобы спасти свое имущество. Я, наверное, сделал бы то же самое…
И поднявшись на ноги, он пошел собирать овец, бесцельно искавших среди сланца какой-нибудь травы.
Романист посмотрел ему вслед и сказал вполголоса:
– Этот человек был нашим провидением…
Он увлек Макса и Жана на берег небольшого прозрачного озера, окруженного со всех сторон камнями, и продолжал не переставая ходить взад и вперед.
– Без него мы давно погибли бы… Какая преданность у этих проводников!.. Я часто сожалел, что не могу делать заметок… У меня нет бумаги… Можно было бы написать прекрасный психологический этюд!
– В котором оказался бы даже отрывок скандала, – невольно проговорил Лаворель.
– Подумайте! – заговорил, внезапно возбуждаясь, романист. – Англичанин, умирающий от одной мысли, что исчез его родной остров, русский, считающий себя счастливым уже потому, что больше никому не подчинен и может ежедневно пить молоко… И тут же на просторе – угасание великой любви, которое мы наблюдали изо дня в день… Ужасное разочарование женщины и мужчины, вообразивших, что они любят друг друга, тогда как они любили лишь свою светскую оболочку… Но рамки! Рамки слишком невероятны! Критика осыпала бы меня насмешками! Что же касается публики…
И с неожиданной горечью добавил:
– Публики больше нет!..
По его пергаментному лицу скатились две крупные слезы.
Он думал о своих верных читателях, которые следовали за ним от одной книги к другой, о толпе незнакомцев, которые были ему дороже близких, так как давали ему славу, о той толпе, которой он служил в течение тридцати лет и которая погибла в один день, унося с собой весь смысл его жизни.
– Какой антипатичный человек этот Добреман, не правда ли? – прошептал он вдруг, пытаясь скрыть свое горе.
Решили тронуться в путь на следующий день, выпили овечьего молока и разделили между собой сушеное мясо, которое Игнац вытащил из своей кожаной сумки. Гризоль заставил растолковать ему дорогу, по которой придется идти. Он с удивлением смотрел на головокружительные края отвесных скал. Когда его кратковременное возбуждение улеглось, он превратился снова в жалкого истощенного человека с неловкими движениями, боящегося обрывов и послушного малейшему внушению Жорриса. От его прежних привычек осталась только застенчивая вежливость, которая трогала его спутников.
– Как мы вас стесним! – повторял он тихо.
Добреман больше не выходил из своей апатии. Англичанин лежал неподвижно, погруженный в свою печаль.
Дрожа всем телом, они прижались друг к другу, пытаясь заснуть. Октябрьская ночь пронизывала их своим холодом. Иногда кто-нибудь из них вставал и принимался с ожесточением притопывать по земле. Потом продрогшее тело снова опускалось рядом с другими.
Наконец небо приняло зеленоватый оттенок. При усилившемся свете ломаные очертания вершин обрисовывались с большей отчетливостью.
Проводник встал, размял свои окостеневшие члены и, позвав коз и баранов, стал заготовлять сумки. Послышался радостный возглас Игнаца:
– У тебя сохранилась веревка, Жоррис?
Англичанин заставил их потерять полчаса. С вежливым упрямством он отказывался идти с ними. Лаворель и Макс напрасно пытались его убедить.
Он качал головой и медленно пожимал плечами. Его жест означал:
– Для чего?.. Оставьте меня здесь…
Проводник жестом попросил их отойти и, став на колени перед лежащим великаном, долго говорил с ним вполголоса на скверном и никому не понятном английском языке. Что говорил он ему с тем выражением суровой нежности, которую проводники проявляют к своим путешественникам?
Молодой человек поднялся, наконец на ноги. Его большое исхудавшее тело выпрямилось во весь рост.
– Как вам угодно, – проговорил он покорно.
– Опирайтесь на меня, – сказал Жоррис своим ворчливым голосом, в котором звучали необычные нотки волнения.
Макс взял под руку Добремана, Игнац – Орлинского.
Академик шел спотыкаясь, задыхаясь на каждом шагу, останавливался… На лице ботаника застыло выражение мрачного восторга. Уверенность найти в долине Сюзанф какую-нибудь растительность взвинтила его нервную систему.
Потребовалось немало времени, чтобы перейти Суасский хребет. Жоррис перевязал своих спутников веревкой одного за другим, и пока Макс и Игнац подтягивали их наверх, проводник закреплял в петли их неловкие трясущиеся ноги.
– Какая трата усилий для одного только передвижения! – вздыхал романист… – И впереди – такая же перспектива…
Когда они поднялись на вершину, он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на бесплодную долину, свидетельницу стольких страданий. Обернулся и Лаворель. Перед его глазами промелькнула улыбка прекрасной женщины, умиравшей около своего равнодушного друга и улыбнувшейся лишь Смерти…
Они продолжали свой путь и спустились по склону. Перед ними поднимался другой выступ…
Когда группа стонущих изможденных людей приблизилась к обрывам Шо д’Антемоз, время близилось к сумеркам.
– Еще одно усилие, – говорил Макс. – Еще несколько шагов!
Наконец и эти несколько шагов были пройдены, и они увидели в глубине долины красное пламя костра. Послышался радостный крик:
– Огонь!
Гризоль нашел в себе силы спуститься без посторонней помощи. Уже можно было различить фигуры, ходившие взад и вперед около хижин. Макс передал Добремана Лаворелю и бросился вперед, перепрыгивая через осыпавшиеся камни. Они добрались наконец до подножия склона, и Гризоль напряженно вглядывался в спешившего к ним навстречу человека, который запахивался в шерстяное одеяло, еле прикрывавшее рваные остатки одежды. Эти жидкие волосы, эта борода, не потерявшая еще своей удлиненной формы, этот широкий лоб, приобретший благодаря иллюстрированным журналам такую популярность…
– Франсуа де Мирамар! Вы? Вы? – воскликнул Гризоль.
– Кто меня здесь знает? – спросил пораженный ученый, всматриваясь в человека, бежавшего к нему с распростертыми объятиями.
– Это я. Жорж Гризоль!
– Вы?
Историк выронил свой факел и раскрыл объятия. Оба старика, никогда не видевшие друг друга, с тихим плачем обнялись, как братья.
VII
Фортинбрас
– Аконит… горчанка, альпийская полынь… исландский мох… – громко повторял доктор Лаворель, сортируя растения, рассыпанные у него на коленях.
Он поднял глаза. Долина Сюзанф пылала в лучах осеннего солнца, превращавшего скалы в глыбы розового мрамора и покрывавшего позолотой сухие травы и красные цветы камнеломки. Ползучий кустарник походил на брызги огня у подножья надвинувшихся снегов.
Лаворель окликнул Губерта, который проходил недалеко от него, волоча свою изувеченную ногу.
– Губерт!
Губерт медленно поднялся по склону и сел около своего друга.
– Что вы тут делаете? – спросил он. – Собираете травы, как этот бравый ботаник, который, обнаружив здесь какие-то былинки, забыл об уничтожении мира?
– Я хочу найти растение, имеющее антисептические свойства. Подумайте о несчастных случаях… Вчера Игнац разодрал себе руку…
Жан вздохнул.
– Страшно подумать, что все может случиться…
Губерт горько усмехнулся.
– Ба! Не пытайтесь спасать людей… Жалкие горсточки оставшихся в живых и зацепившихся за скалу людишек умрут одни за другими, и Земля, превратившись в мертвый мир, перестанет страдать, – точь-в-точь, как эта счастливая Луна, которая портит наши ночи.
Жан хотел возразить. Но Губерт находил сильное облегчение в том, чтобы изливать свою горечь.
– Так вы мечтали о пустыне, Жан Лаворель? Вы хотели быть врачом в затерявшейся деревушке? Вы презирали свет и деньги? Смотрите, до какой степени судьба вам благоволит! Есть желания, выражать которые по меньшей мере неосторожно!
Вытянувшись на шерстяном одеяле, Губерт склонил к Лаворелю свое огрубевшее лицо и злостно издевался:
– Лаворель! Не скажете ли вы мне, почему вы мечтали о пустыне?
– Для того, чтобы работать! – ответил Жан. – Представьте себе, что перед самой катастрофой я почти что открыл новую сыворотку, убивающую микробы в организме… Излечение туберкулеза! Вы себе представляете?
Голос его дрогнул.
– Имей я в своем распоряжении еще несколько месяцев… Увидеть своими глазами, как излечивается человек, обреченный на смерть!
– Ну и что же? – возразил Губерт. – Ваша сыворотка все равно погибла бы со всем прочим!
– Иметь комнату, лабораторию и простых людей, за которыми ухаживать… – пробормотал Жан.
– Но были же в городах лаборатории, книги, учителя! – возразил Губерт. – Почему вы мечтали о пустыне?
– Города! Современные города! – воскликнул Лаворель. – Эта бешеная погоня за деньгами! Сумбур нечистоплотностей!.. Наши учителя сами поголовно охвачены безумием города…
– Вот оно что, – прошептал Губерт. – Значит, вы тоже разочаровались!
Наступило молчание. Губерт тихо спросил:
– А любовь?
– Любовь? – повторил Жан.
Он закрыл глаза. Перед ним промелькнула его юность, задушенная в работе, перегруженная чрезмерной ответственностью. Он видит себя ассистентом в больших хирургических клиниках… Война… Лазарет Красного Креста во Франции. Он – старший врач… У него двести кроватей. Потом он возвращается в Женеву. Дача в предместье, где умирает его мать, и окна которой в порыве отчаяния он наглухо забивает… Затем одинокое убежище… Работа – еще более упорная…
Любовь?
Он тихо проговорил:
– Моя душа представляет собою нечто вроде комнаты, замкнутой и запечатанной, в которой я хранил свои надежды и мечты о любви… Однажды я заметил, что эта комната опустела… или, вернее, что в ней обитало нечто иное… если хотите, страдание людей, которых я хотел вылечить, а, может быть, еще и страсть к научным открытиям.
Он снова замолчал. Как объяснить Губерту испытываемый км страх очутиться в плену своей любви?
– Я не мог… – сказал он наконец – не успел еще подумать о споем счастье… Возможно, что позднее…
Он умолк и, поднявшись на ноги, неожиданно воскликнул:
– Солнце садится. Надо спускаться, Губерт.
Они медленно шли по голубой скале, сохранившей еще отблеск потухшей иллюминации. На вершине склонов косые лучи солнца томились и умирали один за другим, и похолодевшая долина окутывалась тенью.
– Подумать только, что вокруг нас живут, может быть, люди, не имеющие ни крова, ни огня… – шептал Жан Лаворель.
Стоя на краю побелевшего обрыва Шо д’Антемоз, он вглядывался в пространство, где вырисовывались вершины гор, все более и более далеких, – удивительный архипелаг утесов и льдов!
Накануне выпал первый снег.
Лаворель не смог отделаться от мысли, что эти крутящиеся в воздухе хлопья служили исполнителями несчетного числа смертных приговоров…
– Игнац, взгляни! Он все еще там?
Молодой пастух остановился, защищая обеими руками свои зоркие глаза.
– Да, – произнес он наконец. – Он двигается.
– Надолго ли его хватит? – вздохнул Лаворель.
Вместе с Максом они пробовали соорудить плот, перевязав толстые стволы деревьев веревкой. Жан отважился даже пуститься на нем в путь, но тут же попал в водоворот. Ему стоило больших трудов посадить свой изломанный плот на мель. Пришлось отказаться от всякой попытки…
– Идем работать! – сказал Лаворель.
Они спустились к Новым Воротам, где работали их товарищи. Надо было торопиться. Через некоторое время склоны обледенеют, и по ним нельзя будет поднимать тяжести. Между тем, в ожидании суровой зимы, надо было заготовить возможно больше дров. Когда они приближались к Новым Воротам, Жан остановился, прислушиваясь к смеху Орлинского.
– Этот, по крайней мере, не унывает! – сказал он Игнацу.
– Я никогда не был так счастлив… – говорил Орлинский. – Я на своей шкуре узнал, что такое цивилизованное общество; я не сожалею о нем… Оно было беспощадно…
После долгого молчания Игнац ответил доктору:
– Он охотно работает… не то, что Добреман…
– Что же ты хочешь? Добреман не привык…
– А ты? – неожиданно возразил пастух. – Разве ты привык к такой работе?
Жан засмеялся.
– Я всегда любил горы: для меня это не так трудно…
Взгляд его окинул долину Сюзанф, покрытую белой пеленой и испещренную короткими голубыми тенями скал. Бледное солнце блуждало по леднику, разукрашенному узорами первого снега. Ах, если бы все люди могли спастись, как они, достичь подножья высоких вершин, найти долину, подобную долине Сюзанф!!!
Когда Лаворель взбирался на перевал, эта назойливая мысль становилась невыносимой.
За этим заливом, раскинувшимся у его ног между склонами Саланф, открывалась от выступа Ганьери и до скалистой глыбы Луизина длинная расселина. Отсюда тянулась бесконечная вереница гор, вздымая к неподвижному небу свои острые силуэты, свои плечи, свои снежные головы.
Бернские Альпы… Валлийские Альпы!.. Там, у их подножья, должны были ютиться люди, нашедшие спасение в роскошных отелях горных курортов.
Иногда море исчезало в сплошном тумане, из-за которого резко выделялись на солнце отдельные вершины. Над светлыми слоями перистых облаков обрисовывался далекий материк – неровный, весь в ямах, изрезанный острыми мысами. Подернутые туманом фиорды извивались на нем вычурными узорами.
– Эмиль! – спросил Лаворель сопровождавшего их Жорриса. – Не кажутся ли тебе сегодня эти горы особенно близкими?
– А все-таки, – ответил валлиец, – мы не сможем до них добраться.
– Эх, лодку бы, – крикнул в каком-то отчаянии Жан. – Неужели мы не сумеем построить лодку, которая будет держаться на воде?
– У нас нет инструментов, – проговорил Жоррис, изумленный интонацией Лавореля. – Да и море больно скверное, – добавил он.
Наступило молчание. Они думали о непроходимых пропастях, усеянных скалами, где даже в спокойные дни чувствовался неумолимый закон моря с его противоречивыми течениями, которые приносили и уносили всевозможные обломки, а с ними и полунагие, изуродованные трупы…
В течение первых недель Макс часами наблюдал, как эти мертвые тела подплывали совсем близко и снова уносились в неведомую даль.
Жан смотрел на золотящуюся зыбь белого тумана, отделявшего от него затерянную в горах мечту, и тяжело вздыхал…
В тот же вечер, поднимаясь со своей ношей от Новых Ворот, Жан Лаворель и Игнац встретили Добремана. Он беспечно прогуливался по узкой тропинке, которую, шагая по ней изо дня в день, протоптали их ноги.
С видом полного разочарования, ежась от холода и кутаясь в одеяло из шкур, он, казалось, чувствовал себя в своем костюме крайне неловко. Игнац шел последним и, проходя, нечаянно его задел. Тем самым тоном, который он когда-то усвоил по отношению к маленьким людям, Добреман произнес:
– Будьте осторожней, мой друг.
Игнац выронил из рук дерево и рванулся вперед:
– Я вам не друг, – сказал он и добавил сквозь зубы: – Молодой и сильный мужчина, а не работает…
Добреман вытянул свои тонкие руки с гибкими пальцами, не знавшими другого труда, как перебирать банковые билеты да подписывать чеки.
– Я? Я работаю мозгом!
Вызывающий тон, презрительные глаза, мерившие своего собеседника с ног до головы! Игнац грозно выпрямился. Юношеское лицо, окаймленное вьющимися волосами, стало суровым. В звуке голоса послышалась властная сила предков, грудью отстаивавших свои горы и свои права.

– Ваша очередь! Несите!
Он указал на тяжелый ствол, упавший на снег. Добреман хотел было отделаться шуткой. Но железная рука горца чуть не раздавила ему плечо. Он увидел над собою крепко сжатый кулак и почувствовал себя заранее побежденным. Побледнев, он наклонился к земле, поднял ствол, но тут же выронил его.
– Несите! – приказал Игнац.
Вернувшийся обратно Лаворель успел вмешаться.
– Возьми мою ношу, – сказал он пастуху. – Он не может… Я ему помогу…
И, схватив ель за обломанные корни, он жестом кивнул на верхушку дерева.
– На плечо, – посоветовал он.
Согнув голову, Добреман неловко поднял тяжесть и, сгорбившись, медленными шагами последовал за Игнацем. Капли пота стекали на его баранью шкуру.
Добреман, спавший в одной хижине с Жоррисом, старым Гансом и Игнацем, проснулся раньше других… Брр! Храп этих людей, это совместное житье, – все это наводило на него ужас. Он с трудом поднялся и приоткрыл дверь. Проникнувшая в хижину полоса тусклого света позволила различить тела, сжавшиеся против него на матраце. Он ждал пробуждения пастуха. Игнац вскочил одним прыжком и вышел, мимоходом толкнув его. Добреман последовал за ним и дружеским тоном, почти просительно, спросил: – Не сложите ли вы мне хижину, как у Дэнвилля? Я дам вам все, что захотите!
Пастух пожал плечами:
– Здесь нечем платить…
Добреман показал на крупный бриллиант, который он носил на пальце.
– Хотите это?
– Он мог бы, пожалуй, служить для пометки камней, – сказал задумчиво пастух. – Но мне мой нож больше нравится.
И добавил без всякой злобы:
– Я, впрочем, охотно помогу вам, потому что вы такой неловкий.
Добреману пришлось самому отнести несколько булыжников на выбранное место. Он сразу оцарапал себе руку и принужден был обвернуть ее обрывком платка.
– Вы никогда не научитесь, – разочарованно сказал пастух и продолжал работать один.
Англичанин все лежал на земле, не произнося ни слова.
– Самый благоразумный из нас, – говорил про него романист. – Он не пытается жить…
И Жорж Гризоль подавлял вздох. После того, как призрак смерти отошел, наличие надежного жилища и огня его больше не удовлетворяло. Новое существование представлялось ему во всем своем страшном однообразии и животной грубости. Вереница безрадостных дней, влекущих за собой одни и те же работы, мелкие и утомительные: вместе с детьми ежедневно срезать траву, расстилать и сушить звериные шкуры и сортировать камни, которые женщины ходили собирать в долине для постройки хижин. Нескончаемая работа, которая причиняла рукам мучительную боль!.. Есть одну и ту же пищу, страдать от холода, сырости, снега… В его возрасте, с его привычками! И причиной всему этому служила жажда жизни, неразлучная с их телом и обрекавшая их на такие страдания… Когда они вместе с историком поднимались медленными шагами по склонам, они с горьким отчаянием постоянно возвращались к прошлому. Они перечисляли все свои ежедневные мелочные удовольствия, все подробности своего минувшего благоденствия. А что они не высказывали, то угадывалось в их обоюдных речах. Это была тоска по фимиаму, который воскуривался их зрелому возрасту, по славе и поклонению, являвшимся законной наградой их трудов…
Романист шептал вполголоса слова, которые принимали в этой пустыне выражение безжалостной иронии. Слава!.. Ах, его слава!.. Он, руководитель современной французской мысли, доведен до существования дикаря, и власть его таланта обесценена… Власть оживлять действующие лица и идеи; всемогущество слова, приобретенное с таким трудом и теперь такое бесполезное…
– На что мы нужны? – говорил он.
А де Мирамар добавлял:
– Человечество будет делать свои первые шаги ощупью. Оно нуждается только в людях сильных и простых… Мы – анахронизм, мой друг…
Они входили в хижину, опускались на землю и замолкали. Твердые камни причиняли боль в пояснице. Сидя в углу, безумная качала головой и глядела на них своими бессмысленными глазами. Как далеко еще до сумерек! А после них настанет бесконечный вечер, а после вечера – ужасная ночь, во время которой сон слишком часто отказывает в нескольких минутах забвения… А потом начнется такой же день…
Ими овладело глубокое отчаяние…
– Не кричи так громко… Постарайся сказать мне, где у тебя болит, – повторял доктор Лаворель, склонившись над ребенком.
Мальчуган катался по полу хижины. Его побагровевшее лицо, облитое потом и слезами, исказилось от криков.
Женщины молча стояли вокруг него.
Мать пыталась объяснить:
– Его захватило как-то вдруг, сегодня утром. Вы только что ушли… Он стал кричать… Он уже вчера не бегал… Он что-то съел…
И тихим голосом, с мольбой, она твердила:
– Это очень серьезно, господин доктор?
– Ну, бодрей, мой мальчик! – повторял Лаворель. – Успокойся хоть на минуту.
Отодвинув тунику из шерсти, его пальцы осторожно ощупывали живот.
– Здесь? Или здесь?
В ответ раздался пронзительный рев.
– Плачь, если тебе от этого легче, но только не вырывайся… Чем больше ты будешь двигаться, тем будет больнее…
Он ощупал холодные ноги, замерзшие ладони и, взяв руку, стал считать слабое биение пульса. Он попросил меха и покрыл ими ребенка.
– Ничего нельзя сделать… Абсолютно ничего… – ответил он на молчаливый вопрос побледневшей от горя матери.
Он гладил густые волосы, окаймлявшие полное детское лицо, которое он знал таким живым и розовым.
– Сколько ему лет?
– Десять лет, господин доктор… Он сильный, он никогда не болел…
Приподнявшись, Жан увидел мальчуганов, столпившихся у порога и просовывавших в хижину любопытные лица.
– Бегите-ка к моренам за льдом. Принесите, сколько можете. Живо!
Он сел в углу, не переставая глядеть на ребенка, предоставленного всем ужасам страдания. Все тело мальчика корчилось, ноги его судорожно бились, кулачки отчаянно размахивали в воздухе.
И перед глазами Лавореля пронеслась другая картина: белая комната, залитая дневным светом, блестящие инструменты, расставленные на стеклянном подносе, и он сам, с напряженным вниманием склонившийся над детской фигуркой, ловкими руками спокойно и уверенно работающий над этим телом…
Четверть часа, двадцать минут… и ребенок спасен!..
Вошел Макс, привлеченный детскими криками, и увлек Лавореля из хижины.
– Зайди на минуту что-нибудь перекусить. Тебя ждут… Госпожа Андело спешила им навстречу.
– Бедная Рейн, – шептала она. – Это ее сынишка… Плохо дело?
Она никогда не была матерью, и это было ее большим горем. Волнение Рейн, ухаживавшей за своим ребенком, казалось ей все-таки меньшим несчастьем. Жан ничего не ответил. Она заметила его бледность и вздрогнула.
– Какой вы ставите диагноз? – спросил де Мирамар.
– Острое воспаление кишок… Это тот случай, когда может спасти только операция…
Он развел руками с жестом полной беспомощности.
– Я считаю его погибшим…
– Это ужасно, эти крики!.. Они будут еще долго продолжаться? – спросил Добреман.
– К вашим услугам вся долина Сюзанф, – грубо ответил Лаворель.
И, отойдя от него, вернулся к больному.








