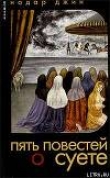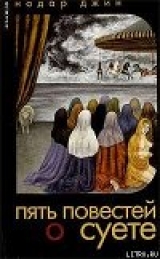
Текст книги "Повесть о вере и суете"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
28. Печаль умеет плавать
В течение нескольких часов жизнь казалась мне восхитительной.
Между тем, ещё до того, пока день остыл, во мне начала набухать печаль.
Я попробовал утопить её в коньяке, но, подобно многим другим до меня, выяснил, что печаль умеет плавать. Ночью мне снова приснился хайвей, перехваченный жгутом низкого моста и пустынный, как синяя аорта, из которой вытекла жизнь.
На мосту, как грачи на проводе, скучали прильнувшие к перилам одинокие ротозеи, дожидавшиеся обещанного праздника – смертного боя безумных «Ягуаров». Картина была столь же унылой, сколь мёртвой бывает только заставка на экране закончившей передачи телестанции.
Перед рассветом в этот безжизненный кадр протолкнулся, наконец, гул знакомых моторов – и скоро всё пространство наполнилось надсадным рёвом автотурбин. Когда звукам было уже некуда деться, внизу на хайвее вспыхнули в полутьме два «Ягуара». Через несколько секунд они вдруг как бы замерли и, вскочив на дыбы, вцепились друг в друга с пронзительным скрежетом. После глухого – как пробка из бутылки – взрыва над хайвеем взметнулся столб серебристого пламени, сразу же распавшийся в шипящий дождь из брызг бургундского.
Изгнанием из «Голоса» дело не закончилось. Пришлось оставить семью в столице, перебраться – вместе с моим «Бьюиком» – в Нью-Йорк и пристроиться там в кар-сервисе «Восемь с половиной». Названием контора была обязана не придирчивому подсчёту нанятых ею автомобилей, а тому, что управляющий работал когда-то помрежом над одноимённым фильмом Феллини…
Первый месяц был восхитителен: аэропорты, вокзалы, пассажиры, анекдоты и возбуждающее одиночество в манхэттенских ущельях! В складку над дверью я заложил мезузу из моей петхаинской квартиры, в результате чего «Бьюик» стал походить сразу на родительский дом и на моторизированную синагогу. Позже ото всего этого начало тошнить, ибо всё стало повторяться. Даже анекдоты.
Сперва я заскучал по дому – по жене, дочери, матери, братьям. А однажды захотелось вдруг выставить пассажира посреди мостовой, развернуться в обратную от Вашингтона сторону, вскинуть прощальный взгляд на нью-йоркские небоскрёбы и, раздавив ногой газовую педаль, рвануть против движения назад, в Петхаин. Где никого уже у меня не осталось. Уцелел, быть может, только дом, в котором я вырос. А на кладбище – могила предков.
Это желание тоже стало возвращаться, прививая мне самое ненавистное из чувств, – сладкое чувство тихой трагичности бытия.
Я испугался его и в панике стал искать приключений.
29. Половой акт есть форма коммуникации
Вкуса к драматическому не хватает даже нью-йоркцам, а нью-йоркцы – густой материал для обобщений. Вопреки репутации, человек не далеко оторвался от животного мира, где ничего драматического нет…
Женщины, с которыми я связался в Нью-Йорке, задавали мне после первой же ночи одинаковый вопрос: как быть теперь с твоею женой? Одинаково предсказуемыми были и пассажиры: на коротких дистанциях поругивали погоду, на средних – Нью-Йорк, а на длинных – человечество.
В течение первых двух месяцев я приобретал лотерейные билеты, но они стали раздражать меня не столько предсказуемостью результата, сколько тем, что одинаково выглядели. Пробовал и другое. Трижды вторгся на территорию Гарлема.
В первый раз, не покидая автомобиль, купил мороженое Хагендаз с орехами. Во второй, спешившись, почистил паклей ветровое стекло. А в третий – в тесном баре – смотрел по телевизору бейсбол, возмущавший меня ещё и загадочностью правил. Мало того что драмы не вышло – мне там, увы, эти правила объяснили.
Потом я завязал быстротечный роман с замужней солисткой балетной труппы в предвкушении того высокого часа, когда это известие дойдёт до супруга, который зарезал как-то её любовника. Сам он тоже был солистом, но – бывшим, почему, по её словам, страдал маниакальной ревнивостью и таким же нетерпением ко всему длящемуся – от ноющей боли в мениске до евреев.
Высокий час выпал на канун праздника масок и тыкв Халловин, на который – среди эрогенных Кэтскильских гор – солистка назначила мне нашу половую премьеру. Однако в ночь перед премьерой она сообщает мне по телефону упавшим голосом, что бывший солист пронюхал о нашем плане, напился ямайского рому, уселся в японский автомобиль, а сейчас с финским ножом поджидает меня в моём подъезде – из чего следует, что забыть мне надо не только про эрогенные горы, но и про собственный дом.
– Наоборот! – торжествую я и, не заправляясь бензином, мчусь через ночной Нью-Йорк к маниакальному ревнивцу.
Называю себя по имени и сообщаю ему твёрдым голосом, что он не имеет права!
И он не тянется в карман за ножом. Не спрашивает даже о каком праве говорю.
Я объясняю: никакого права!
Но он опять молчит.
Тогда я вдаюсь в подробности. Никто, говорю, не имеет права мешать! Причём, двум половозрелым людям. Из которых одна – активная солистка! А второй – почти гражданин! Особенно – в Халловин! И тем более – в горы!
А он всё молчит. И, изнывая от боли в мениске, постукивает носком по мраморному настилу в тёмном подъезде.
Потом я информирую его, что половой акт есть форма коммуникации, а по всей видимости, солистка предпочитает коммуницировать завтра со мной. А не с ним. Из чего ему следует сделать вывод о необходимости пересмотреть отношение к длящимся субстанциям. Что же касается меня, то я, во-первых, ни разу ещё не бывал в эрогенных горах, а во-вторых, люблю драматическое!
Но он вяло кивает головой и возвращается в автомобиль, поскольку и вправду не имел права.
Премьеру я, тем не менее, отменил. В последний момент, когда лицо бывшего солиста мелькнуло в жёлтом свете фонаря, меня осенило, что неожиданную вялость в его движениях следует приписать крепчавшему в нём СПИДу.
30. Подать на Америку в суд
Эта несостоявшаяся драма подсказала мне на будущее блестящую идею: пренебрежение к нулевому показателю бензомера.
Когда солистка сообщила мне, что меня ждут в подъезде, бензин в машине был на нуле, но ближайшая колонка оказалась под замком. Следующую, подгоняемый напористым роем равелевских зуйков в репродукторе, я пропустил из уважения к ритму. Ещё одну – от возбуждения, а потом колонок не стало, и всю дорогу сердце моё трепыхалось в тисках сладкого страха из-за того, что, подобно горючему в баке, в нём не хватит крови – заглохнет в пути, не дотянув до праздника драмы.
Всю дорогу до подъезда я умолял Властелина сделать сразу так, чтобы в баке хватило бензина и чтобы его не хватило в баке. Но ни тогда, ни позже наслаждение от ожидания драмы самою драмой, увы, так и не завершалось. Бензина в баке всегда оказывалось достаточно.
Так было изо дня в день до кануна другого американского праздника – Благодарения.
День был воскресный и неубранный, стрелка – а нуле, а в кабине – пассажир с фамилией Роден. Из Кеннеди – в Вэстчэстер.
Ехал я медленно, приглашая его к разговору, но он приглашение игнорировал и жевал оливки защитного цвета.
Потом я начал извиняться, что сижу к нему спиной.
Роден извинил и вернулся к оливкам.
Тогда я пропустил колонку.
Роден перестал жевать оливки, заметил, что следующая колонка будет только через пятнадцать миль и посоветовал развернуться к пропущенной.
Я ответил, что бензина, надеюсь, хватит – и наконец-то случилось то, чего вопреки надежде я желал!
Я позвонил в Трипл-Эй, объяснил, что застрял на шоссе с пустым бензобаком, попросил Родена запастись терпением и извинился.
Он по-прежнему извинил и вернулся к оливкам. Когда оливков осталось полдюжины, у меня возникло предчувствие, что, как только они выйдут и Родену станет нечего делать, – начнётся драма. Так и случилось.
Проглотив последние оливки, Роден вытирает губы и произносит вслух мысль, которая промелькнула в моей голове: остаётся только слушать музыку!
Я соглашаюсь и лезу в бардачок за единственной кассетой. Я бы хотел зурну, сообщает он. При этом я не удивляюсь, как если бы действие происходило в Грозном, и отвечаю: да, здесь как раз зурна!
Потом мы оба замолкаем, и в «Бьюике» разворачивается музыкальная вязь, которая не умещается в салоне и крадётся наружу, где её раздирает в клочья поток бешеных машин. Извините, говорит Роден, не могли бы вы закрыть окно, а то от звуков ничего не останется, хотя с открытым окном лучше, потому что у меня астма.
Потом он не изрекает ни слова, поскольку всё вокруг забито теснящимися в кабине музыкальными узорами – так плотно, что в машине едва хватает места для выдоха. Потом кассета заканчивается, но проходит время, пока все звуки – как тяжёлое вино сквозь воронку – процеживаются из ушей в наши захмелевшие головы. Потом проходит ещё какое-то время, пока музыка растекается по всему организму, разгружая голову ровно настолько, – и не больше, – сколько достаточно, чтобы всё последующее стало восприниматься как жизнь. Как сиюминутно творимое и как повторение прошлого. Что я объяснил тогда просто: люди чувствуют и мыслят одинаково.
Как только звуки в салоне рассосались, Роден высказывает вслух наблюдение, которое мгновением раньше возникло у меня: у нас, оказывается, сходные имена.
Потом – что он прилетел из России, и был также в Грозном, где восемь стариков рассказали ему о девятом, который умер от астмы и играл на зурне так, как не умеет никто. И что у него, у Родена, в чемодане лежит такая же кассета с такою же музыкой.
А потом – что зурна, на которой старик играл эту музыку, находится в Вашингтоне. И он хотел бы её купить, но в Вашингтон не поедет, ибо брезгует им настолько, что управление столичной штаб-квартиры своей юридической фирмы вверил близнецу и переехал в Вэстчэстер к любовнику – известному специалисту по кавказскому фольклору.
Около года назад с Роденом случилась драма. Сопровождая фольклориста в поездке по Чечне, он к нему охладел из-за внезапной страсти к усатому государственному деятелю с возбуждающим именем Тельман, у которого Роден, невзирая на астму, только что гостил в высокогорном предместье Грозного.
Я возмутился: Как можно завязывать интимные отношения с правительственным работником?!
Роден возразил, что Тельман прежде всего баснописец, обладающий широким видением мира.
– Широким?! – испугался я. – Не может быть!
Как же не может, возмутился теперь Роден, если Тельман, ни на грамм не будучи евреем, позавчера вынес постановление о неприкосновенности местной синагоги в связи с её возведением в ранг музейных экспонатов!
– Не может быть! – повторил я, но Роден по-прежнему не согласился.
Как же, мол, не может быть, когда нью-йоркская еврейская организация послала Тельману через Родена три тысячи призовых долларов за бережное отношение к еврейской старине! Люди недооценивают людей, добавил он. Особенно выходцы из Союза. И ещё он сказал, что я, наверное, родом оттуда, а судя по виду, – гетеросексуал, хотя душа моя и полна неистраченной жалобы.
– Так и есть, – кивнул я и стал рассказывать ему про зурну, закончив тем, как меня погнали из Вашингтона.
Роден поддакивал, словно знал всё не хуже меня, а когда я остановился, он начал говорить вещи, которые я не просто прекрасно знал, но которые именно тогда и вспомнил. Сперва он высказал три мысли, связанные с фольклором.
Приступ астмы следует лечить пшеничными лепёшками, опущенными в мёд и залитыми неразбавленным вином.
В горах бывает так много света, что в крыльях птиц видны даже косточки.
Согласные звуки в молитве – это как плоть, а гласные – как дух, и они движутся в пространстве, как живое существо, тогда как из этого единства возникает первозданный смысл, присутствовавший при сотворении мира.
Потом он сказал, что жалоба – это страсть к разрушению, а страсть к разрушению, в том числе к саморазрушению, – животворная страсть.
Потом ещё: Для того, чтобы быть счастливым, надо перестать к этому стремиться.
Потом такое: Сегодняшнее исчезает так быстро, что человек наслаждается им только когда оно становится прошлым.
И ещё: Вещи собрать воедино невозможно, ибо они существуют именно в единстве, а потому в качестве таковых их и надо принимать.
И наконец – что самым ужасным открытием была бы возможность читать мысли других людей…
– Люди мыслят одинаково, – сказал я, – а значит, каждому известно о чём думает другой.
– Неправда! – рассудил Роден. – Вы, например, не догадываетесь – что я вам хочу предложить.
– В связи с чем? – насторожился я и решил было напомнить ему о моей гетеросексуальности.
– В связи с вашей жалобой! – и тут он опускает стекло, глотает воздух и под шум проезжающих машин произносит слова, которые, проступая в моём сознании давно, сложились в произнесённую им фразу мгновением раньше. – Вам надо подать на Америку в суд! И я вам в этом помогу!
Наутро я возвратился в Вашингтон. Через неделю подал на Америку в суд. А через месяц, в день осеннего праздника Торы, встретил в синагогальном клубе Герда фон Деминга.
Он подмигивал раввину, потел, икал, гикал и, главное, проворно подёргивал задницей под быстрые ритмы кларнета. До суда, на котором ему пришлось доказывать отсутствие презрения к евреям, было ещё не близко, но именно там, в еврейском клубе, мне впервые стало страшно за то, что я еврей.
От ненависти в действиях можно защищаться. Но от скрытой, а потому углубляющейся, – нет. Герд веселился так агрессивно, что чувство стыда за него исчезло у меня в тот же миг, когда я представил глубину его ненависти к окружавшим нас клубным евреям. Большинство которых, подобно любому большинству визгливых и потных людей, вызывало неприязнь и у меня.
31. Единство незримого со зримым
…Эту повесть о вере и суете я начал с того, что когда-то доверял не только незримому, но даже зримому. Такое отношение к миру я считал наследственным. От деда – раввина и кабалиста. К концу своего срока, однако, он стал утверждать, будто всё с ним не так, как было раньше. Главное же – будто всё на свете, как сущее, так и не-сущее, существует не только как оно на самом деле есть, но и как кажется.
Мне думается, что его толкнул к этому неизвестный недуг. Единственный симптом которого – затяжные приступы молчания.
Этот недуг настиг недавно и меня.
Я тоже теперь часто молчу и во всём сомневаюсь.
В большинстве случаев сущее представляется мне кажущимся, а кажущееся – сущим.
Соответственно, я решил, что верить нельзя ничему.
Что любая вера – это иллюзия.
Между тем, я писал эту повесть на тот случай, если «кажется» и есть «есть». Если любые факты, являясь сами по себе интересной штукой, – если все они вдруг ни при чём. Если правда не в них, а в том – чем эти факты нам таковыми «кажутся». И пока я писал эту вещь о суете веры, не забывая о своём деде и моём недуге, во мне постепенно проступала дополнительная мысль:
А не может ли быть как раз, что вера – это и есть истинная реальность? И что другой реальности не бывает?
Это подозрение росло во мне, однако, отнюдь не с тою настойчивостью, которая скрывает собой обычно неуверенность. Оно набухало осторожно. Как до сих пор осторожно относился я к нехитрому выводу, которым обрадовал себя давно. В возрасте, когда заканчивается детство.
Я провёл его в Петхаине, древнем тбилисском квартале. Петхаинцы доказывали существование бога простейшим образом. Вокруг закалываемой курицы они очерчивали на земле круг. Из него обезглавленной птице – как бы она ни трепыхалась – вырваться не удавалось. В нём она и издыхала, в этом круге.
Петхаинцы не сомневались, что в круге удерживает курицу никто иной, как Бог. Сомневался я. И долго порывался проверить сомнения тем простейшим образом, который потребовал бы сначала птицу зарезать. Готовился я к убийству долго. И всё это время думал о Боге весьма неопределённо. Когда наконец я собрался с духом, отчленил цыплёнка от его собственной головы и швырнул его наземь, то круг очертил вокруг него маленький. Куда более узкий, чем обычно.
Цыплёнок повёл себя столь недвусмысленно, что я надолго сложил о Боге предельно ясное мнение. Обезглавленная птица выскочила не только из назначенного ей круга, но и со двора. Прямо под колёса грузовика, который её и пришиб.
Тогда и решил я, что Бог не имеет никакого отношения к закланию птиц. Всё дело в человеке: где именно он очертит границу.
Точнее, всё дело в том, что же именно Бог человеку подскажет. Резать птицу или нет? Очерчивать границу вокруг жертвы или не очерчивать? Большой ли круг или маленький? Просить Бога, стало быть, следует только о том, чтобы он не надоумил человека составить о незримом превратное мнение.
Этому принципу я не изменил даже после того, как начал во всём сомневаться.
Но вот пока я писал эту повесть о единстве «кажущегося» с «сущим», незримого со зримым, Бога с человеком, – пока я думал обо всём этом, постепенно в моё сознание закралось подозрение, что просить небеса уберечь нас от превратного мнения о чём-либо глупо. Ибо они выполнят нашу просьбу только если это в границах человеческих возможностей.
А подозрение это вошло в меня вместе с воспоминанием о первом предчувствии праздника. Когда не важно – что есть что. И когда жизнь на какое-то время перестаёт быть суетой.
32. Сердитый Бог в форме двуглавого сокола
Это предчувствие коснулось меня давно.
До того дня моя жизнь казалась мне глухой, как в утробе. Я жил где родился: в большом, но разваливавшемся доме, расположенном в заплесневшем районе грузинской столицы. В Петхаине.
Будили меня перед рассветом. Поднимал из постели именно дед. Сентиментальный раввин по имени Меир с лицом со старинного медальона. Напоминая каждый раз, что мне посчастливилось родиться евреем, он тащил меня утром в синагогу. Там дожидались его другие старики. Убивая время рассматриванием цветных разворотов из журнала «Огонёк», которыми синагогальный староста Йоска Толстяк заклеивал подтёки на стенах.
Чаще всего старики толпились либо перед гойевской махой, либо же перед маршалом Жуковым. Жуков был расположен на уровне глаз. В парадном мундире. Верхом на гигантской лошади, закутанной на морозе в молочный пар воинской славы.
Маха же, поскольку была обнажена, висела выше человеческого роста. Чтобы не отвлекать во время службы. В отличие от меня, старики, однако, испытывали к ней домашнее чувство. Как и к маршалу, которого даже считали евреем.
В синагоге, где пахло, как из подмышки, мне предписывалось брать в руки покривившийся от старости молитвенник и читать нараспев два давно заученных текста. В первом речь шла о том, что Господь наш Всевышний – Совсем Один! Второй текст благодарил одинокого Бога за то, что Он вернул мне утром на суточный прокат мою же собственную душу.
Каждое утро она возвращалась мне с тем условием, чтобы тотчас же после синагоги я бежал домой прихватить учебники и торопиться в школу на другом конце улицы. Теперь уже вместе со мной – в наутюженном мундире полковника правосудия и с кожаной папкой в руке с профилем Сталина на обложке – выходил из дому отец. Статный красавец Яков, почтенный городской прокурор, писавший стихи к знаменательным датам в истории отечества и родни.
По пути он доказывал мне, что Бога, тем более еврейского, уже давно нету, но делал это неуверенно, думая всегда о чём-то другом и оглядываясь на улыбавшихся ему кокетливых девушек. О том, что Бога нет, особенно еврейского, я догадывался сам. Хотя знал и то, что отец кривил душой.
Раз в году, в Йом-Киппур, он чуть свет запирался от всех в чулане, и мать посылала меня в прокуратуру с объявлением, будто полковник Яков Меирович неожиданно захворал. Он выходил из чулана только после захода солнца. Осунувшийся, с блуждающим взором человека, вернувшегося из нигде не обозначенного мира. В цинковом чане на верхней полке чулана, рядом со служебным парабеллумом отца, я обнаружил однажды пересыпанный нафталином талес и молитвенник на Судный день.
Из этого парабеллума, кстати, он, узнав о смерти своего брата Беса в колонии на Урале, в ярости расстреливал среди ночи разбежавшихся по стене мохнатых тараканов. Беса отсиживал срок за то, что, по трагическому совету отца, скрыл от властей скандальную тайну: у его жены, бухарской еврейки, обнаружился в Турции родственник – двойник начальника госбезопасности Лаврентия Берия.
Мои школьные занятия начинались с уроков пения, на которых вместе со всем классом я распевал заветную песню о нерушимом Союзе Советов с двумя соколами в его высоком небе. «Один сокол Ленин, другой сокол Сталин».
Пел я неестественно громко, умышленно надрывая голос, поскольку нараставшая в горле боль уводила мысли от необъятного, как тоска, зада учительницы пения. Обёрнутый чутким шёлком, этот зад мерно колыхался в такт задыхавшейся во мне музыке. Ночью боль утихала, и под утро в возвращаемую мне душу снова вселялись видения: чуткие фиолетовые бёдра учительницы и сердитый Бог в форме двуглавого сокола.
Одна голова – с мучительно узким разрезом монгольских глаз, лысая вверху, но внизу отросшая оческом рыжих волос; другая – большеухая, с изрытым оспой лицом и с тяжелыми усами. Так проходило моё детство, теснимое безысходной тоской по иной – настоящей – жизни.
Пусть и несбыточной, но неотвратимо приближавшейся.
И вот однажды в феврале, перед рассветом, меня разбудил необычный звук. Я слышал его прежде только в кинотеатре, где крутили фильмы о безумствах русского командарма Василия Чапаева или мексиканского головореза Панчо Вилья.
Этот пленительный звук никак не походил на хриплый кашель раввина Меира, поднимавшего меня на молитву. Нарастая, он сковал мне сердце в ощущении нежданной удачи. В мою жизнь, в наш покосившийся дом, пахнувший талым воском субботних свечей, в весь онемевший под звёздами мир внедрялся размеренный цокот многих конских копыт.
Меня охватило оцепенение.
Когда я наконец выбрался на крышу, где, не ощущая холода, собралась уже моя полунагая семья, мне открылась величественная картина.
Гарцуя, звеня искрящимися подковами и мотая обложенными лунным светом мордами, по кривым улицам Петхаина двигалась колонна горделивых лошадей. Из лошадиных ноздрей с шипом выбивался клубившийся на морозе пар.
Длинные ноги коней были овиты белыми кожаными ремнями, а в седлах восседали покрытые чёрными папахами и похожие на принцев усатые кавалеристы. Из-под накинутых на плечи белых бурок свисали кривые шашки и блестящие сапоги, в которые были заправлены синие лампасы с широкими красными лентами. И в которых отражались наши петхаинские звёзды.
В воздухе крепчал пряный запах, завезённый из дальних мест.
В глазах отца стоял ужас.
В нависших над улицей балконах, в распахнутых настежь окнах чернели недвижные фигуры остолбеневших от страха соседей.
И один только я в этом слаженном цокоте копыт и в изредка раздававшемся конском ржании слышал обещание уже совсем близкого спасения.
С рассветом, вошедший в город гарнизон чеченских кавалеристов приступил к делу: в каждый еврейский дом была доставлена бумага с указанием точного срока эвакуации. На сборы отпускалась неделя, редко – две. Ошалевших от горя евреев и турков отвозили ночью на станцию, где их поджидали товарные поезда, уходившие в Казахстан.