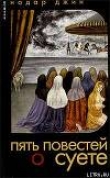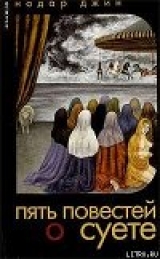
Текст книги "Повесть о вере и суете"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
14. Сон идёт, но вот его граница
Вышло иначе.
Опорожнив флягу, я швырнул её в окно, вспугнув голубей, которые каркнули, – теперь уже как вороны, – шумно вспорхнули и, напоровшись на железную сетку над собой, заметались в тесном пространстве. Наконец, опустились на ржавый край балки, торчавшей из бетонной стены морга, и уставились на меня ненавидящим взглядом.
Меня, впрочем, смутило не это. В задымленной хмелью голове высунулись ниоткуда зловещие строчки:
Сон идёт, но вот его граница в сне самом становится видна:
Эта птица мне, наверно, снится из чужого и больного сна.
Острый клюв на солнце золотится и двоится. Не упасть ли ниц?
В чёрном платье – человекоптица, в чёрном фраке – человекоптиц.
Как же ото сна во сне отбиться, если снится, что не я заснул?
Но мелькает человекоптица, человекоптиц уже мелькнул.
Синий сон сгустился у бровей, – узнаю себя: меня хоронят.
Белый саван… Чёрные вороны… Красный человекомуравей…
Улетать птицы не стали. Наоборот, развернулись к бетонной стенке мертвецкой и принялись колотиться в неё крыльями, как кулаками. Продолжая при этом оглядываться на меня уже со злорадством.
О морге я подумал и без этих взглядов. Просто мелькнула мысль, что потом меня покатят за эту бетонную толщу и станут всё-таки вспарывать, хотя меня при этом не будет, а из несуществующих никто ещё не жаловался на неудобства несуществования.
В мире несуществования нет ничего кроме несуществования, вспомнил я и обрадовался встрече со старой догадкой. Как радовался забытым деньгам в старом пиджаке. Поэтому, подумав тогда о морге, я о нём сразу же и забыл. Как забываешь Монголию, если вдруг о ней подумал.
Птицы, однако, продолжали шумно скулить и настаивать на возвращении в мертвецкую. После недолгих колебаний я сдался, потому что, несмотря на ограниченность времени, занять себя было нечем. Не то чтобы любая тема казалась глупой – темы просто не было!
Постыдное ощущение пустоты, не поддающейся даже сокрытию, ибо скрывать возможно лишь присутствие.
15. Сознание, это незримое присутствие
Первое же в морге открытие не удивило меня, потому что я предвосхищал его всю жизнь.
Сознание, это незримое присутствие, загнанное в плоть и ответственное за осмеяние окружающего, – никуда оно, оказывается, не исчезает. Сначала – из-за падения температуры в организме – оно паникует, но потом быстро прикидывает что к чему и покидает его в аварийном порядке. Фактически – бросает его на произвол осмеянного им окружения, из-за чего испытывает неловкость и некоторое время витает над организмом. Кстати, именно тогда впервые ему и удаётся обстоятельно осмотреть этот организм, который теперь уже не в силах прикрыться позой или движением: валяется зловонной и ни на что не годной тушей.
Хотя развоняться я не успел, меня передёрнуло от одного её вида – раскинувшейся на цинковом столе, утыканном шипами. И дырками для оттока крови. Если бы не бирка с моим именем над левой ступнёй, я бы себя не узнал. И дело даже не в том, что туша была прикрыта покрывалом, а лампочка, свисавшая над ней, сочилась вязким, как гной, светом. Я не узнал бы себя прежде всего потому, что выглядел так же тошнотворно, как все на свете туши.
На самом видном месте в помещении висела инструкция на случай пожара. Прочесть её я не успел: отвлёк телефонный звонок. Присутствие телефона тоже удивило. Тем более, что я сразу не мог его и найти. В конце концов, приметил аппарат между чанами и бутылками на каталке, стоявшей впритык к моему столу. Беспроволочный Панасоник с монитором. Как и положено ему, он звонил писклявым японским голосом и перестал пищать так же внезапно. На полутоне.
Потом я увидел щит с расписанием дежурств. В этот день оперировал хирург с фамилией Аскинази.
На полках теснились десятки широкогорлых склянок, а в них – тёмно-красные слизистые комки человеческого мяса. Настолько безобразные, что мне ещё раз стало стыдно за недавнюю принадлежность к людскому роду. Напичканному этой требухой – печёнками, селезёнками, желудками, почками и лёгкими. Больше всего обидела банка, убедившая меня, что сердце есть всего лишь порция безвольно растёкшегося мяса.
От полного отчаяния уберегло отсутствие посудины, которую не нашёл. С мозгами.
Настоящая удача объявилась, однако, когда дверь дрогнула и откатилась в стенку: доктор Аскинази оказалась хрупкой блондинкой с чуть вздёрнутым носом. Оглядевшись, она опустила на пол голубой куль из «Сакса» и стала переодеваться.
Пока продевала руки в халат, на её левой ягодице я успел разглядеть татуированный рисунок бабочки, вокруг которой роились зуйками мелкие готические буквы. Напрягшись, я прочёл, что насекомое именуется по латыни Апатура Ирис, или Фиолетовый император, – и в качестве такового значится в зоологической таблице Линнея.
Меня охватило умиление – и вспыхнувший было интерес к ней обернулся бесполым домашним чувством. Сразу же захотелось обратиться к доктору на «ты» и подобрать ей подходящее имя. Например, – Мишель.
Стерильная реальность мертвецкой снова вдруг взвизгнула омерзительным сигналом Панасоника. Аскинази заторопилась, и с каждым по-японскому настырным повизгиванием телефона Фиолетовый император на ягодице подрагивал чуткими крылышками. Прихлопнув их сатиновым сачком халата, женщина шагнула к телефону, щёлкнула пальцем по кнопке аппарата и представилась ему:
– Мишель!
– Мишель? – треснул в мониторе недовольный фальцет. – Я уже, бля, надорвался звонить! Где была?
Мишель снова вздохнула и бросила взгляд на моё лицо. С закрытыми веками я походил на идеалиста, который – хотя всю жизнь был мёртвым – никогда не сомневался, что движется в правильном направлении. Как всегда после недавней стрижки, верхнюю половину лба скрывал мне чуб, который Мишель, поддев пальцами ножницы на коляске, отсекла на корню. Я сразу же испытал неловкость: без чуба лицо моё стало нагим.
– Почему молчишь? – снова треснул монитор.
– Не приставай! И к брату твоему пойдёшь вечером без меня: я еду к маме. И отстань, говорю: работаю без никого…
– А где этот мудак? Опять ушёл строчить стишки о тушах?
– Не смей! – вскрикнула Мишель. – Для тебя – туши, а для Стива – у него золотое сердце! – для него каждый труп – как распятый Христос!
– Да оставьте вы Христа в покое! – возмутился фальцет. – Тоже был чокнутый!
– Не выражайся, я сказала! Ненормальные – это вы…
– Евреи?! А кем был Христос, румыном?
– При чём румыны? – оскорбилась Мишель. – Я американка во втором поколении! Но всё равно говорю, что не всё – деньги! Я тут никого ещё с деньгами не видела. Стив правильно писал: все уходят туда как Христос, без цента!
– Деньги там тратить негде, – рассердился фальцет, – деньги, бля, созданы не для там, а для здесь, ясно?
Мишель почему-то отсекла мне волосы и за ушами. Я заметил, что в профиль выгляжу другим человеком, чем анфас. Причём, если смотреть слева, – то похож на актёра в роли соблазнителя, а справа – в роли парашютиста.
– Мне мудрость ваша вот она уже мне где! – ответила наконец Мишель и чиркнула пальцем по горлу, сперва по моему, а потом хмыкнула и поправилась – по собственному. – Я тут из-за тебя случайно полоснула по горлу не себя, – и проверила на податливость мой локоть, застывший в нелепой, вздёрнутой вверх, позе.
– Полоснула не себя? – не понял фальцет.
– Не в том смысле… Ну, разогни же руку!
– Ты это кому? Клиенту?
Локоть наконец хрустнул – и рука разогнулась. Мишель вздохнула и бросила в монитор:
– Не говори глупостей! А где ножницы? Идиоты, прикатили человека в плавках! – и чиркнула ножницами. Ткань на плавках разлетелась в стороны, и мне стало неловко не только за форму моего члена, но и за цвет. – Слушай! – воскликнула она и вернула ножницы в карман. – А он ведь, боюсь, тоже еврей.
– Еврей? – воскликнул фальцет изменившимся тоном. – Несправедливо: Стив, гавнецо, чешет дома куплеты о трупах, потому что у него, бля, золотое сердце, а еврея в это время берут и режут… Причём, мёртвого. А отчего умер, кстати?
– Как раз от сердца, но жена говорит, что сердце у него было всегда от головы. Просила посмотреть только голову. Так что отстань: голову открывать – морока! – и она отключила монитор, чем обрадовала меня, ибо стоило мне понять, что предстоит трепанация черепа, меня охватило волнение, испытываемое в детстве, когда мне разрешали разбирать испортившуюся игрушку…
К этому Мишель и приступила: левою рукой обхватила мою голову и потянула к своей подмышке, а правою подогнала под основание черепа брусок с выемкой. Присмотрелась к посадке головы, поправила её и, вытащив из кармана гребёнку, расчесала мне шевелюру в поперечный пробор – от одной подстриженной заушины до другой. Через мгновение вместо гребёнки она сжимала в руке скальпель, который вонзила мне в кожу за левым ухом и потянула по расчёсанной тропе.
Поначалу нож шёл гладко, но стоило ему миновать область мягких височных костей, он стал спотыкаться и сбиваться с пробора. Мишель вытаскивала скальпель из раны и отирала его о тряпку на поручне коляски: кроме волос и крови тряпка запестрела дольками искромсанной мясистой кожи.
Добравшись до правой заушины, Мишель поддела отороченную кромку кончиком скальпеля и толчками стала внедрять его между костью и мякотью. Скоро вся верхняя кромка надрезанной кожи бугрилась на черепе, как разбитая в кровь губа над десной.
С нижней Мишель справилась быстрее, отложила нож и принялась разминать кисти к следующему действию.
16. Меня охватила неиспытанная разновидность стыда
Пригнувшись, она загнала восемь тонких пальцев под верхнюю строчку надреза и прищемила её снаружи двумя большими – с просвечивающим сквозь резину кизиловым лаком на коготках. Убедившись в надёжности хватки, закусила губу, напрягла кисти и резко оттолкнула их от себя.
К моему изумлению, вся задняя половина шкуры на черепе, хотя и с глухим треском, отстала легко – как спадает чадра. Не дав мне опомниться, Мишель запустила пальцы под кромку другой половины отороченной мякоти и дёрнула её теперь вниз.
Меня охватила неиспытанная разновидность стыда. Всё лицо – лоб, брови, нос – скаталось у подбородка в бесформенный кляп и обнажило жёлтые влажные пятаки жира, испещрённые розовыми капиллярами и пронизанные – на уровне исчезнувших ноздрей – пучком чёрных волос. Не совладав с омерзением, я внушил себе, будто это не я. Тем более, что таким я себя и не знал.
Помогла Мишель: схватила с каталки моток туалетной бумаги и стала шустро обвивать мне ею череп, от лба к затылку. Первые несколько слоев жадно впитали в себя влагу и окрасились в оранжевый цвет, но потом, когда лента перестала промокать, – не понять было что же именно скрывается под бумажной толщей. Необёрнутой осталась только макушка – пролёт, на котором Мишель уже разрезала шкуру и расцарапала скальпелем желобок.
Сжимая теперь кочан моей разросшейся головы, она взяла с каталки короткую пилу и, отставив мизинец, изящно – словно скрипичным смычком – зачастила ею вдоль по желобку. Звук был высокий, как полёт зуйка, но саднящий, как зубная боль. Сдув с желобка пыль из костяных крошек, Мишель извлекла из груды инструментов на каталке металлический обруч и натянула мне на лобную кость. В центре венца торчал стальной винт с крылатой гайкой.
Разгадав назначение инструмента, я содрогнулся, а Мишель принялась гайку закручивать. С каждым оборотом обруч глубже въедался в бумажный кочан и прогибался на висках.
Вскоре Мишель пригнулась ко мне ниже, обхватила гайку всеми пятью пальцами и напрягла кисть сильнее. После двух дополнительных тугих оборотов гайка застопорилась, но потом вдруг – вместе с коротким скрежетом металла – раздался звонкий треск лопнувшей кости, и из расколовшейся по желобку макушки в подставленную ладонь выскочил гладкий комок ослепительной белизны.
Не разгибаясь, Мишель выхватила правой рукой из кармана ножницы и чиркнула ими сперва по двум сонным артериям под этим колобком, а потом стала возиться с двумя толстыми приводами, соединявшими его с туловищем. Приводы упрямились и выскальзывали из прикуса.
Напряжение разрядил писк Панасоника.
Не разгибаясь, Мишель дотянулась ножничным мыском до кнопки на аппарате.
– Ты? – выдохнул телефон.
– Стив! – вздохнула Мишель. – Слава Богу!
– Почему такой голос? – встревожился Стив. – Одна?
– Поза такая: с мозгом работаю… Ножницами…
– Ножиком надо!
– Знаю. Просто загадала: если удастся ножницами, – значит «да», а нет, – значит, «нет».
– Опять эти глупости! А что сейчас?
– «Да» – это позвонишь, «нет» – не позвонишь.
– Сказал – значит позвоню! – кашлянул Стив с достоинством. – Я тебе не Аскинази!
– Напоминаю ещё раз: сам женат! Уехала-таки твоя или нет?
– Звоню с вокзала! Еду домой и мариную шницель…
– Я не буду мяса: не могу после работы.
– Опять эти глупости!
– Я к тебе не за этим еду, – и стала сразу доброй и весёлой. – Я, кстати, была в «Саксе»: платье купила… Которое тебе тогда понравилось…
– Тебе больше идёт когда ты голая.
Мишель молчала.
– Я платье это сразу с тебя сниму, запомни! А потом положу тебя на ковёр. Не на тот, – жена его скатала, – а на другой, с оленями… Животом вниз, поняла? И начну дышать в затылок… А потом покрою маслом. Новое – миндаль с мускусом…
– О-о-ой! – застонала Мишель. – Нет, я не про это. Он опять почти уже – и выскочил!
– Выбрось, говорю, ножницы на фиг! – сорвался Стив. – Я говорю такие слова – а ты! Возьми нож!
Она схватила скальпель и полоснула им по последнему шнуру:
– Всё! Подожди секунду: отключу монитор и возьму трубку.
– Кто-нибудь пришёл? – всполошился Стив.
– Не в этом дело… Такая обстановка, а ты – эти слова…
Освободив правую руку от скальпеля, Мишель поднесла её к левой, и белый груз распределился теперь поровну на ладонях, которые она осторожно потянула на себя и развернулась к каталке.
В глубоком основании опустевшего черепа я разглядел тёмную лужицу крови, припудренную костяными крошками. После долгого шока я перенёс взгляд на извлечённый оттуда шарик, покоившийся уже в эмалированном тазике на каталке. Мишель теребила его пальцем с кизиловым наконечником маникюра и так же легонько пальцем другой руки поглаживала ствол телефонной трубки, через который, увлажнённые мускусно-миндалевым маслом, скользили и набивались в её ухо слова. В её крохотной ушной раковине все они уместиться не могли: тыркались там друг в друга и, извиваясь, проникали сквозь ушной канал в распалявшиеся недра женской плоти.
Когда они заполнили собой её всю, Мишель сперва перестала теребить шарик в тазике, а потом вовсе отняла от него руку и, отвернувшись, расстегнула на халате нижние пуговицы. Потом, судя по дыханию и изгибу туловища, запустила руку себе между ног и – не просто отодвинувшись, а отрёкшись от меня – вошла ею в свой организм…
Во всём помещении развернулась странная тишина.
17. Молитва без слов, без имени Бога и помышления о Нём
Поначалу я объяснил это близостью женского организма, нагнетавшего в своих недрах ту неостановимую энергию, в ожидании выплеска которой всё умолкает. Скоро, однако, мною овладела энергия самой тишины, наполненной не отсутствием звуков, а присутствием их небытия.
Она овладела мною так же просто, как пространством вокруг, – не вошла в меня, но стала во мне быть, и с поразительной чёткостью я начал вдруг осязать своё несуществование. Не уход из бытия, а мою наполненность небытием. Наступило состояние моего пронзительного отсутствия, похожее на ощущение онемевшей после сна руки, когда ею же и чувствуешь её же мучительную неспособность осязать.
Именно это я и чувствовал теперь – моё агрессивное отсутствие.
Ужас усугублялся тем, что отсутствовал я в столь же агрессивно отсутствовавшем.
Я ощущал себя прорехой в сплошной прорехе.
Всё отсутствовало, всё было ничто – и меня заносило в это состояние, как воздух в воздушную яму. Но в этой яме мне было очень уютно и привычно – как если бы через долгое время я вновь узнал что знал всегда: несуществование доступно ощущениям, как существование, а жизнь есть вспышка сознания, высвечивающая порожность мира, его наполненность вездесущим Богом, который, будучи началом и концом сущего, есть ничто.
Страх перед смертью и страх перед Богом – один страх, и это понимание опять же показалось мне знакомым. Бог есть то, от чего я всегда бежал в неосознанной панике, хотя мне и казалось, будто я, напротив, стремлюсь к Нему, и хотя невозможно избавиться от того, чего нет. Невозможно избавиться от того, что есть лишь зыбкая метафора той смутной догадки, согласно которой смерть есть мука несуществования, ужас отсутствия, а жизнь – нескончаемая агония страха перед болью небытия.
Из агонии выход один – в ничто, хотя, ослеплённые ужасом и отупевшие от него, мы в одиночку и в отчаянии восстаём против этого, как в одиночку и отчаянно сразился с Богом библейский Яков. Ничто – это ни отрицание, ни утверждение. Оно предшествует смыслу так же, как предшествует смыслу существование…
Меня охватила паника, но крик, приглушённый и протяжный, вырвался не из меня.
Выронив трубку, скорчившись и уткнувшись головой в подмышку, Мишель содрогалась, задыхалась и стонала, раздираемая энергией, которая выплеснула её хрупкую плоть в оргастическое отсутствие.
Когда эта сила отпустила её, Мишель сперва обмякла, а потом резко облокотилась на каталку. От толчка тазик грохнулся с неё на пол – и безвольный сгусток влажной мякоти скользнул по кафельному полу, вздрогнул и замер на границе чёрного и белого квадратиков…
Внизу, на полу, он уже перестал казаться мне моим мозгом. А может быть, не переставая быть мозгом, перестал казаться именно моим. Или, точнее, хотя он и не перестал быть чем был, мне уже не верилось, что когда-то прежде он способен был думать.
Мне вдруг вспомнилось слышанное раньше, но так никогда пока не понятое мной определение истинного блаженства: «Не-мозг не-думает о ни-о-чём…»
Теперь мне это показалось более понятным, но смутило другое. Возник вдруг такой вопрос: «Где же мне это вспомнилось?» Точнее: «Чем же именно я вспомнил о том, что „не-мозг не-думает о ни-о-чём“? Не этим ли самым мозгом, который валялся теперь на кафельном настиле?»
И вот тут, – от ужаса и возмущения, от понимания полной невозможности постижения главных вещей и горчайшей обиды на это понимание, – тут и поднялась вдруг во мне поднялась несдержимая страсть к прорыву через поглотившее меня ничто. Не к возвращению в жизнь, а к прорыву в неё сквозь ничто. Эта сила, однако, подобно внезапно же исчезнувшей из меня энергии небытия, не вошла в меня, а стала во мне быть – и с поразительной чёткостью я начал ощущать теперь обратное. Бытие.
Это чувство было одновременно знакомым и неузнаваемым – и неузнаваемое в нём стало наполнять меня таким непредставимым прежде переживанием бытия, когда это переживание есть праздник преодоления ничто. Нацедив меня до краёв, оно не находило во мне свободного места, набивалось в себя, сжижалось и с каждым мгновением распирало изнутри сильнее.
Теперь уже то был мой собственный крик – молитва без слов, без имени Бога и помышления о Нём. Вопль моей безотчетной устремлённости ко всему пребывающему…
18. Жизнь – это не необходимость, а роскошь
Кричал я недолго.
Дежурный врач, который выглядел, как еврей из непросохшего асбеста, сообщил мне, что медсестра, услышав мой крик, ворвалась в палату и растолкала меня, ибо ей показалось, будто мне снился кошмар. Потом сестра припала к моей груди, но отпрянула, поскольку, во-первых, не выносит запаха коньяка, а во-вторых, ей послышался всплеск упавшего в живот сердца.
Растерявшись при виде счастливой улыбки на лице умиравшего пациента, она вызвала врача.
Обнюхав меня, этот врач с фамилией Аскинази уставился неверящим взглядом в осциллограф в моём изголовье, но, освоившись с увиденным, изрёк, будто в книге по занимательной кардиологии описан аналогичный случай. В какой-то недоразвитой стране, где хирурги умели оперировать только на периферийных участках туловища, некий пациент умирал от инфаркта миокарда. Если бы экономика в той стране находилась на уровне мировых стандартов, пациенту сразу вспороли бы грудь. Вместо этого врачи дали ему пилюли, и больной начал быстро умирать. Запаниковав, он хлопнул флакон медицинского спирта – и, чудо, не только не умер, а стал бесцеремонно весёлым.
– Единственное чего не понять, – добавил Аскинази, – где ты тут раздобыл коньяк?
– Это не коньяк, – заверил я его, – а арманьяк.
– Арм-о-ньяк? – переспросил он. – Армянский коньяк?
– Дороже.
– Из Франции?
– Из фляжки.
Аскинази сперва не поверил мне, а потом рассмеялся:
– А я пью только дешёвое вино. Потому что дорогое дорого.
– Всё в жизни дорого, – рассудил я. – А сама жизнь ещё дороже. Потому что жизнь – я тут подумал – это не необходимость, а роскошь.
– У меня на роскошное денег нету.
– Это всегда так, – ещё раз рассудил я. – Если тратить только на необходимое, на настоящее не остаётся. Дело вкуса. Никто точно не знает что лучше – необходимое или настоящее. Известно только, что – если всегда гоняться за необходимым – помрёшь не познав настоящего…
– Я хочу того же! – растерянно ответил после паузы Аскинази к удивлению дежурной сестры, которая и без того уже ничего не понимала.
– У меня выпить не осталось, – признался я.
– Я не о выпить, я о твоём состоянии. Ты, оказывается, весёлый человек: жалко, если бы помер!
– Хотите анекдот? – согласился я.
– Про что? – согласился и он.
– Подходит, значит, мудачок к бармену, а тот спрашивает: Вам, мудачок, чего прикажете плеснуть – коньячку, виски, водочки, рома, джина, чего? – и кивает в сторону бутылок. А мудачок стал глазеть не на бутылки, а на людей. И кивает, значит, на самого бухого, который лыка не вяжет: я хочу того же!
– И всё-таки роскошное вредно, – попробовал Аскинази после паузы. – Особенно, если становится привычкой…
– Может быть, вы правы. А может, и нет. Существование тоже вредная привычка. Чем больше живёшь, тем выше шанс умереть…
Аскинази улыбнулся неуверенно, поскольку не разгадал моего к нему отношения – и опять был прав: отношения к нему у меня не было. Я был занят другим – переживанием неожиданной лёгкости и готовности жить дальше как бы дорого и вредно это не было.
– Почему ты кричал? – заключил он серьёзным голосом.
– Приснилось, что рожал, – сознался я. – Хотя в своё время отказался даже присутствовать при рождении дочери.
– А при зачатии присутствовал?
– В трезвом состоянии! – соврал я.
– Мог бы и выпить: особый случай! – разрешил он и умолк на пару минут, в течение которых, как мне почудилось, он размышлял.