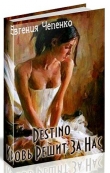Текст книги "Круговорот лжи"
Автор книги: Нина Бодэн (Боуден)
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Я вспомнил об этом, когда уже заговорил. Тут из камина вывалилось большое полено, вспыхнуло желтое пламя, тускло осветившее комнату, и эта случайная деталь в углу картины внезапно оказалась в центре внимания. Я наклонился за поленом, стукнул по нему, укладывая на место, увидел искры, полетевшие в черный дымоход, затем присел на корточки, уставился на горящие угли и начал объяснять, что Джордж – торговец картинами, мой агент и старый друг – мы вместе учились в художественном колледже. «Возможно, они с Генри даже знакомы», – пробормотал я. С одной стороны, это вполне могло быть; с другой – едва ли. Я просто не помнил! Беда заключалась в том, что я приближался к тому возрасту, когда сознание дает небольшую течь и люди начинают обнаруживать скрытый смысл в самых обычных фразах. Память подобна ситу. Что-то вроде этого…
Кажется, Джойс посмотрела на меня как-то странно. Как будто с подозрением. Или с опаской. Впрочем, возможно, ее удивило, что я сумел произнести несколько связных фраз без ее помощи. На всякий случай я решил сменить тему и сказал:
– Еще один пример. Браки совершаются на небесах. Я впервые понял, что это значит, только тогда, когда Элен ушла от меня к своему дантисту. Истинный смысл этой затасканной поговорки заключается в том, что, похоже, на небесах тоже халтурят!
После этого бояться было нечего.
Ох, как это ужасно,сказала Джойс; почему я ничего не сказал раньше, ей ужасно жаль.Она высказала столько сожалений, что я почувствовал угрызения совести. Потом она встала с дивана, пошла ко мне, споткнулась о каминный коврик, упала – частично на кресло, в которое я сел, закончив возиться с камином, а частично ко мне на колени – и крепко обняла меня, как будто я был ребенком, нуждавшимся в утешении. Последовало несколько не то материнских, не то сестринских поцелуев в глаза и губы. У Джойс были колючие волоски на верхней губе, и я невольно задумался, стрижет она их или сбривает. Эта деталь в сочетании с некоторой неуклюжестью делала ее трогательно беззащитной. Я начал целовать ее в ответ, и вскоре наши поцелуи стали куда менее невинными. Джойс с готовностью перешла в эту фазу и охотно прижалась ко мне, издавая вздохи и негромкие стоны; когда она наконец пробормотала «ох, нет, мы не должны», мне стало ясно, что если бы я ненароком рассказал ей правду о Генри, она не расстроилась бы даже ради проформы, а просто продолжала бы делать то, к чему так явно стремилась. О том, чтобы отвергнуть ее, не могло быть и речи. Во-первых, это было бы нечестно и неприлично; во-вторых, неминуемо привело бы к слезам и неприятному разговору. Но продолжать в том же духе тоже было нелегко. В самом деле, где? На коврике? На диване? Тем более, что где-то в доме находились мой сын, ее сын и две дочери; кто-то из них мог войти сюда в любую секунду. Меня удивило, что она, судя по всему, совершенно не думала о такой возможности. И это Джойс, такая внимательная, заботливая мать! Я поцеловал ее нежно, но решительно, слегка отстранился, посмотрел в ее влажное, пылающее, покрытое пушком лицо и сказал:
– Да, ты права. Благослови тебя Бог. Мне очень жаль.
Джойс довольно изящно сползла на пол, уютно устроилась у моих ног и посмотрела на меня снизу вверх. Я улыбнулся. Она улыбнулась в ответ, смущенно и слегка неуверенно. Я промолвил:
– Я вспомнил о детях.
Она воскликнула:
– О Боже, да! Не понимаю, что… ладно, неважно. Извини, мне не следовало бросатьсяна тебя. Это было просто… Я хочу сказать, что я понятия не имела об Элен. Просто, ну… ты казался таким спокойным. Вот мне и пришло в голову, что вы решили это оба, теперь все так делают…
– В каком-то смысле так оно и было.
– Может быть, расскажешь?
– Да рассказывать особенно не о чем.
Впрочем, это не значило, что мне хотелось промолчать. Я рассказал, что произошло, и добавил:
– Она ушла, но не к нему.В конечном счете, это моя вина. Я был слишком глуп.
Джойс сказала:
– Да. Теперь я начинаю понимать, что ты чувствовал.
Она немного помолчала, глядя в огонь, а потом произнесла:
– Знаешь, как ни странно, во всем виноват Генри. – Такого вывода я не ожидал даже от Джойс. Видимо, она поняла это, потому что быстро добавила: – Я имею в виду вот что: Элен никогда не стала бы дантистом, если бы Генри не маялся так зубами. Лет в тринадцать он только и делал, что лечил их. К тому же он был ужасным трусом – он сам признает это, так что я могу рассказать тебе – и когда зубы вылечили, возненавиделвсе, что связано с профессией дантиста. Он натерпелся столько страха и боли, что по возвращении от врача издевался над куклами Элен, суя в их рты всякие острые предметы. Однажды Элен застала его и спросила, что он делает. Бедняжка, он ничего не мог придумать и сказал, что играет в зубного врача. Он, мол, хочет стать дантистом, когда вырастет. Тогда Элен заявила, что тоже хочет стать дантистом, но Генри возразил, что из этого ничего не выйдет, потому что зубными врачами могут быть только мальчики. Он всего лишь поддразнивал ее, пытаясь скрыть то, что не давало ему покоя, но Элен просто взбесилась.Генри рассказывал, что она набросилась на него, пинала ногами, ударила кулаком в лицо, прямо в многострадальную челюсть – именно поэтому он все так хорошо и запомнил. Она вопила, что покажетему, что отучитего говорить гадости о девочках. Генри тогда было тринадцать, ей одиннадцать. Именно в этом возрасте у людей возникают «пунктики»; кроме того, Элен всегда была чрезвычайно упряма; Генри говорит, что если она чего-то хочет, ее ничто не остановит. Думаю, он всегда немного побаивался ее. Решительные женщины пугают Генри, хотя, конечно, он обожает сестру… Узнав, что Элен ушла к кому-то, он наверняка будет потрясен. Он ведь такой преданный…
Описание Генри как человека нежного и совестливого позабавило меня. Я заметил, что в таком случае лучше ничего ему не рассказывать, не только ради него и Элен, но и ради меня; меньше всего на свете я хотел бы, чтобы меня считали невинной жертвой. Джойс понимающе кивнула и сказала, что это очень правильно,очень благородно,что она уважает мои чувства и ничего не сообщит Генри, хотя они всегда рассказывают друг другу все, поскольку это самое главное условие счастливого брака…
Мое безропотное участие в этой печальной комедии невольно оказало Генри большую услугу. «Святая невинность», сентиментальная картинка времен короля Эдуарда, думал я, следя за раскрасневшимся серьезным лицом Джойс, озаренным пламенем камина. Но когда я оказался в постели, равнодушно размышляя, придет ли Джойс ко мне в спальню (сначала я одинаково надеялся на то и на другое, но в конце концов твердо решил, что будет лучше, если она не придет; причем руководствовался вовсе не соображениями морали, а стремлением к комфорту, физическому и эмоциональному), передо мной возникла совсем другая картина. Теперь я смотрел на происшедшее словно сквозь лупу Клода, которая уменьшает изображение, высвечивая детали таким образом, что узор становится заметнее; в данном случае она прояснила сказанное и показала стоявший за ними страх; Джойс говорила без остановки, словно быстро бежала по влажной болотистой земле в смертельном страхе остановиться, утонуть в трясине, ей хотелось остаться в неведении…
Однако наутро она улыбалась, была спокойна и довольна жизнью. Я поцеловал ее покрытые пушком щеки. Она сказала:
– Приезжайте с Тимом в любое время, хоть вместе, хоть порознь. Лучше в середине недели; Генри так устает, что предпочитает весь уик-энд валяться в постели. Впрочем, даже если вы приедете на выходные, это ему не помешает, потому что развлекатьвас не обязательно, вы же родня, а его, бедняжку, ужасно утомляет то, что он называет парадами…
В машине по дороге домой Тим сказал:
– Она сама не своя, правда, папа? Интересно, что ее так расстроило?
Я помню эту реплику, но не выражение его лица. Он сидел сзади, как всегда во время долгих поездок, потому что тогда я не возмущался, что он курит. Если не считать сценки с Полли в доме Неда, передо мной встает только один отчетливый образ Тима того периода: на кухне с Клио; оба сидят за столом перед кружками с растворимым кофе и смотрят на меня слегка виновато, потому что после завтрака (или ланча) прошло довольно много времени, а со стола еще не убрано; повсюду грязные тарелки и кастрюли. А я вхожу (неожиданно вернулся?), раздраженно смотрю на все эти липкие коричневые круги от кружек и с чувством, близким к отчаянию, думаю, что надежды Джорджа не оправдались – вместе с Клио я приобрел не освобождение от домашних хлопот, а дополнительные обязанности. Троих детей вместо одного.
Впрочем, поначалу я с удовольствием заменял Клио отца. Разделявшие нас двадцать лет дали мне возможность снова почувствовать себя взрослым и позволили забыть об унизительном фиаско с Элен.
Когда Клио пришла ко мне, я промолвил:
– Конечно, Джордж рассказал тебе, что случилось, и объяснил, почему мне нужна помощница. От меня ушла жена. История невеселая, но сейчас все уже позади, мы остались друзьями, так что пусть это тебя не заботит. – Я улыбнулся. Мудрый. Грустный. Добрый дядюшка.
Клио вспыхнула. На первый взгляд она казалась неуклюжим, то и дело мучительно краснеющим подростком в очках. Стекла их были слегка подсвечены голубым. На ней был пушистый розовый свитер, выцветшие джинсы и алые носки. Как ни странно, ее сын Барнаби, серьезно наблюдавший за мной, казался старше собственной матери. Во всяком случае, спокойнее. Я спросил:
– Барнаби, как ты смотришь на то, чтобы переехать ко мне?
Мальчик осторожно ответил хрипловатым, как у матери, голосом:
– Можно. А там не знаю.
– С ним не будет хлопот, – заверил меня Джордж. – Судя по всему, он славный малыш. Очень разумный, очень спокойный. Должно быть, произошел какой-то конфликт, и дед с бабкой выставили их с матерью из дома. Конечно, в наше время этот поступок выглядит довольно странно. Думаю, они сделали это потому, что просто поссорились с дочерью, а вовсе не из моральных соображений: Клио очень хорошо училась в школе, и родители гордились ею. Но, какой бы ни была причина, они заставили девочку страдать. Илайна говорит, что после рождения ребенка папаша Клио перестал разговаривать с дочерью и даже не садился с ней за один стол! Не понимаю, как она это терпела и почему не ушла раньше. Ты – ее единственный шанс. Упаси Бог, я не предлагаю тебе принять ее из милости, но если ты возьмешься за картины Оруэлла, то будешь занят по уши и тебе все равно придется нанять кого-то присматривать за домом. А Клио будет тебе благодарна. Не думаю, что она хорошая стряпуха, но чем-нибудь накормит Тима и чистоту в доме поддержать сумеет. Когда она помогала мне в галерее, то делала это с удовольствием и справлялась вполне сносно. Илайна ее любит; Клио была ее лучшей подругой в школе при монастыре, но была вынуждена уйти оттуда, поскольку беременные девушки в таком заведении – персоны нон грата. Но девочки продолжали дружить. Честно говоря, я предлагал Илайне, чтобы Клио переехала к нам. Я часто уезжаю, и им вдвоем было бы веселее. Но Илайна отказалась. Сказала, что Клио может подумать, что ее решили облагодетельствовать.
На самом деле присутствие Клио просто помешало бы Илайне принимать у себя брата Элен. Возможно, Джордж знал об этом, но предпочитал закрывать глаза на происходившее. Пока у его ненаглядной дочки была связь с женатым мужчиной средних лет, он чувствовал себя в безопасности: Илайна от него не ушла бы. Кроме того, Джордж не хотел ссориться с Генри, который (как не преминула напомнить мне тетя Мод) работал в отделе по выдаче экспортных лицензий Министерства торговли, а Джордж постоянно работал с торговцами картинами из Нью-Йорка. У меня не было причин подозревать их обоих в чем-то противозаконном, но я знал, что Джордж никогда не упустит своего. Взять, например, его отношение к Клио. Несомненно, Джордж жалел девушку, но его куда больше заботило, чтобы я имел возможность полноценно работать. Десять процентов моего гонорара за копирование картин Неда плюс еще больший процент от продажи оригиналов составляли немалую сумму. На самом деле, старине Джорджу повезло: если бы не своевременное «вмешательство» Мод, Нед мог бы обратиться к «Кристи» или «Сотби».
Я сказал Клио:
– Это идея Джорджа, не правда ли? Ты уже искала работу?
Неужели у нее дома действительно было так скверно, как говорил Джордж? Это казалось мне довольно странным. Конечно, в семнадцать лет ребенок большая обуза. Но толковая девушка всегда сможет устроиться, не правда ли? Хотя бы на такую не слишком хорошую работу, как у меня. К тому же закон гласит: если отец выгнал дочь, то местный совет обязан подыскать ей жилье.
Она сказала:
– Ребенок – это тоже работа, не правда ли? Впрочем, я знаю, мужчины так не думают. Честно говоря, я поджидала, пока Барнаби пойдет в школу. Ему исполнится пять в январе. А вы считаете, что я должна была оставить его дома с моей матерью?
Клио смотрела на меня мрачно и неодобрительно, как будто я предложил что-то непристойное. Она мне не подойдет, решил я и начал было искать подходящий повод для отказа («я ни в коем случае не осуждаю ее, наоборот, уважаю за позицию, столь редкую в наши дни, однако в данном случае, наверно, следовало бы подождать, пока она не решит, чего хочет»), но мне помешал Барнаби. Он издал странный негромкий звук, похожий на испуганный вздох, и прижался к матери. Тут Клио сказала:
– Ох, Барнаби, не будь таким трусишкой. Я ведь сказала: если ты будешь хорошим мальчиком, я не оставлю тебя с бабушкой.
В этой фразе, успокаивающей и угрожающей одновременно, был неприятный привкус. Я видел, что ребенок дрожит всем телом. Клио пояснила:
– Мои родители не любят Барнаби. Они не могут смириться с тем, что их внук незаконнорожденный.
Она говорила с забавной суровостью, как социальный работник, составляющий отчет, но в то же время и не без достоинства. Пользовалась канцелярскими штампами, чтобы выложить карты на стол.
Я промолвил:
– Джордж рассказал мне твою историю. Должно быть, тебе пришлось нелегко.
Она пожала узкими плечами.
– У нас не было выхода. Барнаби может быть хорошим мальчиком, когда хочет. Барнаби, если мы будем жить здесь, ты будешь хорошо себя вести, правда?
Клио слегка встряхнула его. В ее шутливом тоне снова прозвучал оттенок угрозы. Ребенок кивнул. Он все еще прижимался к матери, держась за ее ногу, и испуганно смотрел на меня. Его темные глаза немного косили, рот был слегка приоткрыт. Я сказал:
– Конечно, будет. По-моему, он и так очень хороший мальчик.
Едва я произнес эти слова, как понял, что мосты сожжены. Барнаби едва заметно улыбнулся, приподняв уголок рта. Я улыбнулся в ответ – надеюсь, подбадривающе. Его улыбка стала широкой, солнечной и уверенной. Сосредоточенный взгляд, из-за которого он казался старше, чем его юная мать, исчез. Барнаби нельзя было назвать красивым ребенком (у него был высокий, бугристый, костлявый лоб, поэтому остальные черты лица казались слишком мелкими), но открытая, счастливая, доверительная улыбка удивительно красила его.
Я был побежден. Неужели в ребенка тоже можно влюбиться с первого взгляда? Может, это произошло потому, что его так изменили несколько моих банальных добрых слов? Или сыграло свою роль воспоминание о Тиме в этом возрасте; внезапная сладкая болезненная тоска по тому времени, когда он был так мал, что я мог взять его на руки и защитить? Импульс – вещь непростая. В то мгновение я ощущал лишь непреодолимое желание защитить и утешить этого улыбавшегося маленького мальчика со взглядом взрослого человека.
Мне вовсе не хотелось брать на службу его мать. Но жизненно необходимо было вернуться к работе. Если бы я отослал Клио, то пришлось бы объясняться с Джорджем, искать через агентство кого-то другого, звонить по телефону, писать, проводить собеседования – в общем, браться за то, что доставляло мне еще меньше удовольствия, чем возня с накапливавшимся грязным бельем, немытыми тарелками, непарными носками, прокисшим молоком и мятыми старыми газетами, заполнявшими все пять этажей моего стандартного дома с неумолимостью закона природы; казалось, его затопляет лава, извергнутая каким-то далеким вулканом. Последней каплей стала сломавшаяся защелка уплотнителя мусорного бака. Ящик выскочил наружу, и его содержимое – яичная скорлупа, банановая кожура, объедки, рыбьи и куриные кости, заплесневевший хлеб, гнилые овощи – начало разлагаться и вонять, как некое попавшее в ловушку и издохшее там допотопное чудовище.
Клио позвонила в фирму, которая производила уплотнитель, и когда ей сказали (как и мне), что эта модель снята с производства и не подлежит ремонту, предложила им приехать и заменить агрегат, причем произнесла это уверенно и безапелляционно, пригрозив звонить дважды в день, пока это не будет сделано, а заодно упомянула об угрозе здоровью и посулила компании плохую рекламу. Не прошло и часа, как прибыл фургон, трое угрюмых кряжистых мужчин извлекли смердящее чудовище и увезли его прочь. Сказать, что с тех пор я стал рабом Клио, было бы сильным преувеличением, но моей благодарности действительно не было границ.
Я уже говорил, что мне было «жизненно необходимо» вернуться к работе. Однако трудно объяснить причину этой необходимости: она не имела никакого отношения к наличию таланта, а также к важности достижения конечной цели. Скорее, это была привычка и стремление к некоей гармонии; хотелось все смести одним махом, а не возиться со всякой дрянью вроде неисправного уплотнителя мусорного бака. За деньги можно купить время так же, как и массу других хороших вещей. Думаю, когда я звонил Элен и говорил, что получил большой заказ, у меня была абсурдная, ребяческая надежда купить иее, заставить вернуться ко мне с помощью денег. Причем дело заключалось не столько в умопомрачительности суммы, которую я должен был заработать (часть авансом, а остальное после продажи картин), сколько в значительности,которую этот заказ должен был придать мне.Конечно, значительности абсолютно мнимой (как я тут же сказал ей), основанной на том чудовищном отношении к искусству, когда картины считают не артефактом, предназначенным радовать глаз, а надежным вложением денег, то есть любой пенсионный фонд может купить картину и запереть в сейфе банка. Конечно, по большей части мое возмущение была искренним. Элен слушала. Ахала по поводу сумм, которые Джордж собирался получить в Нью-Йорке. Хихикала и спрашивала:
– А тебе не страшно?
Что ж, страх в таких ситуациях присутствует всегда. Ты можешь не думать о нем, но это полезный страх. Он мобилизует.
Мод говорит, что вопросы, которые ей задают во время лекций, почти всегда носят практический характер. Как она пишет – ручкой, карандашом, на машинке или на компьютере? Сколько часов в день, сколько слов в час, сколько времени это занимает вообще? Люди никогда не спрашивают, почему человек пишет и чего он хочет добиться, словно инстинктивно понимают, что на этот ключевой, мистический вопрос ответить невозможно. Элен интересовало, с какой картины я хочу начать. Она спросила:
– Ты уже представляешь себе, как это сделать?
Как и Мод, я умею отвечать на практические вопросы. Буду грунтовать холсты с помощью казеинового клея. Работать свинцовыми белилами, слоновой костью, неаполитанской желтой, ализариновой красной, жженой умброй, жженой сиеной, берлинской лазурью; круглыми кисточками номер четыре, пять, шесть и десять из свиной щетины, круглой колонковой кисточкой номер шесть, а для смешивания – средними и большими плоскими кистями из щетины и полудюймовой плоской кистью из конского волоса. Буду пользоваться палитрой. Мастихином. Пальцами…
Глупее не придумаешь.
Чем дольше ты делаешь вещь, тем хуже знаешь, как ты ее делаешь. Сначала это кажется тебе невозможным; потом ты начинаешь понимать, что если немного повезет, ты сумеешь справиться и добиться почти того, что задумал; этого бывает достаточно для начала, и если тебе повезет еще чуть-чуть, ты начинаешь двигаться в правильном направлении, перестаешь размышлять и просто делаешь дело. Это продвижение вовсе не равномерно: долгие пешие переходы сменяются стремительными короткими бросками, которые обычно совершаются неожиданно. Говоря с Элен, я внезапно вспомнил, что у нее был старый кружевной воротник, купленный на ярмарке антиквариата, в киоске, торговавшем одеждой. Кружево было желтоватым, как на картине, и с такими же мелкими шишечками.
Это помнили мои глаза и пальцы.
Я ответил Элен:
– Да, кажется, начинаю представлять. Но, конечно, всему этому еще нужно будет придать форму.
– Вот и хорошо, – сказала она. – Продолжай в том же духе.
Думаю, что это резкое распоряжение причинило мне боль. Неужели она действительно считала, что «продолжать в том же духе» легко? О, Элен всегда была очень деловитой, очень практичной. В отличие от Клио, отношение которой к моей работе напоминало что-то вроде священного трепета. Когда Клио говорила о ней, то понижала голос. Она считала, что художник это нечто вроде волшебника. Я бы попытался разуверить ее, но такое отношение давало мне некоторые преимущества. Уборщица из нее была неважная; приступы бешеной активности сменялись долгими периодами мрачной апатии, но когда я работал, она яростно оберегала мое уединение, отвечала на телефонные звонки, ходила открывать дверь, общалась с почтальонами, молочниками, коммивояжерами, продюсерами благотворительных прогулок с детскими группами, «свидетелями Иеговы» и людьми, которые приходили считывать показания счетчиков электричества и газа. Конечно, Элен, которой вечно не было дома, не могла избавить меня от всего этого. Думала ли она, когда сверлила чей-то зуб, что я тоже нуждаюсь в защите? Нет, никогда.
Мне начали приходить в голову другие невыгодные сравнения. У Клио было несколько пар джинсов, несколько свитеров и одна шерстяная юбка, которую она ради разнообразия иногда надевала во время ужина; этот жалкий гардероб беспризорницы наводил меня на мысли о «творческом удовлетворении», которое получала Элен от дорогой одежды, как о напрасной и утомительной трате времени, помешательстве на своем «внешнем виде» и бегстве от «реальности». О, я осыпал жену целыми горами лицемерных обвинений! Тщеславная, самовлюбленная, коварная, холодная, бессердечная Элен! Когда, например, она в последний раз сидела вечером у моих ног и видела во мне личность,а не скучного старого мужа? Когда в последний раз интересовалась моими чувствами, взглядами на политику, искусство или просто мнением о погоде? А вот когда я рассказывал Клио о своем отце, которого не знал, и его приключениях в области виноторговли, она сидела на коврике рядом с моим креслом, утопая в шерстяной юбке, как в зеленом пруду, сжимала рукой свою крепкую красивую лодыжку, внимательно слушала и серьезно глядела на меня снизу вверх. Она говорила:
– Я думаю, это ужасно. То есть, сейчас это превратилось в забавную историю, но в детстве вы наверняка очень переживали. Мне придется быть очень осторожной с Барнаби. Наверно, знать о своем отце только плохое куда страшнее, чем не знать ничего. Это должно было полностью выбить вас из колеи. Просто удивительно, что вы сумели вырасти таким хорошим, мудрым и уравновешенным человеком.
Это сочувствие, хотя и незаслуженное, было мне приятно. Элен никогда не интересовало мое трудное детство. Конечно, ничего другого я от нее и не ждал, но искренне любящая жена наверняка задумалась бы над этим, усомнилась бы в правдивости моих слов о том, что я был вполне счастлив с матерью и не переживал из-за отсутствия отца. Впрочем, теперь, когда я думаю об этом, мне приходит в голову, что сочувствие Клио вовсе не было незаслуженным; возможно, я действительно всю жизнь мужественно скрывал от людей глубокую и безнадежную скорбь. Это было маловероятно, но не невозможно, потому что археология сознания – вещь не менее таинственная, чем просто археология – кто знает, что таится в древнем городе, погребенном под землей? Куда более вероятно, что Клио почувствовала мою печаль, но была слишком юной, чтобы усомниться в моих словах о дружеском расставании с Элен, и объяснила эту печаль причиной, которая ей, бедной девочке, была понятнее, чем кому бы то ни было. (Надо сказать, я не отваживался расспрашивать Клио об отце Барнаби и о ее собственных странных родителях. Я боялся, что стоит затронуть эту тему, как на меня выльется поток детских жалоб и самооправданий. Но даже если источником ее сочувствия был банальный солипсизм [7]7
Крайний эгоизм, эгоцентризм.
[Закрыть], я все равно был ей признателен. Судя по всему, Клио была очень чувствительной девочкой, доброй и отзывчивой; ее угрюмая подозрительность очень быстро исчезла. Она постоянно стремилась сделать мне что-нибудь приятное, но в этом не было оттенка подобострастия. Элен никогда не называла меня мудрым и уравновешенным.)
Надеюсь, это объясняет, что со мной случилось. Я пытался быть честным и объективным по отношению к себе. Все художники и представители творческих профессий вообще – живописцы, писатели, плотники, строители, каменщики – живут в двух параллельных мирах. Один из них – это работа; второй большинство назвало бы реальной жизнью. На самом деле реально и то и другое, но хотя они существуют бок о бок, в одном пространстве и времени, каждый мир изолирован от другого. Находясь в мире своей работы, я был занят и счастлив. В другом мире я был одержим демонами, мучился, разрывался на части, испытывал обиду, горечь и гнев. Но нет слова, которое могло бы точно описать чувство, которое овладевало моей душой и телом, когда я думал об измене Элен. Это была болезнь, сумасшествие, лихорадка, сжигавшая мой мозг, мешавшая мне вести себя разумно, заботиться о других людях и интересоваться их делами.
Если я скажу, что влюбился в отместку Элен, это прозвучит слишком напыщенно, но я вынужден признаться в этом, поскольку иначе нельзя объяснить стыд, неизменно охватывающий меня, когда я думаю о Клио. Я сознательно позволил себе увлечься девушкой на двадцать с лишним лет моложе меня, чтобы отомстить своей жене. Я воспользовался Клио не как «сексуальным объектом» (ходячее словечко, которое она могла бы применить как ругательство), а как оружием в войне, в которой она не участвовала и о которой не догадывалась. И это отвратительно.
Конечно, тогда я не отдавал себе в этом отчета. Насколько я помню, моя возраставшая привязанность к Клио была отчасти сексуальным влечением, отчасти отцовским чувством, отчасти благодарностью за то, что она не представляла для меня угрозы. В отличие от мира моей работы, который внезапно стал казаться мне населенным веселыми, довольными, здоровыми и счастливыми мужчинами, имеющими верных и любящих жен, в реальной жизни я чувствовал себя таким жалким неудачником, презренным и отверженным, что было вполне естественно искать утешения у того, кто потерпел в этом мире еще большее фиаско, чем я сам. Видимо, для Элен я был недостаточно хорош. Видимо, я не заслуживал ничего лучшего, чем Клио, у которой не было ни денег, ни профессии, ни дома – ничего, кроме равнодушных к ней родителей и незаконнорожденного сына. Она не бросит меня. По крайней мере, из чувства благодарности. Если же выражаться более высоким слогом, то я смогу кое-что для нее сделать. Бедняжка настрадалась; немного облегчить ей жизнь будет нетрудно. Это даже доставит мне удовольствие. Мне всегда хотелось иметь дочь. Я испытывал отвращение (или думал, что испытываю его) при мысли о связях знакомых мне пожилых мужчин с молодыми женщинами и говорил себе, что в отношениях Генри и Илайны есть нечто неэстетичное (что общего у седого, лысого, тучного мужчины со свежей и красивой девушкой?), но отношения Джорджа и Илайны были совсем другими. Я стремился к тому, чтобы наши с Клио были именно такими.
Обманывал ли я себя? Могу сказать только одно: у меня не было намерения заманить ее в постель. Конечно, это не значит, что я вообще не думал ни о чем подобном (так, я отчетливо помню свою мысль о том, что присутствие в доме ее и моего сына является надежной гарантией от моих поползновений), не испытывал вполне нормальных сладострастных ощущений или не питал сексуальных фантазий, когда она невзначай касалась меня на кухне, проходя мимо, или появлялась на пороге ванной, разрумянившаяся, прикрытая лишь коротким полотенцем. Но ничего другогоне было. Руками не трогать! Только смотреть! Я оправдывался тем, что смотрю на нее глазами художника. Увлечение бегом (которое я сначала считал «невинным хобби») сделало тело Клио необычайно интересным: ее бедра были полнее и шире узкого таза; сильные мускулистые ноги с продолговатыми голубыми венами (начинавшими сказываться признаками возраста) венчало плоскогрудое, почти детское тело. Я думал, что смог бы написать ее обнаженной: полудевочку-полуженщину. Или изобразить в светлых джинсах и кроссовках на фоне далекого лондонского пейзажа, ядовитой зелени и пасмурного неба.
Фоном парадного портрета леди в кружевном воротнике служил эффектный сельский пейзаж – множество темной листвы и молния, раскалывающая грозовое небо. Там было несколько овец, мальчик-пастух в рабочей блузе и величественные руины в центре, слегка напоминавшие развалины Свофэмского аббатства. Картина слегка потемнела от времени, но поскольку она была написана так, что в каждом последующем слое использовалось большее количество масла, трещин почти не было. Холст был слегка протерт умброй; зрачки, волосы и листву покрывал тончайший слой прозрачного коричневого; свет на груди и шее был написан пастозно и в холодных тонах, а небо – сильными мазками с нажимом. Все было написано очень просто. Драпировки и кружева, хорошо различимые только издали, переданы штрихами и точками, а это труднее скопировать сразу. На передачу легкости и естественности уходит много времени. Я мог бы сделать это, немного потренировавшись, но то, что в ином случае заняло бы день-другой, потребует от меня нескольких недель. К тому же пальцы сыграли со мной злую шутку: суставы распухли и превратились в болезненные красные шишки. Я иногда испытывал нечто подобное зимой, а сейчас дело усугублял царивший в доме сибирский холод. Про себя я начал называть особняк Оруэллов Гулагом. Все три ночи, что я провел там, я не снимал перчаток даже в постели.
Тем не менее мой артрит усилился. К счастью, пока что я только фотографировал, определял размеры, прикидывал и согласовывал объем работы, насколько это давала мне сделать жуткая Вдова, облаченная в лыжный костюм. Она сновала по галерее, не сводя с меня глаз-бусинок, и следила за тем, чтобы я не трогал холст своими мужицкими лапами или грубыми инструментами. При этом она делала вид, что всего лишь хочет напомнить мне о системе сигнализации, подключенной к каждой картине («Одно прикосновение, и в ближайшем полицейском участке завоет сирена!»), и все же ухитрялась дать понять, что до тех пор, пока не будет доказана моя невиновность, она будет считать меня преступником – либо безмозглым вандалом, либо наводчиком, работающим на международную банду похитителей картин. Я попытался отомстить ей, неопределенно намекнув на то, что не слишком уверен в происхождении одной картины и что даже если это подлинник, то он испорчен отвратительной викторианской «реставрацией» и многочисленными подновлениями, которые могут существенно снизить его стоимость. Однако это была лишь слабая попытка, окончившаяся полным провалом. Вдова окинула меня мрачным, проницательным взглядом и сказала то, во что я не поверил бы, если бы не слышал собственными ушами: