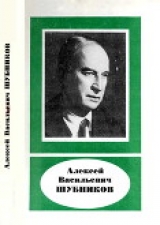
Текст книги "Алексей Васильевич Шубников (1887—1970)"
Автор книги: Николай Белов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Один из этих дней начался с того, что А. В. Шубников повесил на двери своего кабинета надпись: «Входа нет». Дверь в кабинет профессора никогда не запиралась, и любой из нас имел право войти туда без спроса. Но если на дверь вешалась аккуратно написанная черной тушью вывеска: «Входа нет», тогда никакая причина не могла бы заставить кого-либо нарушить запрет. «Входа нет» означало, что ставится опыт, требующий затемнения, проявляются фотографии или же профессор хочет сосредоточиться в тишине. На этот раз входа не было с раннего утра до середины дня, а около полудня А. В. Шубников громко и весело стал созывать всех. «За чаем, – объявил он, – я расскажу вам, что происходит с кварцем».
Полуденный чай входил в традиции лаборатории. В середине дня все собирались за общим столом. Здесь обсуждались события дня, сообщались новости, здесь слышали мы рассказы А. В. Шубникова, блестящие импровизации Г. Г. Леммлейна, позже увлекательные повествования Б. В. Витовского. За чаем Алексей Васильевич часто обращался к воспоминаниям. Это здесь слышали мы его рассказы об организации лаборатории в Екатеринбурге и в Ленинграде, о его детстве и юности, о недавней командировке в Германию. Очень хорошо помню, как, рассказывая о нравах немецких буршей, он сказал: «Я даже не сразу разобрался, почему мне было так противно, а потом понял – мне отвратительно любое проявление национализма, в какой бы стране оно мне ни встретилось».
Но вернусь к полуденному чаю того дня, когда А. В. Шубников разгадал суть процессов механического двойникования кварца. Мне кажется, что это было ранней весной 1933—1934 гг. На этот раз перед чаем он прочел краткую лекцию, объяснив нам, как образуются механические двойники. На доске, висевшей в его кабинете, он заранее нарисовал с присущим ему мастерством структуру кварца до и после двойникования – рисунок, который теперь воспроизводится в учебниках [350, с. 356].
Замечу, к слову, что слушателей лекций А. В. Шубникова всегда поражало то, как великолепно чертил он на доске. Одним взмахом руки рисовал он идеальную окружность. Казалось, что это врожденный талант. Но однажды за чаем в лаборатории он рассказал, что перед тем, как впервые читать лекции в Екатеринбурге, он два вечера подряд по нескольку часов тренировался у доски, чтобы научиться рисовать окружность. Чертежи и рисунки к своим статьям он всегда делал сам. Того же требовал и от нас. Вспоминается, как вычерчивал он схему образования поверхностей равных разностей хода в оптически одноосных и двухосных кристаллах. Схема представляет собой множество пересекающихся эллипсов и кругов, от которых рябит в глазах. Алексей Васильевич несколько раз приступал к этому чертежу, но сбивался из-за ряби. Тогда он установил доску с начатым чертежом у себя в кабинете. Ежедневно утром, едва войдя в лабораторию, подходил к чертежной доске и проводил только три окружности или три эллипса. Так, в течение многих дней постепенно были начерчены нужные схемы [231, рис. 83 и 86].
Зимой 1930—1931 г. А. В. Шубников увлекался простым методом наглядной демонстрации симметрии кристалла: естественно ограненный кристаллик помещался в центре сферической колбы, стенки которой играли роль конденсатора для света, направленного на кристалл. Колбу с кристаллом можно было наклонять, поворачивать, и свет, преломленный гранями кристалла, попадая на экран или фотопластинку, давал сходные с лауэграммами красивые симметричные картины. В статье [63, с. 112] воспроизведена фотография той простейшей установки, которая стояла тогда на столе в кабинете А. В. Шубникова. Метод, к сожалению, не стал широко распространенным, но автор его вернулся к этой идее и развил ее совместно с В. Ф. Парвовым в последнем своем докладе на Федоровской сессии 1969 г., напечатанном уже посмертно [346].
В 1931 или 1932 гг. А. В. Шубников был приглашен консультантом в Физико-технический институт АН СССР. Сначала он проводил в ФТИ один день в неделю. Возвращался оттуда всегда с рассказами о новостях литературы, о новых работах физиков.
Контакт с физиками, в частности с академиком А. Ф. Иоффе, становился все более тесным. Тогда же А. В. Шубников начал добиваться перевода Кристаллографической лаборатории из Отделения геолого-географических наук АН СССР в Отделение физико-математических наук. Нам, молодежи, это казалось лишними хлопотами. Помню, как однажды Алексей Васильевич подробно разъяснял нам причину перевода в связи с изменением содержания науки о кристаллах, с развитием физики кристаллов и ее связи с промышленностью.
Постепенно контакт с ФТИ становился двусторонним – физики стали чаще появляться в лаборатории А. В. Шубникова. Весной 1933 или 1934 г. большая группа физиков приезжала в лабораторию еженедельно, чтобы слушать лекции А. В. Шубникова. Среди них были А. В. Степанов, А. П. Комар, Н. В. Бриллиантов, Ю. С. Терминасов, М. В. Якутович и другие ученики А. Ф. Иоффе. Лекции всегда сопровождались показом опытов.
Нередко выступал А. В. Шубников с докладами на заседаниях Федоровского института, которые тогда происходили регулярно раз в две недели. На многих заседаниях темой была бесконечная дискуссия между А. В. Шубниковым и О. М. Аншелесом о природе вицинальных граней. Не наспорившись на заседаниях, противники перенесли дискуссию в печать. В ответ на статью Аншелеса А. В. и О. М. Шубниковы опубликовали свою [31], на что Аншелес ответил новой статьей с эпиграфом: «Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе (А. С. Пушкин «Капитанская дочка»)».[* Аншелес О. М. Ответ А. и О. Шубниковым. – Зап. Рос. минерал, об-ва, 1930, ч. 59, № 1, с. 80.] Дискуссия разгорелась. Противники вносили в нее столько страсти, иногда и недру: желюбной, что в конце концов неизменно корректный и доброжелательный А. К. Болдырев вынужден был наложить запрет на произнесение слова «вицинали» на заседаниях Федоровского института. На одном из последующих заседаний Г. Г. Леммлейн начал свое выступление словами: «Я буду говорить о том, что здесь нельзя называть». Алексей Васильевич закончил дискуссию экспериментальным исследованием вициналей в процессе роста кристалла квасцов, которое он выполнил вместе с Б. К. Бруновским [62]. Таков был метод Алексея Васильевича – решающее слово всегда предоставлялось эксперименту.
На одном из научных семинаров возникла дискуссия о том, почему зерна поликристалла в шлифе часто имеют очертания пятиугольников. Высказывалось предположение, что зерна при свободном росте примут форму пентагонального додекаэдра. А. В. Шубников, однако, полагал, что пятиугольник – одно из сечений ромбического додекаэдра, наиболее вероятной формы свободно растущего зерна. К сожалению, не помню, кто решил спор расчетом, но Алексей Васильевич и Георгий Глебович применили метод прямого эксперимента. Из гипса были отлиты три сотни одинаковых гипсовых ромбододекаэдров. Несколько дней сотрудники лаборатории во дворе музея занимались делом, похожим на веселую детскую игру: ромбододекаэдры закатывались в глиняные шары разных .размеров.
Затем все шары были сложены в деревянный ящик и залиты алебастром. Так получилась модель беспорядочного расположения свободных зерен. К великой потехе окружающих два механика ручной пилой несколько дней распиливали полученный агрегат на слои толщиной 1,5—2 см, а Георгий Глебович фотографировал полученные срезы. Результат статистического исследования, подтвердивший идею А. В. Шубникова, был опубликован в [99].
Алексей Васильевич вообще любил статистику и часто прибегал к ней. В работе о закономерных сростках алюмокалиевых квасцов [73, 76] параллельность ребер маленького октаэдра на грани большого октаэдра оценивалась на глаз. Как проверить, какова здесь ошибка? Уединившись в своем кабинете и вывесив табличку «Входа нет», А. В. Шубников собственноручно начертил 6 больших треугольников и в центре каждого – маленький треугольник. На первом чертеже маленький треугольник был строго параллелен большому, на втором – повернут на 1°, на третьем – на 2° и т. д. Никому не показывая, он сфотографировал чертежи, уменьшив до размера наблюдавшейся реальной грани кристалла, и сам напечатал по несколько десятков копий. Испытуемый должен был из двух сотен чертежиков выбрать те, где стороны параллельны, причем число правильных ему не было известно. Испытанию подверглись все сотрудники лаборатории, и по статистическому результату было доказано, что человеческий глаз оценивает параллельность с точностью ±1°, т. е. глазомерная оценка закономерности срас.тания допустима. Сначала Алексей Васильевич велел мне подробно описать опыт и все его результаты. Конечно, в окончательном варианте статьи этот текст был полностью переработан им. Однако, публикуя статью, он поставил мою фамилию на первое место, себя – на второе. При мне Г. Г. Леммлейн спросил его, не правильнее ли было бы поставить мою фамилию второй. Ответ Алексея Васильевича запомнился мне на всю жизнь: «Во-первых, – сказал он, – надо соблюдать алфавит, а, во-вторых, всегда надо давать дорогу молодым».
Огромная требовательность к ученикам и сотрудникам сочеталась у А. В. Шубникова с постоянной готовностью разъяснить непонятное. На это он никогда не жалел ни времени, ни сил.
Здесь надо рассказать о «Кристаллографическом университете». Когда в 1931 г. я поступила на физический факультет заочного отделения Ленинградского университета, Алексей Васильевич спросил меня: «Что, собственно говоря, хотите Вы изучать?» – «Конечно, все о кристаллах».—«Но ведь там этому не учат, – посетовал он, – нужно самостоятельно заниматься», – и тут же стал набрасывать для меня программу этих занятий, а к следующему дню написал подробный список тех дисциплин, которые надо изучить, чтобы понимать кристаллографию. Как жалею я, что этот список у меня не сохранился! В нем значилась физика, физическая химия, термодинамика, многое другое и «20 математик», среди них – аналитическая геометрия, дифференциальное и интегральное исчисление, векторная алгебра и векторный анализ, сферическая геометрия, математическая статистика, тензорное исчисление... Почему-то «Способ наименьших квадратов» числился в этом списке отдельно. Тогда же Алексей Васильевич вручил мне учебник аналитической геометрии и предложил к завтрашнему утру проработать первые десять страниц: «А с Вами вместе и я их повторю, мне это нужно», – добавил он. Так начались занятия, которые длились более двух лет и получили название «Кристаллографического университета». Ежедневно я должна была проработать 10 страниц, затем следовало живое обсуждение их с Алексеем Васильевичем и решение возможных кристаллографических задач.
К концу первого года к этим занятиям присоединился Г. Б. Бокий, имевший передо мной громадное преимущество – он уже окончил Горный институт. Ежедневно Г. Б. Бокий и я должны были отвечать урок. Я шла по программе А. В. Шубникова, проходя одну дисциплину за другой. Бокий тщательно излагал физическую химию по толстому учебнику Эггерта. Так мы дошли до термодинамики. «О, это наука такая ясная и логичная, я расскажу вам ее за 3 дня», – объявил А. В. Шубников. На второй день он остановился, поставив себе вопрос, и начал его глубоко разбирать. На завтра он снова вернулся к нему, на следующий день тоже. В общем глубокий разбор термодинамики продолжался около трех месяцев.
Для Алексея Васильевича было характерно, что, добровольно взяв на себя труд по проведению этих занятий, он ни разу не пропустил и не отменил их, даже ни разу не опоздал. Пунктуальность, аккуратность, точность и четкость были присущи ему во всем. Расписание соблюдалось неукоснительно. У каждой вещи было свое место. Каждый из сотрудников знал свои обязанности, но в то же время А. В. Шубников заботился о том, чтобы каждый понимал и свою роль в общей задаче.
А. В. Шубников приходил в лабораторию в 9 час. утра. К этому времени все уже были на местах. У нас не было табеля, и никто не отмечал время прихода и ухода. Но опоздать на работу или прогулять было немыслимо, это никому не приходило в голову.
Замечательно было его умение устраивать праздники для сотрудников лаборатории – общую вылазку за город, поход в театр, празднование дня рождения кого-либо из сотрудников, веселое сборище в воскресенье, шуточное представление, сопровождаемое игрой Алексея Васильевича на гитаре. Первым помощником во всех затеях был, конечно, неистощимый заводила Г. Г. Леммлейн.
Хочется сказать еще несколько слов о том, как Алексей Васильевич приучал нас работать с научной литературой. Выше я говорила уже, что, приезжая из ФТИ, он сообщал о журнальных новинках. Тут же давались задания прочесть такую-то статью. Возражения о незнании языков не принимались во внимание, точнее говоря, их никто не решался высказать. Статью надо прочесть. И каждый знал, что через несколько дней профессор потребует представить ему точное изложение и критику статьи. Если же задумывался новый эксперимент, то Алексей Васильевич требовал прежде всего собрать литературу, причем сам показывал, в каких указателях или сводках отыскивать нужные работы. Однажды при таком поиске я натолкнулась на работу чешского автора начала XIX в. и решилась робко заметить, что не сумею прочесть статью на старинном чешском языке. «Возьмите словарь», – был короткий ответ. Спорить не пришлось.
С течением времени раз в две недели стали проводиться реферативные собрания, на которых заслушивались доклады о новостях литературы, а иногда и оригинальные сообщения. Реферативные собрания привлекали много гостей: кристаллографов из Горного института и из университета, физиков из ФТИ, минералогов из музея, В. Г. Хлопина с сотрудниками из Радиевого института.
В 1933 г. по инициативе и под редакцией Алексея Васильевича вышел первый сборник Трудов Кристаллографической лаборатории. Это было знаменательным событием, так как печатать статьи по кристаллографии в отечественной периодике было негде, специального журнала не существовало. Выпуски этих трудов послужили основой для создания впоследствии журнала «Кристаллография».
«Кристаллографический университет»
Г. Б. Бокий
По прошествии почти полувека я считаю, что мое научное мировоззрение сформировалось в основном благодаря организованным А. В. Шубниковым занятиям, которые мы в шутку называли «Кристаллографическим университетом».
Через несколько месяцев работы в лаборатории прикладной кристаллографии Ленинградского отделения Института прикладной минералогии Алексей Васильевич предложил мне начать повышать свою научную квалификацию, на что я охотно согласился. Занятия были организованы следующим образом. Каждый день за час до работы трое участников – А. В. Шубников, М. П. Шаскольская ия – собирались в кабинете у Алексея Васильевича и рассказывали друг другу то, что успевали прочитать вечером, после работы. Все занятия разбивались на три раздела и проводились по строгому плану. «Лекции» по математической кристаллографии читала М. П. Шаскольская, по физической кристаллографии – А. В. Шубников и химическая кристаллография была закреплена за мной. Термин «кристаллохимия» в те годы еще не вошел в широкое употребление. Тематика этого раздела была в основном посвящена физической химии с преимущественным вниманием к твердой фазе.
Каждый читал свою «лекцию» столько времени, на сколько хватало материала. Иногда это составляло 10 мин, иногда полчаса. Если случалось так, что у каждого оказывалось много материала (обычно после праздников), то последний – чаще всегр это был А. В. Шубников – откладывал свои лекции на другой день. Приоритет он всегда отдавал своим ученикам. К началу работы лаборатории занятия заканчивались. Во время чтения наших лекций каждому участнику давалось право прерывать докладчиков и задавать любое количество вопросов. Идея заключалась в том, что каждый из нас понимал весь материал, который «преподавался» в «Кристаллографическом университете». Самые надежные знания, непосредственно связанные с избранным научным направлением, дал мне именно «Кристаллографический университет».
Эти занятия продолжались более двух лет, практически без пропусков. В Советском Союзе в то время не было такого высшего учебного заведения, которое давало бы кристаллографическое образование. Наш «университет» явился как бы прообразом кафедры кристаллографии.
В 1949 г. в Московском университете мною была организована кафедра кристаллографии и кристаллохимии с двумя специализациями: кристаллохимической на химическом факультете и кристаллографической – на геологическом. В 1953 г. А. В. Шубников организовал кафедру кристаллофизики на физическом факультете МГУ. М. П. Шаскольская возглавила кафедру кристаллографии в Московском институте стали.
Не могу не упомянуть и о тех семинарах, которые организовывал А. В. Шубников во всех возглавляемых им учреждениях. Каждый научный сотрудник обязан был несколько раз в год делать на этих семинарах сообщения о своей работе или выступать с рефератами интересных статей. Семинары для нас, «универсантов», были как бы практическими занятиями. Алексей Васильевич умел создать на них непринужденную атмосферу. Всем разрешалось задавать любые вопросы и выступать с любыми самыми абсурдными мнениями. В большинстве случаев такие мнения тут же и опровергались, что всегда вносило веселое оживление в работу семинаров. Однако какая-то доля из этих высказываний порождала новые идеи, а возможность фантазировать стимулировала творческое отношение к работе. Работать А. В. Шубников приучал нас с «выдумкой». Может быть, именно в этом и был залог научной и практической продуктивности его огромной школы.
Из повседневной жизни
Я. С. Желудев
Чем сильнее и ярче фигура, тем многообразнее и интереснее она предстает в воспоминаниях современников.
За многие годы совместной работы с А. В. Шубниковым мне довелось наблюдать его в разных ситуациях. Работать с Алексеем Васильевичем было приятно, хотя и не всегда легко. Как человек большой трудоспособности, выдержки, организованности и дисциплины, он остро воспринимал отсутствие таких качеств у других, хотя и не всегда реагировал на это. Основой научного работника он всегда считал рациональное трудолюбие. По его мнению, настоящего научного работника нельзя оторвать от его работы.
В 1951 г. мне была поручена организация научных семинаров в лаборатории А. В. Шубникова. На этих семинарах присутствовал академик П. Л. Капица, бывший в то время сотрудником Института кристаллографии и «приписанный» к лаборатории А. В. Шубникова. Ни Алексей Васильевич, ни Петр Леонидович не выступали с докладами, но сообщения сотрудников слушали внимательно и охотно их обсуждали. Очень часто на таких семинарах Алексей Васильевич делился своими новыми идеями и заботами и тем обучал сотрудников и руководил их научной работой.
В середине 50-х годов Институт кристаллографии разросся настолько, что выпускавшиеся «Труды» не могли обеспечить своевременную публикацию научных работ его сотрудников. А. В. Шубников принял меры к организации специального журнала, и с января 1956 г. начал издаваться журнал «Кристаллография». Главным редактором его стал Алексей Васильевич, а мне предложили быть ответственным секретарем. Я с большой охотой согласился и проработал в редакции почти 11 лет. Помню, как много внимания уделял А. В. Шубников журналу – и содержанию статей и их оформлению. Создание нового журнала вдохновило его на написание многих научных работ. Например, в первом выпуске он поместил статью о тепловой деформации [210]. Алексей Васильевич не любил длинных и аморфных работ. Он часто говорил: «Любую статью можно сократить до любого объема». Предпочитая работы конкретные, написанные четким, ясным языком, он часто повторял: «Если статью не .понял читатель, то в этом виноват писатель».
Бывая в совместных командировках по нашей стране и за границей, я имел возможность наблюдать Алексея Васильевича довольно близко. Однажды, оказавшись с ним в гостинице в одном номере, я позавидовал его предусмотрительности, так как многое забыл взять с собой, В ответ на это Алексей Васильевич сказал, что от таких «забываний» легко избавиться, и показал приклеенные к внутренней стороне крышки его чемодана два списка: «Что должно быть в чемодане всегда» и «Что должно быть в чемодане во время командировки за границу». Я оценил и простоту решения, и детальность «разработки», включающей и кипятильник и даже нитки с иголкой.
А. В. Шубников обладал своеобразной способностью видеть то, что многим видеть не дано. Однажды, проходя по улице Севастополя, я обратил его внимание на то, что через цветник одного из бульваров протоптана пешеходами дорожка, несмотря на поставленные заграждения, и посетовал на это. К моему удивлению, Алексей Васильевич, любивший зелень и цветы, меня не поддержал и сказал: «Ограждения бесполезны. Если где-либо дорожка протаптывается, то лучший способ бороться с „нарушением" – сделать по этому месту „законную" дорожку, так как ясно, что именно здесь она больше всего нужна».
В 1960 г. мы ездили в Лондон и остановились в гостинице «Эмбеси» на улице Бейсвотер, неподалеку от Советского посольства. В первый день Алексей Васильевич принял участие в коллективном осмотре города. На следующий день он решил осматривать город самостоятельно. Я опять провел целый день с нашими товарищами, бродя по улицам, осматривая памятники, здания, музеи. Вернувшись в номер, я застал Алексея Васильевича в добром настроении и рассказал ему об увиденном. Он внимательно выслушал, улыбнулся, одобрил наши маршруты и в заключение сказал: «Есть два способа осматривать новый город и жизнь в нем. Один использовали Вы, двигаясь по городу. Я предпочел другой: выбрал „пост наблюдения” на Бействотер, смотрел, как город и люди движутся мимо меня, и увидел, пожалуй, не меньше, чем Вы».
А. В. Шубникову не было чуждо ничто человеческое. Он любил цветы – в саду и в горшках, но не срезанные (!), умел профессионально сделать фотографии, любил живопись, поэзию, в частности Маяковского, музыку, хорошо играл на гитаре. Зачастую бывал прост и откровенен' до детской непосредственности. Вскоре после избрания А. В. Шубникова в действительные члены Академии наук сотрудники спросили у него, каковы были его личные ощущения после избрания. Алексей Васильевич рассмеялся и сказал: «Ощущения хорошие, но странные. Вот иду я и чувствую будто на груди у меня висит дощечка, на которой большими буквами написано „АКАДЕМИК"».
Таков был Алексей Васильевич Шубников, человек с незаурядным талантом ученого и яркими особенностями характера.
Во время эвакуации
Л. М. Беляев
26 октября 1941 г. в соответствии с планом эвакуации А. В. Шубников был отправлен с Ярославского вокзала с предписанием прибыть в г. Казань. Приехав в г. Свердловск и остановившись у академика А. Е. Ферсмана, А. В. Шубников получил официальное предложение организовать лабораторию по изготовлению пьезокварцевых пластин. Приняв это предложение, он создал такую лабораторию и руководил ею до мая 1942 г., до переезда в с. Филатово, где разместилась эвакуированная из Москвы Кристаллографическая лаборатория.
Знакомство с Алексеем Васильевичем во внеслужебном плане у меня произошло в декабре 1941 г. в г. Свердловске. Закончив дела по эвакуации лаборатории из Москвы, я приехал в Свердловск и получил приют в семье Алексея Васильевича, которая жила в большой аудиторной комнате какого-то техникума. Перед уходом на работу мы обсуждали первоочередные дела на день. Алексей Васильевич уходил на работу очень рано. Если машины не было, он уходил в 6 час утра и шел пешком через весь город. Если была машина, то он задерживался до 7 час. Возвращался обратно довольно поздно вечером. После ужина, когда его семейство ложилось спать, мы начинали беседу о житье-бытье.
Еще до отъезда из Москвы в эвакуацию А. В. Шубников часто говорил, что наша столица не может и не должна быть сдана ни при каких условиях! Он верил в победу, был готов сам пойти в армию, но ясно сознавал, что важнее участвовать в выполнении оборонных заказов лаборатории. Во время этих бесед я узнал его биографию, этапы его научной деятельности: лаборатория Ю. В. Вульфа в МГУ и Университете им. А. Л. Шанявского, Свердловский университет, кристаллографический сектор Ломоносовского института в Москве. В свою очередь я рассказал собственную биографию человека, пришедшего в науку из рабочих-горняков.
А. В. Шубников переехал в с. Филатово из г. Свердловска в мае 1942 г. Для него уже был подготовлен отдельный дом, расположенный примерно в одном километре от лаборатории, где он поселился в женой и двумя младшими сыновьями Даром и Алексеем.[* Дар Алексеевич Шубников (1932—1979) —ихтиолог, специалист по исследованию сырьевых ресурсов Мирового океана. Алексей Алексеевич Шубников (р. 1938 г.) – ныне геолог.] В положенное время Алексей Васильевич приходил в лабораторию, проводил необходимые совещания, иногда прямо во дворе. Его всегда можно было узнать по белой полотняной панаме.
А. В. Шубников очень активно занимался работами на своем приусадебном участке, площадь которого была строго разграничена для выращивания разных культур. В своем дневнике он записывал все относящееся к огороду: количество посаженных корней, количество всходов и т. п. Он с точностью называл их число и гордился хорошим урожаем, которого хватало на всю зиму. Дом отапливался двумя печами, для освещения использовались керосиновые лампы, изготовленные Алексеем Васильевичем из пробирок.
С этого трудного и памятного периода жизни наши отношения с А. В. Шубниковым стали более простыми и теплыми.
О роли А. В. Шубникова в моей научной работе
П. Г. Поздняков
По окончании Московского энергетического института (МЭИ) в 1939 г. определились мои технические интересы – кварцевая стабилизация частоты – и я искал возможность найти работу в этой области. Мне посоветовали обратиться к А. В. Шубникову – организатору и научному руководителю Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) Треста № 13. Здесь и состоялось мое первое знакомство с А. В. Шубниковым. Я был ему рекомендован сотрудником ЦНИЛ А. И. Шиловым, с которым я учился в одной группе в МЭИ. А. И. Шилов поступал в аспирантуру МЭИ и предлагал мне занять его должность в ЦНИЛ. А. В. Шубников внимательно меня выслушал, поинтересовался моей биографией и научно– техническими интересами. Вопросов он задал немного и сказал, что я подхожу для работы в ЦНИЛе.
А. В. Шубников предложил мне заняться самообразованием, преимущественно в области кристаллографии и техники обработки кристаллов. Он потребовал освоить приемы ориентировки, резки и шлифовки кристаллов с тем, чтобы уметь изготовлять пьезоэлементы. Меня это нисколько не испугало, так как я с детства был приучен к столярным, слесарным и монтажным работам. Я с интересом взялся за освоение квалификации «кварцевика», как называли специалистов по производству кварцевых резонаторов. При посещении лабораторий А. В. Шубников всегда расспрашивал о прочитанной литературе. Он разрешил мне пользоваться библиотекой в его кабинете, нередко приносил книги из дома, убедившись в том, что я их охотно и с пользой читаю. У меня сохранился экземпляр литографированного издания лекций по кристаллографии, вышедших в 1923 г. в Екатеринбурге, с автографом А. В. Шубникова.
Во время работы в радиогруппе ЦНИЛа задача с излучателем для ультразвукового дефектоскопа не давала мне покоя. Я чувствовал, что от успеха этой работы зависит доверие А. В. Шубникова ко мне как к специалисту. Наблюдая прохождение ультразвука через преграды различной волновой длины, я обратил внимание на то, что узконаправленный пучок ультразвуковых волн не искажается и практически не ослабляется после прохождения через кварцевую пластину, толщина которой была близка к половине звуковой волны. Решение задачи возникло тотчас же – излучатель должей состоять из двух наложенных друг на друга кварцевых пластин различной частоты. На другой день я демонстрировал новый излучатель, который попеременно можно было возбуждать то на одной„ то на другой частоте. Алексей Васильевич остался очень доволен, искренне радовался успеху, смеялся тому, что простое решение никому не приходило в голову. Я успешно и в срок сдал тему заказчику.
Скоро я включился в весь комплекс исследований по пьезокварцу. С А. В. Шубниковым у меня начали складываться деловые отношения, характеризующиеся взаимным доверием. Считая, что у меня уже имеются некоторые интересные результаты, он настоятельно рекомендовал публиковать их или делать заявки на изобретения, чтобы закрепить свой приоритет. Много позже я последовал его советам и, думаю, что именно с его легкой руки мне было присуждено звание Заслуженного изобретателя. Считаю, что два с небольшим года непосредственной работы и общения с А. В. Шубниковым оказали на меня большое влияние и окончательно определили мою научную судьбу.
Наблюдая за взаимоотношениями А. В. Шубникова с сотрудниками, я замечал, что он мог работать с двумя совершенно разными категориями людей. К первой относились сотрудники-исполнители, работавшие в точном соответствии с его указаниями, ко второй – сотрудники творческого плана. В последнем случае А. В. Шубников давал им полную свободу действий. Если мнения по проблеме совпадали, Алексей Васильевич активно включался в работу с полной самоотдачей, не гнушаясь никакой работой. Если мнения расходились, он не мешал человеку ' в работе, относился всегда лояльно, считая, что конечный результат даст ответ, кто был прав.
А. В. Шубников был крайне щепетильным в отношении вопроса авторства и никогда не приписывал свою фамилию к работам сотрудников, если не был непосредственным участником исследований.
В беседах с сотрудниками А. В. Шубников часто рассказывал о своей прошлой жизни: о его работе в научных учреждениях за рубежом, встречах с учеными, об эпизодах в период прохождения военной службы. Нападение фашистов на Европу серьезно беспокоило Алексея Васильевича. Он, перенесший ужасы первой мировой войны, боялся, что война затронет и нашу страну, принеся неисчислимые бедствия.
В 1940 г. я был командирован на Петергофский завод технического камня, на котором был и кварцевый цех по производству резонаторов, руководимый Н. Г. Козулиным. Моя миссия заключалась в том, чтобы ознакомить петергофских кварцевиков с методами использования маломерного кварца, в частности с методом непосредственной распиловки таких кристаллов на пластины косых срезов с малым температурным коэффициентом частоты, которые в конце 30-х годов широко использовались. Я был встречен с недоверием, так как видимо производил впечатление «зеленого» специалиста. Н. Г. Козулин, который был старше меня, недвусмысленно дал понять, что они, производственники, тоже ведут подобные работы и имеют свои достижения в этой области. После осмотра производства я убедился, что используемые методы далеки от метода А. В. Шубникова. Со мной было приспособление для установки кристаллов в нужное положение на суппорт распиловочного станка, и я предложил опробовать метод Шубникова. Опыт прошел успешно. Были разрезаны два мелких кристалла, и я отшлифовал и проверил несколько пластин. Метод показа, который применял А. В. Шубников, действовал безотказно и в моем исполнении, и отношение ко мне резко изменилось. В скором времени Н. Г. Козулин, как.всегда элегантно одетый, с цветным платочком в кармане пиджака, приехал в ЦНИЛ, чтобы ознакомиться с новинками технологии кварцевого производства. После этого наши взаимоотношения были неизменно дружественными.








