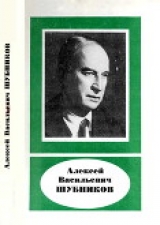
Текст книги "Алексей Васильевич Шубников (1887—1970)"
Автор книги: Николай Белов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
Воспоминания об А. В. Шубникове
Алексей Васильевич Шубников как человек
Я. И. Шубникова
В 1936 г. Алексей Васильевич Шубников руководил кристаллографическим сектором Ломоносовского института Академии наук СССР, в состав которого входили также петрографический, минералогический и геохимический секторы.
В кристаллографическом секторе сразу поражали строгий порядок, дисциплина, интерес к работе, дух равенства и товарищества, которые, казалась, были присущи всем без исключения сотрудникам сектора – и «большим» и «маленьким». Начальник сектора А. В. Шубников отличался большой требовательностью к сотрудникам, но проявлялась она не окриком, не грубостью и не выговорами. Он умел поставить дело так, чтобы каждый стремился выполнить свою работу наилучшим образом, проявляя максимум инициативы. Появляясь ежедневно в секторе ровно в 11 час., он обходил всех сотрудников на их рабочих местах, знакомился с ходом экспериментов и их результатами, с дальнейшими планами, с тем, какая литература прочитана, как прореферирована, что и как сделано в шлифовальной и механической мастерских, кто чем занят.
В шлифовальной мастерской изготовляли главным образом пьезокварцевые пластинки для нужд разных учреждений. От заказов на эти пластинки буквально не было отбоя. Работа кипела на всех станках. Шлифовали разнообразные пластинки, тщательно проверяли их, изготовляли кварцевые клинья, склеивали пьезоэлектрические мозаики. Алексей Васильевич часто надевал на белоснежную рубашку рабочий халат и в трудных случаях, работая на шлифовальном станке, сам показывал, как заставить колебаться пластинку.

Я. И. Шубникова.
Я поступила в сектор секретарем начальника, однако вскоре на меня была возложена вся переписка сектора, в том числе и переписка на трех европейских языках с учеными многих стран мира. Пищущей машинки ни с русским, ни с иностранным шрифтом не было. Работавший в секторе проф. Е. Е. Флинт принес мне какую-то странную машинку с иностранным шрифтом, внешним видом напоминавшую самолет, которую мне пришлось осваивать. Но как быть с русской машинкой? Все указания начальника сводились к словам: «Придумайте что-нибудь!» И я придумывала.
Вскоре А. В. Шубников предложил мне обучиться шлифовальному делу. «Вам приходится все время иметь дело с пластинками. Вы общаетесь с заказчиками, оформляете заказы на пластинки, а сами не знаете, что это такое, как их делают и для чего они», – сказал он мне. Дал прочесть какую-то книжку и поставил к шлифовальному станку под присмотр самого искусного мастера К. А. Драгунова. Я должна была изготовить своими руками пьезоэлектрическую пластинку. Первую пластинку, кстати сказать, я испортила, но вторая уже получилась. Добрейший Константин Александрович Драгунов обладал прекрасным чистым тенором. Работая на станке, он пел «Как дух Лауры» Листа, арию Ленского из «Евгения Онегина» и многое другое из классического репертуара. Алексей Васильевич очень уважал и любил К. А. Драгунова за его «золотые руки» и высокое мастерство, а также за хороший голос и абсолютный слух. Драгунов еще в Ленинграде поступил в лабораторию истопником. Заметив в нем интерес к делу, А. В. Шубников начал его учить изготовлению пьезоэлектрических изделий. Дружба с Драгуновым продолжалась до самой смерти Алексея Васильевича.
В кристаллографическом секторе все чему-то учились. В частности, А. В. Шубников читал для сотрудников курс лекций по стереографической проекции и ее применению. Он предложил слушать эти лекции и мне. «Неужели Вам не интересно?» – удивился Алексей Васильевич моей нерешительности. – «А мне самому интересно так прочесть этот курс, чтобы было понятно просто умному человеку, не имеющему специального образования. Если Вам что-либо будет непонятно, обязательно спросите меня». Я согласилась и очень скоро убедилась, что читает А. В. Шубников действительно на редкость доходчиво. Я прослушала весь курс и была довольна, что не осрамилась и правильно решала все задаваемые им задачи.
Сам Алексей Васильевич всю свою жизнь учился чему– нибудь. Шлифовке, полировке и обработке камней он учился во время пребывания в Свердловске у камнерезов и горщиков, продолжил учебу на Петергофской гранильной фабрике и освоил это искусство в совершенстве. Он вседа любил «работать руками». В его кабинете стояла специальная застекленная витрина на ножках с шарами, выточенными им из стекла, кварца и различных минералов, с изготовленными собственными руками пьезоэлектрическими пластинками и мозаиками, с выращенными им самим кристаллами. Особенно бросался в глаза собственноручно ограненный и отшлифованный им большой кусок стекла, сверкавший на солнце как настоящий бриллиант.
Со школьных лет А. В. Шубников хорошо владел тремя европейскими языками: французским, немецким и английским, свободно читал, мог разговаривать. И тем не менее он всегда старался усовершенствовать свои знания языков. Читая в подлиннике книги иностранных ученых, не ленился заглядывать в словарь. Жалуясь на свою плохую память, он уверял, что твердо запоминает перевод иностранного слова, посмотрев его в словаре десять раз. В сохранившихся словарях, которыми он пользовался, действительно против некоторых слов стоят по 5, 7 и 10 палочек.
Уже на склоне лет, когда в Институт кристаллографии удалось пригласить преподавателя английского языка, А. В. Шубников предложил всем сотрудникам, желающим изучать язык или усовершенствовать свои знания, заниматься в кружках. Были созданы группы для начинающих, несколько групп для желающих усовершенствоваться и одна «разговорная» группа, в которой занимался и сам Алексей Васильевич. Он никогда не приходил на занятия с невыученным уроком!
В А. В. Шубникове поражала его удивительная целеустремленность. Сначала мне. показалось, что, кроме кристаллов, его ничто в жизни не интересует. Руководя сотрудниками, занимаясь с ними индивидуально, читая лекции по росту кристаллов, по симметрии, по кристаллооптике, обычно в сопровождении показа необходимого материала с помощью проекционного микроскопа, он всегда увлекался сам и увлекал своих слушателей. Техника показа была отработана отлично, хотя в то время многое было поставлено в буквальном смысле слова «на спичках». На зажженной спичке подогревались препараты, спички же подкладывались на столик микроскопа под препараты, чтобы не лопались предметные стекла.
Однажды я впервые попала на лекцию по росту кристаллов, которая произвела на меня огромное впечатление. Увлекательный яркий показ, краткие четкие доходчивые пояснения лектора, все для меня было новым и интересным. Открылся какой-то неведомый мир!
Вспоминается мне одно высказывание Алексея Васильевича в период, когда мы уже решили соединить наши судьбы. «Имейте в виду, – сказал он, – что для меня самое важное и главное в жизни – это моя работа. Все остальное меня может интересовать лишь постольку– поскольку». Не очень приятно слышать женщине, что она тоже попадает в разряд «постольку-поскольку», но наша многолетняя совместная работа давно уже открыла мне его «секрет» – его одержимость в науке, в частности в кристаллографии.
Однако это высказывание не мешало А. В. Шубникову интересоваться очень многим и за пределами науки. Да и сама наука часто соприкасалась у него с искусством. Он умел находить красоту и симметрию даже, казалось бы, в самых прозаических предметах. Цветы, листья, огурцы, помидоры, арбузы, патиссоны, дававшие в разрезе интересные симметричные фигуры, улитки, раковины прудовиков, закрученные необычным образом, бабочки– махаоны, даже расположенные по способу плотнейшей упаковки личинки неведомых насекомых на тыльной стороне листа – все привлекало его| внимание, а отраженным светом и всех людей, живших рядом с ним.
С самого раннего детства Алексей Васильевич любил и понимал музыку. Нельзя без волнения читать его воспоминания, в которых он рассказывал, как сам в семилетием возрасте сделал музыкальный инструмент из конфетной коробки, натянув на нее тонкие резинки. У Алексея Васильевича был абсолютный слух, благодаря чему в коммерческом училище его включили в число певчих хора в домовой церкви училища.
Самым любимым его композитором был С. В. Рахманинов. Богатство и разнообразие музыки, глубокий философский смысл произведений этого композитора он считал непревзойденными и при малейшей возможности посещал концерты из произведений Рахманинова, слушал записи по радио и на пластинках. Больше всего он любил Третий концерт для фортепьяно с оркестром Рахманинова. Он высоко ценил также Грига. Любил слушать, но любил и сам играть на семиструнной гитаре, им самим усовершенствованной. Из-за своей застенчивости он предпочитал играть для себя. Наличие слушателей заставляло его волноваться и чаще обычного принимать нитроглицерин для предотвращения приступов стенокардии, которой он страдал с 40-летнего возраста.
Когда Алексей Васильевич, по его выражению, «привык» к Елене Ивановне (моей сестре), он стал играть на гитаре под ее аккомпанемент на рояле. Однажды его попросили выступить на праздничном вечере в Институте кристаллографии. Он наотрез отказался, попросив записать несколько пьес для гитары и рояля на магнитофонную ленту и потом проиграть их на вечере. Так и сделали.
Помню, были исполнены «Кордова» Альбеница и «Испанский танец» Равеля.
Алексей Васильевич хорошо разбирался в живописи и очень ее любил. Нравились ему картины самых различных художников и самых разных направлений. Модное увлечение иконами его не коснулось. Он говорил, что не разбирается в них, хотя, конечно, отдавал должное Рублеву. Нисколько не увлекала его абстрактная живопись. Посещая несколько раз в год Третьяковскую галерею, он каждый раз уделял преимущественное внимание какому-нибудь одному художнику (скажем, Левитану, Сурикову, Серову или Нестерову). Произведения этого избранного художника смотрел, по его выражению, «пристально», дома разглядывал репродукции с его картин, читал соответствующую литературу. Он очень высоко ценил Рембрандта, Ван Дейка, Эль Греко, Сурбарана. Во время поездок в Лондон обязательно выкраивал время, чтобы посетить Национальную галерею. Из английских художников .предпочитал Гейнсборо и Тернера. В период своего пребывания в Ленинграде и во время довольно частых поездок туда в дальнейшем всегда старался «сбегать» в Эрмитаж и в Русский музей. В Москве, несмотря на колоссальную занятость, он все же старался не пропустить ни одной интересной выставки: несколько раз был на выставке спасенных картин Дрезденской галереи, посещал выставки картин Сарьяна, отца и сына Рерихов, Рембрандта, импрессионистов, Нестерова, Корина, Ватагина, Пименова, скульптур из дерева Эрьзи и др.
Увлекался он обработкой дерева и сам. Занятия столярным ремеслом, к которому он пристрастился еще в Свердловске в 20-е годы, когда ему приходилось самому делать столы, шкафы и оконные рамы, всегда доставляли ему большое удовольствие. Даже на склоне лет, будучи уже академиком, он мог своими руками сделать стол, шкаф или книжную полку, аккуратно обив их линолеумом или жестью. Причем все это было тщательно выстругано, дверцы хорошо закрывались.
Со временем Алексей Васильевич пристрастился к изготовлению из дерева разных художественных изделий. Он умел из самых обыкновенных древесных ветвей или корней делать декоративные столы и скамейки, полки, жардиньерки, оленьи рога, вазочки, солонки, фигурки людей и животных. Особенно удался ему стол из корней и веток можжевелового куста. Как он обрадовался, когда в сделанной им фигурке из толстой изогнутой ольховой ветки мы сразу узнали Жанну Д’Арк.
Кроме любимого «хобби» – обработки дерева, Алексей Васильевич мог выполнить почти любую слесарную работу, всегда чинил сам лабораторные и бытовые электрические приборы. Прекрасно умел выдувать на стеклодувной горелке любой стеклянный прибор, а для отдыха – елочные игрушки: лебедей, гусей, шарики. Он искусно вырезал из бумаги разные сложные фигуры для своих работ по симметрии. Вырезанные им звездочки нужно было подвесить на нитке и погрузить в раствор квасцов. Через 2—3 дня звездочки покрывались блестящими кристалликами. Это были готовые украшения для елки, устраиваемой для детей сотрудников института.
За все время нашей многолетней совместной работы и почти двадцатилетней семейной жизни я не могу вспомнить ни одного случая, чтобы он солгал или покривил душой, высмеял кого-нибудь или пожадничал. Никогда не слышала, чтобы он обругал кого-нибудь или унизил, ни в глаза, ни за глаза. Он не терпел лжи, лени, неточности, неаккуратности, опозданий, отлынивания от работы, небрежности и недобросовестности. Он буквально выходил из себя, сталкиваясь с подобными явлениями, кстати сказать, довольно редкими, но и тут не позволял себе даже повышать голос. Только голубые глаза его в таких случаях метали молнии.
Один из любимейших его учеников и сотрудников Аркадий Сергеевич Шеин, при всей своей исключительной талантливости, отличался патологической неточностью. Он любил и беспредельно уважал своего учителя, и все же не мог себя заставить прийти к нему в точно назначенный час.
Помню такой случай. А. С. Шеин, перешедший тогда на работу в Министерство рыбной промышленности, но продолжавший работать в Институте кристаллографии по совместительству, в очередной раз не пришел в назначенный ему час. А. В. Шубников вышел из кабинета в ярости и тут же продиктовал приказ об объявлении Шеину выговора за опоздание. Вскоре примчался А. С. Шеин. Я молча показала ему приказ. Он буквально ворвался в кабинет, откуда потом доносился его высокий взволнованный голос. Он рассказывал о каких-то своих новых интересных находках в области акустики. Позднее, испросив разрешения у начальства, я бросила приказ в корзинку.
Характер у А. С. Шеина не изменился и до его преждевременной кончины. Однажды, возвратившись домой, мы вдруг с изумлением увидели, что вся наша небольшая квартира опутана какими-то проводами, повсюду стоят и висят разные акустические приборы. Оказывается, А. С. Шеину нужно было немедленно показать своему учителю новое изобретение.
Наскоро поужинав, мы включились в эксперименты, а потом так и легли спать, перешагнув через провода и раздвинув аппаратуру. До поздней ночи Шубников и Шеин, не видя и не слыша ничего, как одержимые, бегали из комнаты в комнату, слушая звуки, передаваемые различными коробочками и трубочками. По комнатам порхали заряженные электричеством бумажки, ревели и пищали различные приборы, а молодой ученик и старый учитель упивались всем происходящим и оба расстраивались, если я в какой-либо трубочке слышала не то, что нужно, или вообще ничего не слышала. Вот за эту увлеченность работой и прощались Шеину все его грехи.
Еще при жизни А. В. Шубникова Президиум Академии наук присвоил А. С. Шеину звание доктора физико-математических наук – «honoris causa», т. е. без защиты диссертации.
Многие спрашивали, как А. В. Шубников организует свой рабочий день? Он действительно успевал очень многое: руководить институтом, писать книги и статьи, руководить кафедрой в Московском университете, принимать массу посетителей в институте, на кафедре, дома и на даче, давать консультации по самым разнообразным вопросам, редактировать чужие работы, руководить сотрудниками и аспирантами, экзаменовать аспирантов и студентов, писать уйму рецензий на чужие работы и диссертации, быть главным редактором сначала Трудов Института кристаллографии, а затем журнала «Кристаллография», работать в течение многих лет членом Высшей аттестационной комиссии, вести экспериментальную работу, читать лекции в университете, для общества «Знание» и т. д. Приведу один пример, который многое объяснит.
Когда /строили новое здание для любимого детища А. В. Шубникова – Института кристаллографии, он обратил внимание на небрежную работу строителей. Забыв о своем почти 80-летнем возрасте, он сам полез на крышу строящегося института в сопровождении лаборанта с фотоаппаратом. Там были сфотографированы кривые карнизы, перекошенные трубы и другие дефекты постройки. Фотографии были направлены начальнику строительного управления АН СССР. Дефекты пришлось исправлять.
В характере А. В. Шубникова было много упорства, настойчивости, но не было никакого самомнения, самодовольства. Все полученные им звания казались ему незаслуженными. Когда он был избран академиком, радость по этому поводу сопровождалась смущением. Он никогда не кичился своим умом, знаниями и способностями. Всегда расхваливал других. Например, он всегда восхищался умом, широкой и глубокой эрудицией академика Н. В. Белова: «Какой блестящий ум, быстрый, острый, сколько он всего знает, какая поразительная память! Куда мне до него!».
Вопреки своей довольно суровой внешности, А. В. Шубников был необычайно добр, щедр й даже излишне доверчив. По первой просьбе он сразу же хватался за бумажник, стараясь выручить человека из беды. Зато на себя он не любил тратить деньги. Как-то я обратила внимание, что, проходя по лаборатории, он очень сильно стучит обувью. Оказалось, что он залил дырки на подметках битумом. Отдать ботинки в починку он не мог, так как носил свою единственную пару обуви. « А почему бы Вам новые не купить?» – спросила я. – «Ну, это так сложно», – был ответ.
Благодаря своей исключительной чистоплотности и аккуратности Алексей Васильевич выглядел всегда подтянутым и даже элегантным.
После нашей женитьбы в 1956 г. и после покупки дачи в академическом поселке «Луцыно» Алексей Васильевич немедленно развел на приусадебном участке огород. Пристрастившись к сельскохозяйственным работам еще в военные годы, когда сам сажал картошку, капусту, огурцы и морковь, он сам разбивал грядки под огурцы, морковь, укроп, салат, кабачки. Грядки разбивались «по науке» – по веревочке. «По науке» вносились удобрения, собственноручно рыхлилась земля. Нужно сказать, что и урожаи были отменными. Огурцы родились отличного качества: чистые, ровные, красивые, «симметричные».

Я. И. и А. В. Шубниковы.
Фруктовый и ягодный сад на даче, посаженный предыдущими владельцами, был полон фруктов и ягод: земляники, клубники, черной, красной и белой смородины, крыжовника, малины, вишни и яблок. Урожаи были отличные. Алексею Васильевичу нравилось, что в подполье дома стояли ящики с морковью, бочки с солеными огурцами, капустой и мочеными яблоками, заготовленными на всю зиму, наварено в большом количестве самого разнообразного варенья и джема, посолены и замаринованы грибы, собранные нами в лесу и прямо на участке. Все это его щедрой рукой раздавалось в сыром и приготовленном виде.
Алексей Васильевич был чрезвычайно гостеприимным человеком. Нужно сказать, что в Москве, и особенно на даче, у нас всегда были гости. Дача с ее шестью комнатами, двумя террасами и садом в 70 м2 к этому очень располагала. Взрослые дети Алексея Васильевича со своими детьми, его ученики и сотрудники, наши друзья и знакомые подолгу жили на даче, приезжали на воскресные дни. Алексею Васильевичу нравилось, что в доме шумно и весело, постоянно слышится музыка и смех, что в саду бегают и играют дети. Только в утренние часы (с 7 до 13 час) на даче воцарялась тишина. Эти часы и в Москве и на( даче неизменно отводились для работы. Не делалось исключения ни в отпускные, ни в выходные дни. Алексей Васильевич опускал в своем кабинете шторы, зажигал лампу под зеленым абажуром и погружался в работу. Необычайно требовательный к себе, он редко бывал удовлетворен результатами своей работы, редко выходил из кабинета с довольным видом. Иногда даже говорил: «Ну, сегодня работал только для мусорной корзинки». В своих книгах и статьях всегда стремился достигнуть предельной ясности и простоты изложения, оттачивал каждую фразу. Иногда радовался, что за все рабочее утро ему удалось написать удачные две страницы.
Так же тщательно готовился он к публичным лекциям, к семинарам и демонстрациям, повторяя и проверяя каждый эксперимент по нескольку раз. Тщательно проверял каждое слово в переводах своих статей и докладов, предназначенных для прочтения на иностранном языке. Помню, в 1960 г. перед поездкой в Кембридж на Международный конгресс кристаллографов, испугавшись перспективы переводить свой доклад на три языка, Алексей Васильевич решил заблаговременно отдать текст этого доклада для перевода в специальное учреждение. Какие переводы ему прислали! Выбросив их в корзинку, он обложился словарями и с моей помощью начал переводить сам. Всякое, с его точки зрения, сомнительное слово он просил проверить по словарю.
Алексей Васильевич очень любил природу, ему нравилось собирать грибы. Пока не ослабло зрение, он всегда был у нас по грибам чемпионом. Часто вспоминал, как его любимый друг и учитель академик А. Е. Ферсман, сам заядлый грибник, сочинил шуточную книгу-учебник по искусству собирать грибы. Грибов в ближайшем лесу было великое множество и притом хороших, на сбор которых не жалко было тратить время: белые, подосиновики, подберезовики, мелкие маслята, опята. Возвратясь из леса, все собирались на огромной террасе и садились сортировать и чистить грибы. Иногда возникали веселые споры. Каждый отстаивал право на жизнь принесенных им поганок и никак не желал с ними расстаться. Росли грибы и прямо у нас в саду, правда, только маслята, опята, моховики, сыроежки. Мы сделали попытку развести в саду белые грибы, но, к сожалению, у нас ничего не выросло, хотя и делали все «по науке».
Однажды, выйдя в сад, Алексей Васильевич принес сто штук прекрасных маслят – прямо для маринада. Нужно сказать, что он считал съедобными почти все грибы и частенько приносил вместе со съедобными, с моей точки зрения, ядовитые. Приходилось потихоньку от него отбирать сомнительные грибы и незаметно выбрасывать.
Алексей Васильевич прекрасно плавал. Он умел держаться на воде очень долго, практически бесконечно, и притом в любой позе: на спине, на животе, на боку, сидя и даже стоя. Отдыхая на юге, мы заплывали в море очень далеко от берега и качались там на волнах. Волны иногда прибивали нас к берегу, а иногда относили в море, причем так далеко, что берег казался туманной пеленой. Как-то в Батуми, во время довольно сильного волнения собравшаяся на берегу толпа встретила нас аплодисментами. Тогда Алексею Васильевичу было уже не менее 70 лет. Мне в жизни выпало огромное счастье – встретить такого незаурядного, исключительно интересного человека, каким был мой муж и друг – Алексей Васильевич Шубников.
Об отце
В. А. Шубникова
Мои самые ранние воспоминания относятся к зиме 1920 г., когда наша семья переезжала из Москвы в Екатеринбург. Мне было тогда два года. С графической четкостью врезалась в память картина: темное помещение теплушки, я сижу на нарах, закутанная в пальто и платки, ноги – в пуховом мешке из большой подушки. Две стены теплушки обиты темно-красным ковром. Справа от меня сверху – маленький белый прямоугольник окна. На полу стоит самовар, из носика его монотонно капает вода и замерзает горкой на полу. Вылезать из мешка мне запрещено. Время тянется бесконечно. Это вспоминается как кошмарный сон.
Родители мои двинулись в этот рискованный путь по приглашению Уральского горного института, а кроме того, как говорила мне мама, из боязни потерять и вторую дочь, т. е. меня. Моя сестра Елена была на полтора года старше меня. Осенью 1919 г. мы обе заболели дизентерией. Сестра умерла через шесть дней, а я выздоровела, но была очень истощена. Переезд в теплушке длился 20 дней. Родители всеми правдами и неправдами добывали дрова и, если удавалось, вещи меняли на еду.
Второе очень яркое воспоминание относится к первому дню жизни в Екатеринбурге. Незнакомая просторная комната, очень жарко натопленная печь, радостное чувство, что наконец-то можно снять пальто и бегать, бегать... Как сейчас вижу, посреди комнаты большой прямоугольный стол, покрытый белой скатертью, а на нем золотистые бублики и в стеклянной вазочке целая гора желтого колотого сахара! И все это можно есть! Справа стояла очень высокая кровать, покрытая белым покрывалом с горой подушек до самого потолка – от большой до очень маленькой.
Первые два года в Екатеринбурге жить нашей семье было негде. Нас поселили в помещении лаборатории Горного института, где в одной и той же комнате и росли кристаллы, и варился суп, и работал токарный станок, и спали дети. Не было не только лишних вещей, но и вещей остро необходимых. Мои родители, бросив, а частично за гроши распродав обстановку в Москве, приехали на Урал, рассчитывая получить хотя бы самое необходимое из мебели, но в течение двух лет так ничего и не получили. Не было ни кроватей, ни даже матрацев. Столы, топчаны, табуретки папа сделал сам. Кстати, он делал настолько– хорошо, что у нас до сих пор сохранилась одна из его табуреток, отлично выдерживающая конкуренцию с новыми.
Когда в 1921 г. прямо в помещении лаборатории родилась моя сестра Елена, то ее «поселили» в бельевой корзинке, в которой она лежала до года. Теперь трудна поверить, как трудно мы жили в те годы. Посуды не было, пищу варили в химических колбах. Получение по ордеру эмалированной кастрюли было событием, запомнившимся на всю жизнь.
Может показаться странным, что я пишу о том, чему была свидетелем, будучи совсем маленькой девочкой. Конечно, я многого не понимала, но интуитивно чувствовала общий настрой семьи. Была увлеченность работой, совершенно полная и бескорыстная самоотдача. Я видела своих родителей в непрерывном труде и радовалась тому, как все кругом постепенно преобразуется. Вот, папа сделал витрины и раскладывает в них кристаллики. У меня уже есть любимая витрина с голубыми аквамаринами!
Отец начал читать курс лекций по кристаллографии. Часто он сопровождал свои лекции показом различных дифракционных эффектов через проекционный фонарь. Ради того, чтобы посмотреть красивые картинки, я высиживала целую лекцию, все время волнуясь, как бы папа не забыл их показать. Думаю, что красота кристаллов пробудила во мне художника. Часто после лекций отца раздавались аплодисменты – студенты любили своего– молодого профессора.
Уральские студенты тех лет порой поражали своей невоспитанностью и внешней грубостью, но по существу были очень отзывчивыми и сердечными людьми. Зная, как голодает наша семья, не имея связи с деревней, студенты делали нам маленькие подношения: один привезет из деревни баночку меда, другой – пакетик муки и тому подобное. Делалось это не из подхалимства, подчас неуклюже, но всегда искренне. Отношения между родителями и студентами были очень простыми и дружественными. Многие студенты добровольно помогали в организации лаборатории. За полтора года она была обставлена мебелью, оснащена чертежами и другими наглядными пособиями. Отцу приходилось затрачивать много энергии на приобретение нужного оборудования и приборов. Из одного письма мамы я узнала, сколько усилий он затратил, чтобы получить из Петрограда гониометр, как добивался он средств для покупки токарного станка, как летом 1921 г. ездил в Кунгур за химической посудой, весами, паяльниками и другими приборами. Все это дало возможность приступить к работе по кристаллизации.
Большую помощь во всех делах и начинаниях оказывала <>тцу его жена, друг, преданный единомышленник – Ольга Михайловна Шубникова (урожденная Лебедева). Она была человеком большой души и сильной воли, всегда выдержанная, доброжелательная к людям. В ней ярко проявлялось сознание общественного долга. Для нее были характерны чувство справедливости, бескомпромиссность, честность, принципиальность и бескорыстие. Многие из окружавших считали ее «самым партийным человеком среди беспартийных». Бросив в Москве дом со всей обстановкой, она обрекла себя на жизнь полную трудностей и лишений, но никогда не пожалела об этом. Она всецело была поглощена идеей организации кристаллографической лаборатории. С 1 января 1920 г. по 1 мая 1925 г. Ольга Михайловна работала в Уральском горном институте в должности преподавателя по минералогии.
При всех трудностях жизни мама никогда не раздражалась и умела гасить вспышки гнева, которые бывали у отца при виде всякого рода несправедливостей.
В 1923 г. мы наконец получили квартиру на Усольцевской улице (ныне улица Сакко и Ванцетти). Одноэтажный каменный дом, куда мы переехали, был окружен садом, за ним огород, баня. У нас появились свои огурцы, помидоры, ягоды. Жизнь стала легче.
Осенью 1924 г. родился брат Миша. К тому времени у моих родителей появилось много друзей среди преподавателей университета – тогда молодой и веселый народ. Решили вместе жить летом одной колонией. Для этой цели в глухой деревушке Коптяки в 17 км от города сняли подряд несколько домов, которые стояли на берегу озера. Деревню полукругом обступал вековой бор со множеством белых грибов, которые почему-то местные жители не собирали. В Коптяках вся наша колония купила большую красную плоскодонку, на которой дети плавали на любимый островок «кораблик». Вечером к нам приплывали родители.
Среди уральских друзей, живших в Коптяках, особенно близкими нашей семье были Стромберг-Воробьевы, Рогаткины, Бушковы, Горины, Мокрушины, Сеговы, Гапеевы. Дружба эта, переданная по наследству детям, перешла теперь в третье поколение.
Любимой игрой наших пап в Коптяках была игра в городки, которая каждый вечер собирала всех на поляне. Часто устраивались коллективные пикники. Проводили их на природе, с самоваром и пирогами с ягодами. Все эти мероприятия устраивались вскладчину. Не помню в то время у нас на столе вина – наверное его просто и не было, зато славились наши «фирменные» соленые огурцы, приготовленные папой со всякими специями (эстрагоном, другими травками и листьями). Ко всяким праздникам обычно готовили пельмени. В этой работе принимали участие и дети. В то время хлеб не продавали, его пекли сами. Может быть, этим объясняется, что у нас часто бывали пироги с тем, что было в доме, например с творогом или картошкой.
Запомнилось мне, как праздновали папин день рождения в 1924 г. За столом собралось много гостей и по команде тамады в руках у всех появились фунтики с изюмом. После стихотворного приветствия, которое кончалось бесхитростными, но очень понравившимися мне словами: «Живи, Алеша, много дней и вспоминай своих друзей!» – папе в руки полетели пакетики с изюмом, а он стоял и растерянно улыбался. Дело в том, что папа очень любил изюм, который в то время был большой редкостью.
Организовывались у нас дальние походы и экскурсии, например поездка на лошадях в лес, в район деревни Липовки, для сбора черники. Этой ягоды было так много, что ее собирали ведрами, причем норма на человека была два ведра в день. Ягоды ссыпали в ящики, поставленные на самодельные тачки. Папа собирал чернику оригинальным способом, лежа на животе. В сушеном виде черника выручала нас в течение нескольких лет. Однажды ездили в горы за кварцем. Всю обратную дорогу я «ехала» на шее у отца. Прекрасные воспоминания остались от пикника на Белинковской мельнице, где в светлом березовом лесу в густой траве росла удивительно крупная земляника. Часто мы ходили на «Каменные палатки». Теперь это место находится в черте города Свердловска, а в 20-х годах кругом был густой лес.








