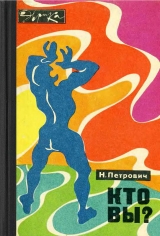
Текст книги "Кто вы?"
Автор книги: Николай Петрович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 13 страниц)
Но история человечества неопровержимо свидетельствует этот факт. Она, по существу, и есть история классовых баталий угнетенных и угнетателей.
Более того, эти баталии продолжаются и сегодня. Совсем недавно, каких-то 50 лет назад, было наконец уничтожено позорное пятно эксплуатации лишь в одном из государств Земли. За это время к нему присоединился ряд других народов. На планете образовались два лагеря.
В лагере свободного труда, где все решают сами труженики, обитает около трети всех жителей планеты. Они образуют лагерь социализма.
Ему противостоит лагерь капитализма. Здесь осталось все по-прежнему.
А религия? В первом лагере она потеряла опору, держится лишь на пережитках в сознании людей и доживает свой век. А во втором она по-прежнему служанка власть имущих.
Но лагерь эксплуатации обречен. Это неопровержимо доказано и теорией, и практикой землян. Эксплуатация неизбежно рождает труженика – своего могильщика. А не рождать не может. И труженик неминуемо сотрет все неравенства между людьми. На нашей планете снова настанет золотой век. Но на неизмеримо более высокой социальной и технической основе.
А как на других обитаемых мирах? Везде ли мыслящие существа проходят столь тернистый путь к свободе или такой удел достался только землянам?
Если будет контакт с иными мирами, то и эта тайна будет раскрыта.
Большие пятна подсказывают нам, что развитие человечества идет не по прямолинейному пути прогресса. Оно совершает большие зигзаги под действием злых тормозящих сил. Но людская лавина в конце концов сметает все это и уносится вперед, вперед, вперед…
Стоп! Так как автор не собирался углубляться в анализ больших мрачных пятен истории землян, то на этом кончим.
МЕЛКИЕ. Для начала, читатель, взглянем на нашу планету издалека, из космоса. В хорошую подзорную трубу мы увидим, что некая сила заставила многих обитателей планеты скопиться и жить в отдельных точках поверхности Земли. Там образовались гигантские человеческие муравейники. Скученность в них невероятная. На небольших клочках земли умещается по нескольку миллионов человек. Жилища их лепятся друг к другу. Громоздятся вверх на много десятков метров и углубляются в землю. Между ними оставлены лишь узкие просветы для движения.
Пришельцы из других миров, увидев Землю, наверное, дадут ей обидное название «Планета муравьиных куч». И у них будут основания для этого.
Кучи имеют даже свою атмосферу.
Чем дышит житель города-гиганта? Во-первых, это, конечно, выхлопные газы автомобилей. Волны бензинового газа бушуют в муравейнике. Во-вторых, это дым и копоть заводов, потоки пыли. Рекорды бьет в этом смысле самый крупный муравейник – Нью-Йорк. В него уже наползло 15 миллионов обитателей. Что будет дальше?
В этой куче, например, из воздуха за год выпадает на бедные головы жителей 1,4 миллиона тонн только окиси углерода и 200 тысяч тонн пыли и сажи, не говоря уже о многих других «дарах» его нежно-голубого неба.
Конечно, все это не проходит бесследно. Дайте горожанам чистый воздух полей, лесов и гор, и они выбросят за борт многие свои недуги, они будут творить и радоваться жизни куда лучше…
Людские муравейники расползаются, как каша, во все стороны, поглощая все новые площади нетронутой природы, и как гигантский магнит втягивают в себя новые массы людей. Правда, уже сделаны первые усилия остановить этот процесс. Особенно они заметны в социалистических странах. Это зеленые города-спутники, научные центры и заводы среди лесов и полей, ограничение роста населения городов.
Но пойдем дальше и скажем несколько слов об образе жизни обитателя нашей планеты.
Для всего пути в миллионы лет от дриопитека до современного человека, если исключить крохотный последний участок, характерна высокая физическая активность. Тут и изготовление орудий труда, и охота, и защита от врагов, и земледелие, и скотоводство, и т. д. Нашего предка этого периода по праву можно назвать «человек динамический» – Homo dinamicos!
Но что же случилось на последнем участке? А случилось вот что. Умственная деятельность стала теснить физическую. В этом смысле «роковым» было изобретение азбуки и начало книгопечатания. Опыт человечества стал накапливаться в книгах и передаваться как эстафета от поколения к поколению. Появилась армия тех, кто пишет, и во сто крат большая армия, которая все это читает и изучает (и конечно, нещадно критикует).
Боец такой армии, численность которой все время нарастает, работает, как правило, сидя. Мысль у него действительно временами очень динамична, но вот тело все время статично. Так появляется новый вид – «человек статический», или Homo staticos.

В современном мире эта разновидность человека стала очень популярна. Два основных фактора этому способствовали. Первый – увеличение роли науки в современной жизни. На нашей планете имеются сейчас сотни тысяч, а может, и миллионы очагов науки. В них человек статический. Он сидит и думает, читает, считает, пишет, чертит, дремлет…
Второй фактор – это автоматизация процессов труда. Очень многое уже делает машина, а еще больше – будет делать. Человек опять-таки только сидит у пульта, наблюдает за приборами, нажимает кнопки.
Если бы человек сидел только на работе, было бы полбеды. Но ведь он сидит (или стоит) часа два ежедневно в городском транспорте. Сидит в кино, театре, на собраниях, конференциях… Наконец, у человека сидячего в последнее время появился могучий покровитель – это… телевизор.

Итак, по мере развития земной цивилизации человек все больше передает функции физического труда машинам. Это невиданно повысило производительность труда, облегчило жизнь, создало комфорт, но изменило привычные условия существования. Грубо говоря, 99 процентов времени своего развития человек был динамичен, в поте лица добывая хлеб свой. А оставшийся процент своей истории (то есть последние 10 тысяч лет) он быстро становится человеком статическим, что противно естеству человека, всем 99 процентам предшествующей истории. И мы платим за это дорогую дань: и активизацией ряда болезней, и снижением творческой активности, и плохим настроением, и головными болями, и бессонницей…
О Homo staticos! Ты можешь зачахнуть без движения! Больше динамики! Используйте любые пути: физическую работу, утреннюю зарядку, ходьбу, спорт…
Какие же еще выхватить пятна из коллекции «мелких человеческих»?
Никак нельзя обойти ядовитое зелье – древнейшее изобретение землян. Если его хлебнуть как следует, то одним махом перечеркивается весь путь эволюции от животного до Homo sapiens’а. Мозг выходит из строя. Пьяное существо отбрасывается снова на миллион лет назад, и перед вами животное, иногда очень злое.
Или вот, полюбуйтесь: землянин, сознательно загоняющий в себя дым и копоть. Став рабом привычки, курильщик с упоением коптит свои внутренности – легкие, дыхательные пути, желудок…
Дальнейшее изучение пятен, я думаю, читатель при желании может продолжить вполне самостоятельно. Коллекция обширная. Экспонатов много. Их можно видеть, даже не прищуривая глаз, как это рекомендует делать мудрейший Козьма Прутков.
* * *
Пожалуй, достаточно о пятнах. Не перегнуть бы палку, не очернить бы излишне дорогого собрата землянина – труженика, творца, создателя многоликой цивилизации с лабиринтами науки, техники, искусства…
Миллионы лет жесточайшей борьбы за свое существование не прошли для человека даром. Они выработали неугасаемую потребность дальнейшего совершенствования своего сообщества и себя самого. Вот почему свет человеческого разума неизменно уничтожал и уничтожает эти мрачные пятна.
Социальные неравенства, эксплуатация, войны – все это скоро исчезнет с лица Земли и не будет больше позорить ее обитателей. Треть обитателей планеты – социалистический лагерь – уже идет по этому пути. Мелкие же пятна тем более канут в Лету.
Человек найдет способ вырваться из каменно-асфальтовых джунглей с прокопченным небом, куда он сам себя заковал. Он снова вернется в лоно породившей его матери-природы, но не пещерным жителем, поклоняющимся огню, а властелином сил природы.
Умственный труд перестанет теснить физический. Человека статического, проводившего почти всю свою сознательную жизнь… сидя, будут показывать деткам в музее. Будет найдена и воплощена в жизнь золотая формула гармонии физического и умственного труда.
Ну, а что касается тех землян, кто любил время от времени отбросить себя, выключая мозг обильным употреблением ядовитых зелий, в животное царство, то боюсь, что их даже не станут показывать в музеях будущего. Они будут храниться в совершенно секретных отделах (это будет единственное, что там останется).
Наверное, все это уже где-то достигнуто. Гармоничный носитель некой игрек-цивилизации, почти лишенной пятен (совсем без них, наверно, очень уныло, да и невозможно), разгуливает где-то в космосе, а может, радирует нам, как они «дошли до жизни такой».
Закон неизменного, пусть зигзагообразного, прогресса, действующий в сообществе землян, справедлив не только на нашем осколке материи. Вся мыслящая материя, по-видимому, должна ему подчиняться.
В самом деле, ведь сознание у живой материи возникает только в результате длительной, невероятно напряженной борьбы за существование. Именно в этой борьбе формируется такой разум, который принципиально не может успокоиться на достигнутом, а должен идти вперед.
Все это и должно приводить к возникновению в космосе высокоорганизованных сообществ, сверх– и суперцивилизаций.
И нам еще предстоит краснеть за свои пятна и пятнышки, когда придется контактировать с инопланетянами.
У финишной ленточки
Довольно мы путем одним
Бродили по свету. Поздравим
Друг друга с берегом. Ура!
Давно б (не правда ли?) пора!
А. Пушкин
Вот наконец и желанная ленточка. На старте дистанция казалась легкой и простой. В пути было всякое. Временами местность становилась очень пересеченной или болотистой. Дыхание начинало сбиваться. Мелькала мысль: не сойти ли с дорожки? Но тут выручали друзья-болельщики. Иногда они бежали рядом, читая написанные куски. Сыпались вопросы и замечания по тексту, а некоторые абзацы вызывали улыбку и искренний хохот. Все это и было главным допингом на дистанции. За это друзьям низкий земной поклон.
Затем начало устанавливаться второе дыхание. Бежать стало легче. Я начал вырываться из плена длинных и скучных словесных формул, столь принятых в научных статьях и книгах. Стало стыдно за ту сухость и казенность, которая обычно царит в научной литературе. Ведь научный поиск – это захватывающая романтика! Но ее и на порог не пускают в научную литературу.
Раскроем первый попавшийся под руку учебник. Он должен увлечь предметом, раскрыть его тайны, сообщить много фактов и мыслей. А там часто сплошная скука. История открытий излагается, как ведомость на зарплату: имена – даты, даты – имена… Запоминающийся образ или веселая картинка считается смертным грехом. Их безжалостно вычеркивают редакторы, которые при этом искренне убеждены, что творят доброе дело, очищая науки от скверны.
В пику им захотелось написать «антиучебник» по передаче сигналов – образный и смешной. (Но кто его издаст?)
По мере роста кипы исписанной бумаги стали появляться новые попутчики в беге. Это были «зеленые человечки» – обитатели других миров – разные птахи и зверята из текста и, конечно, чертенок-помеха. Затем к нам примкнул наш прародитель – дриопитек. Я подружился с ними. Особенно, как ни странно, с чертенком.

Этот грозный враг космических связей однажды нагло явился ко мне. Уже не помню, было это наяву или во сне. У нас состоялась почти дружеская беседа. Вот она:
Я. Когда, наконец, вы, чертята, перестанете забивать шумом все земные приемники? Когда дадите возможность нам услышать глас своих собратьев?
Он. Так вы ведь сами нам помогаете мешать!
Я. Как так?
Он. Было время, когда мы думали, что наша песенка спета. Вооружение людей против нас непрерывно нарастало: остронаправленные антенны, узкополосные приемники (куда пролезть нам труднее, чем в игольное ушко), схемы, вычитающие нас, схемы, компенсирующие нас, схемы, подавляющие нас… Мы пали духом. Наши поэты стали уже слагать лебединую песнь. Но тут случилось чудо. Гордый дух помех возродил один землянин.
Я. Немедленно назови его!
Он. Это хорошо известная личность – академик В. Котельников. Его теория потенциальной помехоустойчивости стала основой нашей неофилософии.
Я.???
Он. Ведь он нас спас. Им было строго доказано, что нас полностью уничтожить нельзя. Сделал он это очень изящно и просто. Нашел уравнение идеального приемника, лучше которого принципиально ничего быть не может. Затем показал, что даже этот «идеальный приемник Котельникова» может лишь частично ослабить, сгладить, скомпенсировать нас. Но полностью уничтожить не может. Значит, жив курилка! Значит, жив чертенок!

Я. А вы этого не знали?
Он. Конечно, нет. Мы наивно верили землянам. Наши агенты нашли в земных патентных библиотеках кучу изобретений, гибельных для нас. Например: «Стенод – приемник без помех»; «Схема полного уничтожения помех»; «Фильтр – пробка, закрывающая путь помехам».
Я. Кто же, по-вашему, по-чертовски, прав – В. Котельников или изобретатели?
Он. Конечно, В. Котельников. Ведь изобретатели, движимые фанатической верой в свою идею, ухитряются иногда патентовать методы и устройства, противоречащие законам физики. Примеров много. Ну хотя бы позорно выданные когда-то землянам патенты на вечные двигатели.
Я. Значит, с появлением теории идеального приемника вы упиваетесь своей непобедимостью?
Он. Был такой блаженный период.
Я. Был?
Он. Да. Но потом качели, на которых мы сладко качались, рухнули. Их сломал тоже человек.
Я. Кто этот разрушитель?
Он. Клод Шеннон, создатель теории информации.
Я. Разве он опроверг В. Котельникова?
Он. Вовсе нет. Но он совершил более ужасный шаг.
Я. Какой же?
Он. Доказал, что мы – шумы – являемся лучшим носителем информации и всяких прочих сигналов.
Я. И это вас оскорбило?
Он. Конечно. Мы всегда маскировали, искажали, кусали, рвали на части всякий сигнал. А тут извольте на своем горбу тащить за тридевять земель информацию, да еще наилучшим из возможных способов.
Я. А вы не тащите!
Он. Мы пытались. Но человек начал сам фабриковать шумы. Первым был Хафмен. Он показал, как с помощью десятка полупроводников можно отлично синтезировать шум, точнее, его подделку – псевдошум.
Я. У вас появились собратья. Вы должны быть рады.
Он. И не подумаем. До этого мы были индивидуальны. Как нет двух людей, в точности похожих друг на друга, так и не было двух точно похожих шумов во всей вселенной.
Я. А теперь?
Он. Теперь сколько схем Хафмена соорудит человек, столько можно получить абсолютно точных копий шума. И этим схемам даже не обязательно стоять рядом; их можно разнести по всей Метагалактике, и все равно их шумы будут точные копии. Яркая индивидуальность наша гибнет.
Я. Ну и что?

Он. А то, что поставь один такой инкубатор шума на передаче, а второй – где-то на приеме, и мы полные рабы. Выхода уже нет – тащи тяжкий груз информации. И самым безжалостным способом. Например, при передаче посылки Да бежишь на ногах. Но при посылке Нет тебя ставят вверх тормашками (вы это называете умножение шума на минус единицу). Так и бежишь на руках вниз головой до следующей посылки Да. Ведь вы так и нарисовали нас в книжке – то на ногах, то на голове. Разве не обидно, когда тебя так кувыркают?
Я. Конечно. Но ведь и люди иногда стоят на голове. Например, клоуны в цирке или йоги на зарядке.
Он. Так это только единицы, и по доброй воле. А нам всем грозит такой удел, и совсем не по собственному желанию.
Я. Так как же с «ау!»? Позволите услышать друг друга обитателям разных миров?
Он. Откровенно?
Я. Да!
Он. Мы отступаем. Мощь вашего голоса растет. Схемы приемников – их именуют оптимальными – становятся для нас сложными лабиринтами с очень узкими щелями. Мы все бока ободрали в них. Для нас они антиоптимальные. Наконец, что делать, когда встречаешь своего собрата, несущего на горбу вашу информацию? Не будешь ведь колоть его шпагой, как тореро быка?
Я. Значит, дадите?
Он. Наша беда в том, что время работает не на нас: мы только шумим, шумим, шумим. И все одним и тем же старым способом. Совсем не совершенствуем свою вредительскую технику. А в человеке сидит некий зуд изобретательства. Он все время улучшает и технику передачи, и технику приема. У нас дела даже хуже, чем у черепахи, за которой гонится Ахиллес. Наша черепаха просто стоит на месте. Вы когда-нибудь кончите изобретать новое?
Я. Никогда. Уж так нас выпестовала матушка Природа. Как пища утоляет голод желудка, так открытие неизведанного утоляет голод разума. А голод надо утолять! Усвоил эту истину?
Он. Да.
Я. Какой же ты сделал вывод?
Он. Плохи наши дела. Нет у нас шумовой перспективы.
Я. Значит, будет радиоконтакт?
Он. Да-да-да-да! Вы же сами это отлично знаете. Ну, мне надо бежать.
Я. Куда?
Он. Пока вы нас совсем не придушили, надо спешить шуметь, шуметь, шуметь!
И он исчез. А мы вернемся к нашему кроссу. Мы с вами, многострадальный читатель, побывали в большом космосе, в стране колебаний и волн, взвешивали шансы радиоконтакта, путешествовали к истокам жизни на нашей планете, пытались заглянуть в сущность, разумного существа нашей планеты… Каков итог? Попробуем его кратко сформулировать.
Наблюдаемая вселенная есть некое гигантское, почти пустое пространство, в котором очень редко и очень хаотически разбросаны скопления материи. Это как бы города вселенной. Их называют галактиками. Главные обитатели этих городов – звезды; те самые голубые огоньки, которые дружески нам мигают ночью. На самом деле это огнедышащие газовые шары. Вы «легко» можете представить себе, сколько их всего. Напишите единицу и к ней припишите двадцать один нуль. В краткой записи это 1021. У многих звезд есть… дети. Это их вечные спутники – планеты.
Звезды, как и жители земных городов, тоже проходят неизбежный цикл: рождение – развитие – смерть. Только иные масштабы. Человек живет, округляя, сто лет. Звезды живут миллиарды лет. Типичная смерть для звезды – превращение в небольшое, очень плотное холодное тело – «черный карлик».
Дети-планеты обладают, естественно, ничтожными массами по сравнению со звездой-прародителем. Поэтому они и остывают во сто крат быстрей.
Создается ситуация, благоприятная для зарождения жизни. Планета, как хорошо испеченный колобок, покрывается толстой корочкой. Она подогревается изнутри своим огненным ядром, а снаружи ласковыми родительскими лучами.
Но живые клетки – очень капризная штука. Для их существования нужны строгие условия: вода и воздух, не очень жарко, но и не очень холодно…
Учет всех этих условий проводился многими учеными. Получены разные данные, и средней является такая: из миллиона звезд только на планетах одной из них возникают условия для зарождения жизни. Но ведь природа ставит гигантское число опытов. Только в нашей Галактике число звезд составляет 100 миллиардов. Взяв от этого числа одну миллионную, получаем внушительное число 100 тысяч. Таково число звезд, у которых могла зародиться жизнь. Сто тысяч очагов жизни только в нашем сгустке материи!
Но как возникает из мертвой материи живая? Пока есть только гипотезы. По одной из них это делает Его Величество Случай. В «теплом, густом, соленом бульоне» непрерывно творятся миллиарды миллиардов случайных комбинаций молекул. И вот однажды возникает такая, которая способна воспроизводить себя. Она передает это свойство последующей, та – следующей…
Возникает удивительный бессмертный конвейер. Тут действуют свои законы. Главные из них – это борьба за существование, или естественный отбор, и мутации, или изменчивость видов. В результате их действия биологический конвейер усложняется, приспосабливается к меняющимся условиям существования, совершенствует свою организацию.
Звезды, как и люди, имеют разный возраст. Есть юные, есть зрелые и есть затухающие. Возраст нашей Галактики около 20 миллиардов лет.
Наше Солнце прожило около трети своей жизни – 5 миллиардов лет; земля чуть меньше – 4,5.
Биологический конвейер возник на ней около 3 миллиардов лет назад. За это время он дал тысячи разных видов. И только один из них привел к возникновению разумного существа – Homo sapiens’а.
Что же могло произойти на остальных ста тысячах очагов жизни нашей Галактики?
Во-первых, начало зарождения жизни на разных планетах может иметь разброс от малых отрезков времени до миллиардов лет.
Во-вторых, темп эволюции на планетах разных звезд различен. Он зависит от большого числа факторов, многие из которых еще не разгаданы нами.
Как мы видели, даже на одной планете, называемой Землей, эволюция идет неравномерно и имеет разную скорость для различных видов.
Миллион лет потребовалось на эволюцию предобезьяны – дриопитека – в человека. С другой стороны, амониты – морские ракушки – мало изменились за последний миллиард лет. Муравей остался почти таким же, каким был около 200 миллионов лет тому назад.
Оба эти фактора – разброс моментов зарождения жизни и различие темпов эволюции – указывают на великое различие возможных уровней развития жизни во вселенной. Тут могут быть все состояния, начиная от простейших живых одноклеточных и кончая сверхцивилизациями. Последние могли шагнуть так далеко, что стали повелителями и своей звезды, и ряда соседних.
На нашей планете только благодаря труду появился разум. Тут действовала распространенная в природе обратная связь. В процессе труда совершенствуется тот, кто трудится. Это повышает эффективность его труда, а следовательно, и силу обратного воздействия.
По-видимому, в любых условиях эволюции разум может появиться только как результат длительного труда многих поколений. В процессе труда формируются органы труда. У нас это руки, мозолистые руки трудового человека. (С появлением армии работников умственного труда функции рук стали явно мельчать. Осталось лишь движение карандаша или пера по бумаге, удары по клавишам пишущих или счетных машин, движение визира по счетной линейке…)
Почему у дельфина плавники не трансформировались в органы труда? Наверно, не было в том острой необходимости в борьбе за существование. В морях и океанах пищи вдоволь. Для ее обнаружения эволюция снабдила их ультразвуковым локатором. Этого оказалось достаточно, чтобы не появился «дельфин разумный».
Почему осьминог не переселился на сушу и не стал творить чудеса своими восемью щупальцами, с десятками присосок на каждом? Тоже, наверное, не было необходимости и подходящих условий.
Уже из этих земных примеров следует, к каким различным видам разумных существ могла привести эволюция в других мирах. Невзирая на это, этапы технического прогресса должны быть схожи. Ведь повсюду во вселенной действуют одни и те же физические законы. На некотором этапе своего прогресса та или иная цивилизация овладевает радиоволнами, космическими полетами, кибернетическими устройствами.
Как мы видели, есть три пути установления контакта между цивилизациями. Это прямой контакт, робот-контакт и радиоконтакт.
Гигантские космические расстояния и ограниченность скорости движения материальных тел делают первые два вида контактов невероятно трудно реализуемыми – по крайней мере при нашем земном сегодняшнем понимании физических законов и нашей технике сегодня и в обозримом будущем. Остается третий путь: общение путем обмена информацией. Природа подарила нам бесстрашные корабли для перевозки этой информации: радио– и световые волны. У них, правда, есть злейшие враги – это сумма излучений всех небесных тел и межзвездной среды. Этот электрический хаос готов поглотить любой полезный сигнал. Но разум нашел пути борьбы с ним, он отыскал провалы-ямы в космических шумах, где враг номер один не так уж силен. Он создал передатчики огромной мощности и научился излучать огромные волны узким направленным пучком с помощью гигантских антенн. Далее, выбрал «умные» способы наложения полезной информации на волну и ослабил атаку помех на сигнал. Наконец, соорудил колоссальные приемные антенны и оптимальные приемники, которые выуживают слабый сигнал из бушующего потока помех.
Наши расчеты показали, что уже сегодня мы можем прокричать «ау!» ближайшим десяткам звезд. И не только «ау!», но и послать простейшие разумные сигналы.
Но охватить большую сферу своими сигналами где вероятность встретить костер разума более велика, мы не можем, у нас еще кишка тонка. Но она, наверно потолще у тех, кто идет впереди нас. У тех, кто управляет звездами. Они могут не только аукать, а сразу слать сгусток своей полезной информации. Могут поделиться своим опытом в обуздании законов Природы. При этом они могут себе позволить работать не узким пучком, а излучать во все стороны и во многих диапазонах волн: работать в режиме «Всем! Всем! Всем!». Это резко повышает наши шансы услышать их.
К нашему счастью, прием сигналов не требует больших энергетических ресурсов. Тут нужна регулярная служба неба. Нужно много установок и антенны, собирающие по капелькам сигнал из огромного пространства в одну заметную каплю. Нужны приемные установки где собственные шумы, этот внутренний враг контакта, задавлены почти совсем. Нужны вычислительные машины и кибернетические установки, ведущие поиск разумных сигналов на выходе приемников. И конечно нужно развивать теорию межзвездной связи.
Необходимо пытаться предугадать возможную логику разумных существ различных уровней прогресса. Моделировать поиск, обучение и беседы двух цивилизаций на вычислительных машинах. Землянам уже сейчас целесообразно учредить кафедры межзвездной связи в некоторых учебных заведениях. Молодые умы еще не скованные традициями земной науки и техники смогут лучше нащупать логику иных цивилизаций и сверхцивилизаций, смогут ускорить решение основной проблемы.
Среди читателей будут, вероятно, и те, кто ищет точки приложения своим молодым силам в науке. Если хоть небольшую часть из них увлечет написанное и они направят свои силы на поиск путей установления радиоконтакта, то усилия автора на дистанции были не напрасны.
Но бег затянулся. С момента старта наша планета совершила уже полный оборот вокруг своей звезды и пошла на второй. Пора кончать. Вот и показалась ленточка. Друзья радостно машут. Последние метры. Последние буквы…
Финиш!







