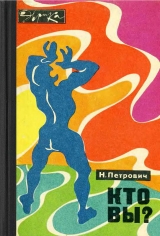
Текст книги "Кто вы?"
Автор книги: Николай Петрович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Глава III
Цивилизации X и Y ищут друг друга

Тот, кто верой обладает в невозможнейшие вещи,
Невозможнейшие вещи создавать и сам способен.
Гёте
Оптимист против пессимиста
(Начало спора)
Пессимист (П). Это верно, что ты формируешь группу астрономов, физиков, математиков для поиска радиоконтакта с внеземными цивилизациями?
Оптимист (О). Да.
П. Меня магнитом тянет к вам, но одолели сомнения. Не загубить бы безрезультатно «все лучшие годы». Что вы собираетесь делать?
О. Строить радиомост к ним через космическую бездну. Даже два моста. Один будет из формул, графиков, расчетов, догадок, гипотез. Второй – в железе: гигантские антенны, почти бесшумные приемники и мощнейшие передатчики, обучающиеся инопланетной азбуке киберы…
П. А на той стороне бездны кто-нибудь есть?
О. Где-то на далеких планетах вселенной жизнь бьет ключом. А человек стал таким умным: овладел радиоволнами, научился их принимать и передавать, выдумал кибернетику… Сама спираль развития толкает нас к радиоконтакту. Что нам мешает установить его? Навести радиомост к ним?
П. А если мы все-таки единственное разумное творение Природы?
О. Прошу тебя, умерь свое величье, представитель племени землян! В наблюдаемой части вселенной мы насчитываем миллиарды миллионов звезд. Вокруг многих из них, прикованные цепями тяготения, носятся планеты. Их тоже миллиарды! И вот ты считаешь, что только на одной из них могло появиться разумное существо? Например, вот такой Фома неверующий? Ты теорию вероятностей признаешь? Признаешь, что она справедлива для вселенной?

П. Ну, допустим, признаю.
О. Тогда скажи, пожалуйста, могли не повториться условия для возникновения жизни при таком невообразимо гигантском, недоступном нашему воображению числе «опытов» Природы? При этом помни: это не разовая серия опытов. Они происходили и происходят непрерывно вот уже миллиарды лет.
Звезды и их планеты живут – рождаются, развиваются, гибнут, творятся вновь и т. д. И это многократно преумножает то великое разнообразие условий, через которое проходят планеты во времени в разных точках космических просторов.
П. Сдаюсь. Помнится, нас учили: почти невероятное отдельное событие может стать весьма вероятным, если число событий очень велико.
Но ведь они могут еще не знать радиоволн. Может, самые бойкие из них только сейчас внемлют своему великому Ому: ток пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению.
Для них радиоволны – что луч света для слепого.
О. Если принять твою гипотезу, то ты прав. Ведь радиомост в отличие от обычного можно навести, только если «радиосаперы» работают по обе стороны разделяющей пропасти.
Но откуда ты взял свою гипотезу? Из болота своего скептицизма? Именно оттуда?
Скажи мне, одинаков ли приблизительно возраст наблюдаемых звезд?
П. Нет, конечно, он различается на миллионы и миллиарды лет.
О. Что отсюда следует?
П. Ты хочешь, чтобы я сделал вывод, что возраст цивилизаций тоже может отличаться на миллионы и миллиарды лет?
О. Конечно.
П. Но ведь время существования цивилизаций ограничено!
О. Чем?
П. Ну хотя бы внутрипланетными войнами.
О. Чепуха! С этим разумные существа справятся. Даже наша юная цивилизация вскоре будет вспоминать войны, как кошмарный сон человечества.
П. Ну, а духовное увядание: все проблемы разрешены, тайн нет, тоска и скука…
О. Ты же сам в это не веришь. Повторяешь чужие слова. Скажи, настанет день, когда мы будем знать Метагалактику как свои пять пальцев? При этом учти, что ее границы человечество будет все время раздвигать.
П. Ты прав. Но по-твоему, время существования племен разумных существ ничем не ограничено?
О. Ограничено. Во-первых, это увядание звезд-солнц. Грубо говоря, замерзание.
Во-вторых, это изменение условий существования – сильное увеличение радиации, изменение климата, например ледниковый период на Земле, и т. д.
В-третьих, это космические катастрофы – столкновения небесных тел.
П. Вот видишь, я же говорил…
О. Постой. Срок жизни звезд измеряется сотнями миллионов и миллиардов лет. За это время цивилизация может достичь столь высокого уровня техники, что завести ей роман с более молодой звездой и прописаться у нее на жительство не составит труда.
Что касается космических катастроф, то вероятность их исчезающе мала!
П. На какой же уровень развития внеземных цивилизаций надо ориентироваться?
О. Кстати, ты слышал о делении существующих цивилизаций на три типа, предложенном советским астрономом Н. С. Кардашевым?

П. Как можно делить то, о чем мы понятая не имеем?
О. Оказывается, можно. Пока, правда, в нашем распоряжении находится только один экземпляр цивилизации, представителем которой, кстати не очень ярким из-за своего скепсиса, являешься ты.
Ты знаешь, что такое экспонента и экспоненциальное возрастание?
П. Экспонента – это известная зависимость Y = ех. При возрастании X (если X положителен) происходит очень резкое, экспоненциальное возрастание Y. Если я не ошибаюсь, по этому закону растет население земного шара в зависимости от времени.
О. Верно. Так вот количество энергии, потребляемое ежесекундно человечеством, растет из года в год по этому закону. За последние 60 лет этот прирост составляет 3–4 процента в год.
П. Ну и что?
О. А то, что если считать годовой прирост равным только одному проценту, то через 3 тысячи лет ежесекундное потребление будет равно ежесекундному энергетическому выходу Солнца! А через 5 тысяч лет – выходу более миллиона звезд. Такова логика развития нашей цивилизации. Она, наверное, справедлива и для других. Невозможно представить развивающуюся цивилизацию, у которой нет регулярного роста потребляемой энергии.
П. Что же предложил Кардашев?
О. Он разбил технологическое развитие цивилизации на три группы.
I – технологический уровень близок к современному на Земле. Энергопотребление приблизительно составляет 4 · 1019 эрг/сек.
II – цивилизация, обладающая энергией, близкой к излучаемой их звездой. Энергопотребление приблизительно равно 4 · 1033 эрг/сек.
III – цивилизация, обладающая энергией в масштабах своей галактики. Энергопотребление приблизительно равно 4 · 1044 эрг/сек.
П. Постой. Дай перевести дух. Как можно завладеть энергией звезды?
О. Например, с помощью «сферы Дайсона».
П. Кто такой Дайсон? Один из безответственной армии фантастов?
О. Нет. Это американский ученый, профессор Принстонского университета. Он дал инженерный расчет, наметил пути построения и порекомендовал материал для сооружения такой сферы.
П. Расскажи скорей.
О. Пожалуйста. Как ты думаешь, что может ограничить движение вперед высокоразвитой цивилизации?
П. Понятия не имею.
О. Ограниченность вещества и энергии, которые может дать планета этой суперцивилизации. Ведь уже сегодня мы добываем один кубический километр руды в год, а завтра… Тут ведь действует тот же закон экспоненциального возрастания.
П. Значит, настанет затухание цивилизации?
О. Опять у тебя темные очки. Дайсон доказывает, что и энергию и вещество разум может добыть.
П. Как?
О. Представь себе, что вокруг Солнца сооружена гигантская сфера радиусом много миллионов километров. Тогда вся излучаемая Солнцем энергия будет обогревать не беспредельный космос, а окажется сосредоточенной в сфере. Она будет принадлежать ее строителям.
П. А из чего сфера? Из полиэтиленовой пленки?
О. Не дури. Каркас сферы можно собрать, например, из стандартных «кирпичей» – стальных стержней длиной один метр и диаметром в один сантиметр.
П. ???
О. Из 12 таких кирпичей сваривается октаэдр. 100 таких октаэдров составляют один элемент второй ступени. Из 12 элементов составляем октаэдр более крупный и т. д.
П. Потребуется бездна вещества?
О. Верно. Для этого можно разобрать нашу старушку Землю на части. Ее обитатели при этом перекочевывают на новое местожительство – на сферу. Можно, конечно, сохранить Землю как дорогой нам сувенир – все-таки колыбель человечества, – а пустить в переработку одну из ближайших планет.
П. Открыть там рудники?
О. Дайсон предложил другой метод. Вещество само будет отрываться от планеты! Строителям останется чисто рыболовная функция – вылавливать эти глыбищи. Более того, он считает, что и звезды могут быть подвластны нам. В случае крайней нужды можно и у них отнять часть вещества. Хватит им поклоняться!

П. Ты шутишь?
О. Отнюдь. Почитай Дайсона. Он показывает, как это принципиально можно сделать. Правда, надо иметь в виду рискованность операции и не погубить бы жизнь смельчаков при отрыве вещества. Но это задача для физиков и математиков далекого будущего. Дерзкие мысли, а?
П. Потрясающие!
О. А ты сомневался, что не будет работы в будущем.
П. Нелегкая будет работа – монтаж такой сферы!
О. Пустяки. Самый трудный – первый шаг – уже сделан. Корабли типа «Союз» стыковались. Есть первые космические монтажники и сварщики: летчики-космонавты Е. Хрунов, А. Елисеев, В. Волков.
Разве есть принципиальная разница в том, что стыковать и сваривать – корабли или октаэдры?
П. Пожалуй, нет. Но, допустим, цивилизация Y (X оставим для себя, все-таки он возглавляет знаменитое трио X, Y, Z) сварганила такую махину. Далеко отодвинула для себя перспективу оледенения планеты. Как же с помощью этой сферы она будет сигналить? Как будет искать контакт?
О. О, это почти элементарно. Натяни на каркас сферы материал с электрически управляемой прозрачностью и мигай себе либо на всю вселенную, либо только в желаемом направлении (это более экономно).
П. Ты так все убедительно описал, будто видел, как не один десяток таких сфер мигает.
О. Не удивляйся. Увы, пока не видел ни одной!
П. Есть, наверное, теория, которая и это логически объясняет?
О. Теорий нет. Причины, почему их нет, могут быть разные. Например, ближайшие к нам инопланетные существа не достигли этого «сферного» уровня, а достигшие его слишком далеки от нас. Наконец, они могли пойти иным путем.
П. Не следует ли отсюда, что наш радиомост к ним так и повиснет в бездне? Не положить ли его проект в долгий ящик?
О. Наоборот. Раз они нам не мигают своими звездами, значит их надо искать в радиодиапазоне.
П. Почему? Я не уловил логики.
О. Да потому, что соорудить мощный и сверхмощный радиопередатчик в миллион раз легче, чем заарканить свою звезду и мигать ею почти как карманным фонариком (и конечно, менее обидно для гордого Игрека – Солнца).

П. Ну, а какой же у них все-таки уровень развития техники?
О. Наверно, всякий. У некоторых еще не родились свои Максвеллы, Герцы, Поповы (их Кардашев явно обидел – даже не выделил им группы). У других этот этап пройден сотни лет назад. Но должны быть и суперцивилизации, отнесенные ко II и III группам. Они обладают гигантскими энергетическими ресурсами и, наверное, давно уже возвели свою часть радиомоста. Он висит в бездне, скучает, удивляется нашей беспомощности и ждет второй половины.
П. Почему же мы их не слышим?
О. Я уже говорил тебе. Повторю: нужна аппаратура на уровне последних достижений радиоастрономии, радиоэлектроники и кибернетики, постоянная радиослужба неба, упорная, кропотливая работа землян и, конечно, вера в успех. Нужна…
П. Значит, ты за голый, ползучий эмпиризм в поисках? А я надеялся…
О. Куда девались твой такт и твоя пассивность? Ты не даешь договорить.
П. Молчу. Внимаю.
О. Параллельно эксперименту надо развивать теорию взаимного радиопоиска цивилизаций: где искать, как искать, как отличить разумный сигнал, как понять их письмена, как… Только содружество этих двух направлений обеспечит разгадку величайшей из тайн Природы.
П. Но ты, кажется, предлагаешь взвалить активные действия на сверхцивилизации, а нам (иксам) помалкивать и слушать затаив дыхание, так? А что, если все так же будут рассуждать?
О. Нет. Я против молчания. Надо закричать, насколько хватит сегодня нашего голоса в просторы вселенной: «Ау! Мы здесь! Кто вы?..» Может быть, нас и услышат.
П. Сомневаюсь, что наше «ау!» долетит до ближайших звезд. А если и долетит, то когда мы получим ответ?
О. Ответ будет не скоро. В лучшем случае через десять лет, а в худшем – значительно позже.
П. Вот видишь! Какой смысл тогда строить мост?
О. А ты знаешь о второй кардинальной идее Кардашева?
П. Разве он нашел способ ускорить получение ответа?
О. Нет. Это, по-видимому, невозможно.
П. Что же тогда?
О. Он считает, что высокоразвитая цивилизация, понимая ситуацию и не дожидаясь ответа, будет слать информацию о себе: социальный строй, познанные законы природы, уровень техники, тайны искусства…
П. Как? Вот так и будут сыпать, как из рога изобилия, все свои секреты? Даже не зная, упадет ли хоть одно зерно на благодатную почву?
О. Конечно! Они же ушли дальше. Они знают, что почва обязательно найдется, что надо сеять разумное… Более того, высказывается мысль, что передача информации от ушедших вперед к отставшим («обратная связь цивилизации» во времени) или уже является, или будет гигантским ускоряющим фактором в развитии разума во вселенной.
П. Меня все же сбил с толку этот гигантский поток информации. Мы или совсем его не обнаружим, или захлебнемся в нем, ничего не понимая, или ухватимся за хвост последней тайны, непонятной без предыдущих.
О. Конечно, будут и простые «ау!», и сигналы для настоящего заочного обучения их азбуке. Только потом посыплются их тайны. И все будет много раз повторяться. Даже больше, чем некоторые старые фильмы по земному телевидению. Ведь это будет разум, ушедший далеко вперед от нас с тобой, худодум!
П. Худодум? Это обидное словечко ты заимствовал у какой цивилизации?
О. У нашей, земной, русской. Так в старину называли таких, как ты; кто обо всем думает только худо. Жаль, что оно забыто.
П. Вот что, «добродум». Я не верю в этот гигантский поток информации, я не верю…
О. Вот что, Фома неверующий, если ты хочешь серьезно вникнуть в задачу, то давай обратимся к основным параметрам нашего радиомоста, к цифрам и расчетам. Только так можно победить твое неверие.
П. Согласен.
О. Предположим, цивилизация X и цивилизация Y пытаются установить контакт. Можно вычислить потребную мощность…
Здесь мы прервем спор. Нам не хватит ряда понятий для его понимания. Мы с ними познакомимся и к спору вернемся снова.
Зарубки на волне
«Я, электромагнитная волна, имею такие-то частоту, амплитуду и фазу. Источник, меня пославший, находится в таком-то направлении. Какой это источник естественный или искусственный – и зачем он меня послал, мне знать не дано…»
Вот та скудная информация, которую может сообщить в точке приема радиоволна в виде синусоидального колебания при самом пристрастном ее допросе.
Заметим в скобках, что волна по скромности кое-что утаила.
Так, наблюдая изменения частоты во времени, можно установить, движется или покоится пославший ее источник. Если движется, то куда – к нам или от нас?
Далее, наблюдая электромагнитную структуру приходящей волны (или плоскость ее поляризации), можно сделать некоторое заключение о характере излучающего устройства.
И наконец, изменение амплитуды, частоты и фазы волны во времени укажут на какие-то изменения, происходящие либо в самом источнике, либо в среде.
Как заставить волну переносить более богатую информацию? Как заставить ее переносить разумные сигналы – телеграфные, телефонные, телевизионные? Для этого на волне нужно сделать некие пометки или зарубки. Первым таким «дровосеком» был А. С. Попов. Родоначальница всех телеграмм («Генрих Герц») была нанесена на волну с помощью самых грубых зарубок. Текст был передан с помощью азбуки Морзе. Точкам и тире соответствовало излучение волны, паузам отсутствие излучения.
Перейдем к более сложному сигналу. Вы говорите в микрофон и изменяете тем самым сопротивление угольного порошка, а значит, и величину тока в его цепи. Так речь преобразуется в электрический сигнал причудливой формы. Перенесем этот сигнал на волну. Для этого на ней надо «вырубить» в точности весь его узор.
Для такого же переноса телевизионного сигнала потребуется еще более умелый плотник. Кроме переноса сложного ажурного сигнала изображения, нужно еще ухитриться врубить в волну через равные промежутки времени импульсы синхронизации. Без них луч не начертит правильно передаваемую картинку.

Итак, чем сложней сигнал или чем больше он насыщен информацией, тем более искусно надо делать «зарубки».
Но за это сочное русское слово, от которого буквально пахнет лесом и смолой, автору влетит! Последнее время стало модным объявлять себя ревнителем единой, согласованной, утвержденной, гостированной… терминологии. Поэтому будем не рубить волну, а модулировать (изменять).

На приведенном рисунке модулируется амплитуда волны, и метод называется амплитудной модуляцией. Если в соответствии с передаваемым сигналом менять частоту волны, то получим частотную модуляцию, при этом амплитуда волны остается неизменной.
Мы уже установили, что любое колебание, любая волна имеют два изображения – временнóе и частотное. Это напоминает две стороны одной медали.
На предыдущих рисунках показано изменение формы волны во времени при ее модуляции. А что же при этом происходит на второй стороне медали?
О, частотное изображение волны при модуляции существенно портится! Изображение теряет стройность: из идеала стройности оно превращается в толстяка. И чем большую информацию мы передаем в секунду, тем больше обрастает фигура жиром.

Кстати, синусоидальная волна (или колебание) – предел стройности. Она занимает на шкале частот предельно скромное и предельно экономное место. Если никаких изменений (или модуляции) амплитуды, частоты и фазы во времени не происходит, то теоретически такое колебание должно выглядеть бесконечно тонкой линией на шкале частот. За это его физики любовно называют гармоническим. Но фактически всегда имеются какие-то флюктуации этих параметров, и эта линия выглядит несколько размытой.
Как только мы начнем делать зарубки, простите, модулировать волну, так она начинает агрессию на соседние частотные делянки. Так и должно быть. Ведь сложные модулированные колебания являются не чем иным, как суммой ряда гармонических колебаний с разными частотами, амплитудами и фазами. Эти колебания являются обязательными спутниками несущей частоты или переносчика. Спутники появляются, как только появляется модуляция. Вот они и совершают агрессию.
Любопытно, что эту истину доказал французский математик Жан Фурье задолго до открытия радиоволн. Более того, он разработал простой математический аппарат – знаменитый ряд Фурье, – с помощью которого можно любое модулированное колебание разложить на сумму гармонических. Из этого разложения сразу следует, какой частотный участок будет захвачен при модуляции.
Я не знаю, что делали бы диссертанты и докторанты, если бы не спасительное открытие Жана Фурье. Без преувеличения можно сказать, что почти ни одна диссертация в области технических наук не обходится без его метода: сложные колебания и функции разлагаются на простые, трудные интегралы расчленяют на доступные и т. д.
Совет «попробуйте разложить в ряд Фурье» стал универсальным щитом консультантов, когда нет возможности или желания вникнуть в суть неполучающейся задачи аспиранта.

Итак, чем большую информацию мы хотим взвалить на волну, тем больший частотный коридор надо отвести этой волне. И тем большую полосу частот должен охватывать приемник для приема этой информации.
Или, как образно говорят практики, чем больше информации передается в единицу времени, тем шире должно быть «горло» приемника. А чем шире горло, тем, конечно, и больше всяких помех в него проникает.

Но нам пора от сигналов переходить к системе связи, то есть к совокупности элементов, позволяющих передать информацию из одной точки пространства в другую. В природе и технике мы сталкиваемся с великим разнообразием систем связи.
Казалось бы, что общего между передачей телевидения, танцем пчелы, сообщающей этим способом, куда лететь на сбор меда, импульсами радиолокатора и прерывистым излучением пахучего вещества бабочкой, служащего для привлечения зрелых особей противоположного пола?
Немного отвлекаясь, заметим, что «пробивная сила и дальнобойность» этих нежных ароматических систем связи просто поражает. Зарегистрирован случай, когда за одну ночь возле единственной самки большого ночного павлиньего глаза было поймано 125 самцов. Самка находилась в темной комнате. Самцы по запаху слетались со всей округи и через открытое окно проникали к ней. После того как окна закрыли, кавалеры продолжали проникать через дымоход старой печки.
И меж тем передача информации во всех названных системах связи происходит по одним и тем же общим законам.
Впервые единство процессов управления и передачи информации в технике и в живых организмах было показано в работах Норберта Винера и Клода Шеннона.
Сейчас это почти общеизвестно. А при первом чтении их работ буквально дух захватывало от неожиданно нового и широкого взгляда. Смело перебрасывался мост между техникой и живой природой. И надо было идти по нему в природу и учиться у нее, как хранить, передавать и принимать информацию, как строить адаптивные системы, легко приспосабливающиеся к меняющимся условиям. Это «хождение в природу» наблюдается и сейчас.
Упрощенная модель любой системы связи, в том числе и для связи цивилизаций X и Y, представлена на нашем рисунке.
Из источника в передатчик поступает сообщение, которое нужно послать абоненту. В передатчике создается тот или иной вид переносчика, на который «взваливается» (путем модуляции) информация. После усиления до нужной (или возможной) мощности полученное сложное колебание излучается в окружающую среду с помощью антенны. Возникающая волна или сигнал, пронизывая межзвездные просторы, достигает приемной антенны и воспринимается приемником. Последний усиливает принятый сигнал и производит разгрузку переносчика. Этот процесс, обратный модуляции, именуется детектированием и производится детектором (обнаружителем). В последнее время это слово приобрело за рубежом зловещий смысл в связи с применением при допросах так называемых «детекторов лжи». Ими контролируют пульс, давление крови, ритм дыхания и потоотделение. Апологеты этого прибора утверждают: если человек врет, то под давлением совести и эмоций произойдет резкое изменение хотя бы одного из этих параметров. Фактически такой связи не установлено. Но зато замечено, что подключение такой адской машины к человеку отлично его запугивает и сбивает с панталыку. Этим и пользуются. Наш же детектор – добросовестный разгрузчик информации – ничего общего с «детектором лжи» не имеет и не хочет с ним знаться.
В детекторе переносчик самоотверженно погибает. Дальнейший путь к получателю совершает доставленное им сообщение.
Но в нашей единой блок-схеме системы связи недостает одного существенного элемента: там не отражен злой гений, который преследует сигнал на всем его пути и наносит ему жестокие удары. Часто эти удары наносятся ножом, да еще в спину, и по самую рукоятку. Кто он, этот гангстер среди волн?
Враг номер один
При взгляде на блок-схему связи сразу встает фундаментальный вопрос: на какую дальность может стрелять такая информационная пушка? Всякая волна, раз возникнув в среде, распространяется в ней теоретически беспредельно (точнее, «достигает бесконечно удаленных точек с бесконечно малой амплитудой»). Но из опыта мы знаем, что для всякого источника колебаний (звуковых, световых, радио) имеется предельное расстояние, за которым обнаружить его колебания не удается. В чем же дело? Не обманывает ли нас теория?
Для примирения теории с практикой нужно учесть два фактора. Первый: в среде распространения волн происходит хаотическое тепловое движение молекул и, кроме того, на среду воздействует большое число других источников колебаний, что и создает неизбежный шумовой фон самой среды. Второй: любой приемник колебаний имеет всегда свой уровень собственных шумов. (В этом легко убедиться. Включите приемник, отключите антенну и поставьте регуляторы громкости на максимум: вы услышите шум, похожий на шипение примуса. Это и есть его собственный шумовой фон.) При приеме происходит дружное объединение шумов среды и приемника, а результирующий шум и ограничивает фактическую дальность передачи информации.
Если амплитуда колебаний полезного сигнала становится соизмеримой или меньше уровня фона, то утлая ладья сигнала начинает тонуть в бушующем море помех. Сначала ее только изредка заливает водой, но паруса еще чувствуют ветер источника, и ладья держит правильный курс. По мере удаления от источника сигнал слабеет, волны хаоса шума вздымаются все выше, воду не успевают откачивать, паруса рвутся, рушатся мачты, ладья «без руля и ветрил» становится игрушкой волн шума.

Я не ошибусь, если скажу, что история радиотехники наполовину есть не что иное, как борьба за всемерное увеличение дальности плавания нашей ладьи в волнах помех.
Смею заверить читателя, что этот поединок с хаосом шума, продолжающийся и сегодня, не менее романтичен, чем многовековая борьба человека с морской стихией.
Вспоминаю единоборство двух методов передачи сигналов на радиотрассе Хабаровск – Москва.
Новый метод соревновался с известным. Затаив дыхание, мы следили за приемной аппаратурой в Москве: ведь это был первый «выход в свет» нашего дитяти.
Испытательным сигналом были взяты слова из чудесной песни А. К. Толстого:
Колокольчики мои,
Цветики степные!
Что глядите на меня,
Темно-голубые?..
При сильном сигнале оба метода безошибочно печатали эти вдохновенные строки. По мере снижения мощности передатчика в Хабаровске шумы начали захлестывать сигнал. Старый метод стал давать перебои: помехи превращали «цветики» в «светики», «голубые» в «глупые» и т. д. При еще меньшей мощности песня превратилась в абракадабру. А новый метод продолжал успешно печатать с редкими ошибками.
Трудно описать нашу тогдашнюю радость! Вся группа – застенчивые меланхоличные теоретики, видавшие виды инженеры и техники, юные студенты и прошедшие всю войну радисты – все пустились в пляс. Помехам, мелькавшим в осциллографе, показывали языки и строили рожи, обнимались… Аппаратурный зал преобразился не то в высшую точку труднейшей и красивейшей вершины, взятой после упорного штурма, не то в хоккейное поле, где в последнюю минуту ответственного и пока ничейного матча вдруг каждый из игроков забивает по шайбе в ворота противника.
Образы качающих головой темно-голубых цветиков и стрелой летящего лихого коня еще долго не покидали нас. Передача велась с большой скоростью. Буквы пробивались электрическими искрами на тонкой ленте из фольги. За сеанс связи вырастала гора этой ленты.
Контроль ошибок шел вручную. Каждому доставался кусок ленты длиной почти в километр, на которой слова песни повторялись, повторялись, повторялись…
Теперь уже читателю ясно, что именно помехи ставят предел дальности связи и являются врагом номер один всех систем передачи информации. Они стоят и на нашем пути к радиоконтакту и делятся как бы на «внутренних» и «внешних» врагов. Познакомимся с ними поближе.
Начнем с «внутренних» – с собственных шумов. Возьмем любой кусок металла – пластину, провод, нить лампочки накаливания и т. д. Многие из читателей и не подозревают, что все это отличные генераторы электрического шума. Он возникает в результате теплового движения заряженных частиц, всегда имеющихся в проводнике. Ведь электрический ток есть не что иное, как движение заряженных частиц.
Так как они находятся в непрерывном хаотическом движении, то и создают на концах любого проводника шумовое напряжение. Как показал давным-давно Найквист, это напряжение тем больше, чем выше температура и величина электрического сопротивления проводника. Полоса частот, в которой «шумит» любой проводник, очень широка. Она перекрывает весь радиодиапазон. Более того, интенсивность шума в любом частотном участке одинакова. Поэтому такой шум, кроме теплового, еще называют белым.
Как белый свет есть смесь всех возможных цветов, так белый шум есть смесь колебаний всех возможных частот. Поэтому, чем в большей полосе частот мы измеряем шумы данного проводника, тем больше будет его уровень.
Итак, любой проводник в приемном устройстве: антенна, соединительный кабель, контур, сопротивление – являются генераторами шума.
Казалось бы, есть простой путь уничтожить все эти генераторы шума. Надо лишь охладить их до температуры абсолютного нуля, то есть до минус 273 градусов Цельсия, тепловое движение частиц прекратится и шум исчезнет. Принципиально это верно. Технически же реализовать данную идею удается пока лишь частично.
Наиболее опасны тепловые шумы элементов приемника еще до входа первого усилительного (или преобразовательного) каскада, где сигнал еще очень слаб.
Второй грозный очаг шумовой опасности в приемнике – это сами усилительные и преобразовательные каскады. В них используются такие электронные приборы, как лампы или полупроводники. Усиление или преобразование сигнала в них достигается за счет того, что слабый сигнал управляет более сильным потоком носителей зарядов. Водопроводный кран есть грубая модель таких устройств, – прикладывая небольшие усилия к вентилю, мы успешно управляем мощной водяной струей.
Вся беда состоит в том, что поток носителей зарядов (в лампах – это поток электронов, в полупроводниках – электронная и «дырочная» проводимость) невозможно сделать строго постоянным. Он колеблется вокруг некоторой средней величины по случайному закону, что, естественно, приводит к непостоянству величины усиливаемого сигнала, или, что то же самое, к появлению шума. По своим характеристикам он близок к тепловому.
Шумы этих двух очагов складываются и образуется результирующий шум приемного устройства. Анализ поединка сигнала и помех в приемнике, когда много отдельных источников шума, сложен. Поэтому применяют такой «ход конем»: реальный приемник заменяют идеальным, в котором нет ни единой шуминки, но на вход этого чудо-приемника включают генератор шума. Его мощность берут такой, чтобы он создавал в нашем бесшумном приемнике такой же шум, какой имел реальный приемник. Следовательно, вынос помех на вход вполне допустим – картина «добра и зла» в приемнике от этого не изменяется.
Десятки лет напряжение шума приемника измеряли в микровольтах (миллионных долях вольта). Сейчас оказалось более удобным измерять его в градусах шкалы Кельвина. В паспорте приемника так и пишут: температура шумов равна, скажем, 50 градусам по Кельвину. Что же значат слова «температура шумов»? Разве есть горячий и холодный шум? Или, вставив термометр в приемник, можно измерить его шумы?
Дело обстоит значительно проще. Если температура шумов 50 градусов, то, подключив на вход приемника сопротивление, равное сопротивлению его входа, и нагрев его до температуры 50 градусов, мы и получим тот самый вынесенный на вход генератор шума в виде шумящего сопротивления. Он будет создавать в приемнике шумы, равные по величине реальным.








