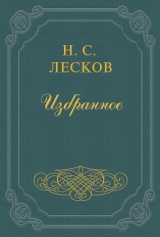
Текст книги "Островитяне"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
Засмеялся мужик, и еще кто-то назади засмеялся в кибитке. Смех это или не смех? Что-то как будто не смех или смех вместе с кашлем.
У, да как же хорошо-то кругом, – то есть что ж тут, по правде говоря, и хорошего-то? Ничего очень хорошего, да так легко, и ото всего, от чего вы хотите, веет этой тихою радостью русской картины. Вон на пыльной дороге ряды перекрестных колей от тележных колес; по высокому рубежу куда-то спешит голубок и, беспрестанно путаясь ножками в травке, идет поневоле развалистым шагом: он тащит в клюве ветку и высоко закидывает головку, чтоб перекинуть свою ношу через высокие стебли; на вспаханном поле свищет овражек и, свистнув, тотчас же нырнет, а потом опять выскочит, сядет и утирается бархатной лапкой. Солнце садится за лесом, луга закрываются на ночь фатой из тумана; зеленые сосны чернеют, а там где-нибудь замелькают кресты, и встает за горой городочек, покрытый соломой, – вот ты и вся здесь, родная картинка, а тепло на душе каждый раз, когда про тебя вспомянется. Полно и крепко забилось в мятежной груди Истомина его русское сердце. Еще чутче становится он к давно минувшему. Не только мысленное -око его не знает преград, его ухо тоже слышит бог весть когда и где раздавшиеся звуки.
– А вот это видишь, – говорит ему из-под пыльной кибитки слабый женский голос, перебиваемый удушливым кашлем, – гляди– вон туда, вон высоко, высоко под небом это летят журавли.
– На ночлег поспешают, – досказывает мужичок с желтой мычкой.
Сколько рассказов начинается об этих журавлях! И какие все хорошие рассказы! век бы их слушал, если бы только опять их точно так же рассказывали. Речь идет про порядки, какие ведут эти птицы, про путину, которую каждый год они держат, про суд, которым судят преступивших заколы журавлиного стада. Все это так живо, веселей чем у Брема. Как памятны все впечатления первой попытки вздохнуть одним дыханием с природой.
Впечатление это вспоминается необыкновенно редко, случайно, без всякой стати, как вспоминается иногда вещь, давно-давно забытая на грязном столе почтовой станции глухого, пустынного тракта.
Стрелою, пущенною с тугой тетивы, несется в памяти в погоню за этой порою другая пора: пора сладкой юности, годы тревог и страстей. И недвижно стоит только один какой-то день; один из множества дней стоит он, как звезда, уснувшая на зените. Стоит он долго – ничто его не сдвигает, ничто не трогает с места. Это и есть тот день, от которого в виду смерти станешь спрашивать: "Куда деться? куда деваться?" Этот день бел, как освещенное солнце сжатое поле, на котором – нет ни жнецов, ни птиц, уносящих колосья; на котором не слышно ни детского плача, ни жалоб клянущей жизнь плоти, ни шелеста травы, ни стрекота букашек – все мертво и тихо, как в опаленной долине Иерихона, и над всем этим безмолвием шагает, не касаясь ногами земли, один ужасный призрак. Этот призрак изменчив, как хамелеон, – это женщина, появляющаяся то с головой, остриженной, как у цезарского рекрута, то с лакированной сумочкой на груди. Но и она, исчезает, и в ту минуту, когда она уже исчезла, когда не стало ее, художник вернулся к действительности. Он сделал этот переход с такою быстротою, что его трудно определить словом. Как быстро упал с поднебесья внезапный крик пролетавшей журавлиной стаи, так быстро, услыхав этот крик, Истомин выпрыгнул из таратайки, стал на ноги и, прижав к груди руки, затрясся от внутреннего зноба.
Он не видал этих птиц, когда они подлетали, тянувшись по небу шнурочком; один Бер видел, как этот шнурок все подвигался в треугольник, состоящий из отдельных точек, расположенных как камни, обозначающие могилу араба, похороненного среди песчаной Сахары, и когда с неба неожиданно упало это резкое, заунывное турчанье, оно для Истомина было без сравнения страшнее слова матери, которое нарушало покой ночи осужденного на смерть.
"Ага! летят уж Ивиковы журавли... да, да, пора конец положить", подумал Истомин, стоя с открытой головой внизу пролетающей стаи. А стая все летит и летит, и все сильнее и чаще падают от нее книзу гортанные звуки.
Этот крик имеет в себе что-то божественное и угнетающее. У кого есть сердечная рана, тот не выносит этого крика, он ее разбередит. Убийцы Ивика, закопанного в лесу, вздрогнули при этих звуках и сами назвали дела свои.
– Простимтесь же лучше здесь, чем под вашей кровлей, – заговорил, проводя глазами журавлей, Истомин. – Не думайте, что я неблагодарен. В благодарность вам я буду от вас очень далеко.
– А мой угол, хлеб и мой привет...
– Да, да, пусть они подождут меня... Истомин почесал себя когтями по голой груди и добавил:
– Кончаю тем, что и за это не вправе обижаться, но только вот что: Каину угла-то ничьего не нужно... Прощайте, Бер, – вам здесь направо, а я пойду налево – таким манером, даст господь, мы друг другу на дороге не встретимся. Я, должно быть, уж не обойду вокруг света.
– Иди, – сказал ему спокойно Бер. – Аминь – иди, пока споткнешься на свою могилу, – ответил ему Истомин и пошел влево.
Так они и расстались на этой дороге.
В доме Норк обо всем этом не знали ничего, но по-прежнему страшно боялись слова новость.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Наконец, чего долго ждешь, того иногда и дождешься: в дом Норков, как с неба, упала новость. Религиозное настроение Софьи Карловны так и приняло ее как посланницу неба, несмотря на то, что новость эту принес им полицейский городовой Васильевского острова.
Городовой явился в магазин Норков перед вечером пятого мая и, застав здесь одну Иду, просил ее немедленно послать кого-нибудь в мертвецкий покой, чтобы "обогнать" принадлежащее им тело, найденное у берега в Чекушах.
Ида побледнела. Вермана четвертый день не было дома, и новость эта могла касаться его непосредственно. Соваж первого мая отправился на екатерингофское гулянье и не мог встретить серьезных препятствий отыскаться на пятый день в виде тела, принадлежащего Норкам.
В это время Ида также припомнила странную историю, которую на другой день екатерингофского гулянья принесла домой Авдотья, ходившая навестить свою сестру в Чекуши.
В истории этой тоже был замешан черт, и притом замешан и скомпрометирован гораздо сильнее, чем в святочной истории в Плау, потому что здесь он напал на людей нелегковерных и остался в дураках.
Дело было вот в чем: ночью с первого на второе мая очередные рыбаки на тонях, при свете белой ночи, видели, как кто-то страшный и издали немножко схожий с виду с человеком бросился с екатерингофского берега в Неву. Рыбаки, имеющие беспрестанные столкновения с водяными чертями, служащими по их департаменту, тотчас сообразили, что это ни более ни менее как одна из тысячи проделок потешающегося над ними дьявола, ибо человеку не могло прийти в голову попробовать переплыть Неву в этом месте. Пока рыбаки рассуждали, для какой бы цели было дьяволу морочить их таким образом, дьявол начал кряхтеть. По воде далеко было слышно, как он тяжело отдувался. Рыбаки отвернулись к гаванской церкви и стали молиться. Огорченный обращением их к храму, дьявол, чтобы увеличить соблазн, начал кричать человеческим голосом и звать себе на помощь. Рыбаки опустились в лодках на колени и стали молиться еще жарче. Как ни выбивался злой дух из последних сил своих, чтобы подмануть христианскую душу, это не удалось ему, потому что, хотя он и очень верно подражал человеческому голосу, но прежде чем рыбаки, глядя на гаванскую церковь, окончили ограждающую их молитву, на правом берегу в Чекушах пропел полночный петух, и с его третьим криком и виденье и крики о помощи смолкли.
Третьего дня черт этот благополучнейшим образом был выкинут волненьем на берег в тех же Чекушах и был отправлен в мертвецкий покой.
Быстро сочетав все эти обстоятельства в своем соображении, Ида, не говоря ни слова матери, бросилась к зятю. Шульц тотчас поехал и, -возвратясь через полчаса, объявил, что утопленник действительно есть токарный подмастерье Герман Верман, которому на гроб и погребенье он, Шульц, оставил двадцать пять рублей, прося знакомого квартального доставить их пастору.
– А все-таки это страшная мерзопакость, – порешил Шульц. – На меня это так дурно подействовало, что я просто сам не свой теперь.
Шульц не любил первой беды, хотя бы она его обходила и издалека. Из наблюдений собственных, из старческих поверий, как и из слов великого Шекспира, Шульц состроил убеждение, что радости резвятся и порхают в одиночку, а "беды ходят толпами", и старушка-горе неспешлива.
Торопиться ей не нужно;
Посидеть с работой любит.
Тому, что "беды ходят толпами", верили, впрочем, все семействе Норков, и потому, когда Шульц объявил, что по случаю этого несчастья он откладывает на неделю переход в свой новый дом, отстроенный на Среднем проспекте, то и Берта Ивановна и Софья Карловна это совершенно одобрили.
– Неприятно, чтоб это осталось воспоминанием в один и тот же день, объявил Фридрих Фридрихович.
Берта Ивановна и madame Норк обе сказали то же самое.
Ида, правда, ничего не сказала, но это, вероятно, потому, что ее вообще очень мало занимал вопрос о новом доме зятя. Она стояла возле кресла матери, которая, расстроившись смертью Вермана, совсем распадалась, сидела спустя руки и квохтала, как исслабевшая на гнезде куриная наседка. Ида молча соединяла в небольшом стеклянном пузыречке немного выдохнувшуюся нашатырную соль с каким-то бесцветным спиртом. Она нюхала эту смесь, встряхивала ее, держа пузырек между большим и указательным пальцем правой руки, смотрела на нее, прищуря один глаз, на свет и, снова понюхав, опять принималась трясти снова.
– Стоит ли, сестра, возиться с этой дрянью? – проговорил ей Шульц.
Ида, не отвечая зятю, молча дала понюхать матери спирту и, опустив склянку в карман, молча облокотилась на материно кресло.
– Сядь, Ида, – не люблю, когда ты стоишь надо мною, – произнесла старуха.
Ида села на первый ближайший стул. Старуха опять начала квохтать и водить по углам обоими старческими глазами.
– Бедняжка, – заговорила она, – какая смерть-то страшная; теперь свода еще холодная... Мученье, бедненький, какое перенес... а? Идочка! я говорю, мученье-то какое – правда?
– Это, мама, одна минута.
– Ну, как одна минута! Как, право, ты все, Иденька, как-то так легкомысленно все любишь говорить! Кричал ведь он, говорят тебе, так это не минута.
Старуха опять заквохтала и, закашлявшись от поднесенного ей снова Идой спирта, слегка толкнула ее по руке и досадливо проговорила:
– Поди на место.
Старушка с самого отъезда Мани во все тяжелые минуты своей жизни позволяла себе капризничать с Идою, как иногда больной ребенок капризничает с нежно любимой матерью, отталкивая ее руку, и потом молча притягивая ее к себе снова поближе.
– Не стар еще ведь был? – заговорила через минуту Софья Карловна. – А впрочем... пятьдесят четвертый год...
– Что вы говорить изволите, маменька? – отозвался
Шульц, быстро подходя к теще от окна, у которого стоял во время ее последних слов.
– Я говорю, что покойник-то... Он и в тот год, когда Иоганус умер, он так же закутился и переплыл сюда с гулянья... А нынче, верно, стар... Уж как хотите, а пятьдесят четвертый год... не молодость.
– Лета хорошие.
– Да, пожил.
– Другие не живут и этого.
Старуха засмутилась и тихо сказала:
– Ну, да; кутят все.
Ида опустила глаза и пристально посмотрела на Шульца.
– Да, – все кутил, кутил покойник. Я тридцать лет его уж знаю – все кутил.
– Неужто тридцать лет?
Ида опять пристальнее и еще с большим удивлением поглядела через плечо на зятя и обернулась к матери. Старушка провела рукою по руке, как будто она зябла, и опять тихим голосом отвечала:
– Что ж, тридцать лет! Да вон твоей жене теперь уж двадцать девять. Года мои считать немудрено: я в двадцать замуж шла, а к году родилася Бертинька, вот вам и все пятьдесят... А умирать еще не хочется... пока не съезжу к Маньке. Теперь я уж к ней непременно поеду.
Шульцы ушли к себе довольно поздно; старуха оставила Иду спать на диване в своей комнате и несколько раз начинала беспокойно уверять ее, что кто-то стучится. Ида раз пять вставала и ходила удостовериться.
– Нам велика, Иденька, двоим эта квартира, – старалась старушка заговаривать с дочерью, когда та возвращалась.
– Подумаем, мама, что сделать, – отвечала, укладываясь, Ида.
– Непременно надо подумать.
– Подумаем.
– И то... я, знаешь, Идочка, без шуток, право, в нынешнем году поеду к Мане.
– Что ж, мама, и прекрасно; поезжайте с богом.
– А то тоска мне.
– Да поезжайте, душка, поезжайте. Старуха заснула.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Прошла неделя, Вермана схоронили; Шульц перебрался в свой дом, над воротами которого на мраморной белой доске было иссечено имя владельца и сочиненный им для себя герб. Шульц нигде не хлопотал об утверждении ему герба и не затруднялся особенно его избранием; он, как чисто русский человек, знал, что "у нас в Разсеи из эстого просто", и изобразил себе муравейник с известной надписью голландского червонца: "Concordia res parvae crescunt". (При согласии, и малые дела вырастают (лат.).)
У Фридриха Фридриховича переход в свой дом совершился со всякой торжественностью: утром у него был приходский православный священник, пел в зале молебен и служил водосвятие; потом священник взял в одну руку крест, а в другую кропило, а Фридрих Фридрихович поднял новую суповую чашу с освященною водою, и они вместе обошли весь дом, утверждая здание во имя отца, и сына, и святого духа.
В зале, когда священник разоблачился и стал благословлять подходящую прислугу, Шульц тоже испросил и себе его благословения и поцеловал его руку. Священник сконфузился.
– Батюшка! – проговорил Шульц – Этого наш долг требует.
Священник хотел что-то отвечать, но Шульц предупредил его.
– Оно, конечно, это ни для меня и ни для вас не нужно; но это так долг повелевает. У Шульц пригнулся к уху священника и, слегка кося глазами на суетившуюся прислугу, добавил:
– Для них этот пример совсем необходимый.
Священник согласился.
– Основательно, весьма основательно, Фридрих Фридрихович, – ответил он Шульцу.
– Эх, батюшка, да зовите меня просто Федор Федорычем. Ведь это вшистко едно, цо конь, цо лошадь.
– Так-с, Федор Федорыч; так-с.
– Ну, так этому и оставаться.
Два дня происходила переноска мебели и установка хозяйской квартиры, на третий день вечером был назначен банкет. Берта Ивановна говорила, что банкет следует отложить, что она решительно не может так скоро устроиться, но Шульц пригнал целую роту мебельщиков, драпировщиков и официантов и объявил, чтоб завтра все непременно было готово.
– Ужасно это, ей-богу, у тебя все как вдруг, Фриц, – говорила, слегка морщась, Берта Ивановна.
– А вы вот лучше смотрите-ка, Берта Ивановна, как бы мы с вами в новом доме не поссорились, – отвечал ей супруг, собственноручно приколачивая с обойщиком карнизы драпировок.
Берта Ивановна с этих пор не возражала уже мужу ни слова.
Банкет был громкий; были здесь все, кого знал Шульц и кто знал Шульца: старый хозяин, новые жильцы собственного дома, пастор, русский священник и три конторщика.
– У нас, батюшка, по-христиански – с чадами и домочадцы, – говорил. Шульц, указывая священнику на жавшихся в уголке трех младших конторщиков, вступающих завтра в должность по новооткрываемой конторе.
Выпито было столько, что сам Шульц, поправляя потный хохол, шептал:
– Однако, черт возьми, мы, что называется, кажется, засветили!
Но тем не менее он, однако, опять наседал на гостей с новой бутылкой и самыми убедительными доводами. Наливая стакан своему домовому доктору, который выразил опасение, не будет ли в новом доме сыро, – Шульц говорил:
– Это, Альберт Вильбальдович, сырость вытягивает. Доктор отвечал:
– Но для здоровья – особенно у кого короткая шея... это...
Доктор лукаво погрозил Шульцу с улыбкою пальцем.
– Да; но иногда-то? иногда?
– Ну, иногда... да, это конечно! – заканчивал доктор.
Шульц напал на священника.
– Вино, батюшка, веселит сердце человека.
– До известной меры-с, Федор Федорыч, до известной меры, – отвечал священник.
– Ну, этого в писании не сказано.
– А, не сказано-с, но там зато сказано: "не упивайтесь, в нем бо..." Священник кашлянул и договорил: – "в нем бo есть грех".
Шульц разрешил и это затруднение. Ударяя рукою по столу, он проговорил:
– Грех, батя, это пусть будет сам собою, а вы вот это выкушайте.
Священник отвечал: "Оно, конечно, – и, хлебнув вина, досказал, – не всегда все в своей совокупности".
На другой день после этого пира Шульц сидел вечером у тещи, вдвоем с старушкой в ее комнате, а Берта Ивановна с сестрою в магазине. Авдотья стояла, пригорюнясь и подпершись рукою, в коридоре: все было пасмурно и грустно.
– Я не знаю, право, Ида, что тебе такое; из-за чего ты споришь? говорила, глядя на сестру, Берта Ивановна.
– Я и не спорю, – отвечала Ида.
– Мама этого хочет.
– А, мама хочет, так так и будет, как она хочет.
– Но неприятно, что ты делаешь это с неудовольствием.
– Это все равно, Берта.
– Ты, Ида, делаешься какая-то холодная. Ида промолчала.
– Я знаю, что Фридрих добрый, родной, и он вас любит, и я люблю... не знаю, что тебе такое?
– Я верю этому, – отвечала Ида.
–Но что ж тебе такое? что тебе этого не хочется?
– Не хочется? – проговорила, вздохнувши, Ида, – Не хочется мне, Берта, потому, что просторней жить – теснее дружба.
– Мы не поссоримся.
– И не поссорившись не всегда хорошо бывает.
– Да отчего же, Ида? отчего? ты расскажи.
– Неровные отношения.
– Мой господи, как будто мы чужие! Век целый прожили, всякий день видались: ведь все равно и так как вместе жили. Ты посуди, в самом деле, какая ж разница?
– Большая, Берта, разница. Жить порознь, хоть и всякий день видеться, не то, что вместе жить. Надо очень много деликатности, Берта, чтобы жить вместе.
– Все у тебя, Ида, деликатность и деликатность; неужто уж и между родными все деликатность?
– С родными больше, чем с чужими.
– Не понимаю; Фриц, кажется, очень деликатный человек. Разве я чем-нибудь – так ты ведь мне прямо все говоришь.
– Вместе живя, Берта, нужна постоянная деликатность; пойми ты постоянная: кто не привык к этому – это очень нелегко, Берта. Твой муж – он, говоришь ты, добрый, родной, – я против этого не скажу ни слова, но он, например, недавно говорил же при матери так, что она как будто стара уж.
– Господи, какие мелочи! Я бог знает как уверена, что он и не заметил этого.
– Мелочи! Я знаю, что это мелочи и что он даже не заметил, как это действует на маму, и я на него за это ни крошечки не сержусь. Понимаешь, это теперь ровно ничего не значило, кроме неловкости.
– А если бы вы жили у нас?
– А если бы мы жили у вас, и он бы сказал это, это была бы ужасная неделикатность. Ты не сердись – я не хочу неприятностей, – я говорю тебе, что он сказал это без умысла, но мне бы это показалось... могло бы показаться... что мать моя в тягость, что он решил себе, что ей довольно жить; а это б было для меня ужасно.
– Я скажу это Фридриху.
– Сделай милость, скажи, – отвечала спокойно Ида,
– Через минуту madame Норк позвала ее к себе. Девушка взошла и молча стала перед матерью. Софья Карловна взяла ее руки и сказала:
– Ну, как же, Ида?
– Как вам угодно, мама.
– Ты согласись.
– Мама, я с вами всегда согласна.
– Да, согласись. Где нам теперь искать другого подмастерья? Я старая, ты девушка... похлопотали... У нас свое есть – мы в тягость им не будем. Дай ручку – согласись.
Ида подала матери руку.
– Ну, Берточка! – позвала старушка, – согласна – пусть будет так, как вы хотите с мужем.
Берта Ивановна опустилась у материнского кресла на колени и, поцеловав ее руку, осталась в этом положении.
Madame Норк долго ласкала обеих дочерей и проговорила сквозь слезы:
– Вот и Манька моя будет рада, дурка, как узнает Ида! я говорю, Манька-то наша: она как узнает, что мы вместе живем, – она обрадуется.
– Обрадуется, мама, – ответила Ида; проводив Шульцев, уложила старушку в постель, а сама до самого света просидела у ее изголовья.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Фридрих Шульц сам взялся разверстать и покончить все дела тещи. На другой же день он явился к теще с двумя старшими детьми и с большим листом картона. на котором в собственной торговой конторе Фридриха Фридриховича было мастерски награвировано на русском и немецком языке:
"Токарное заведение, магазин и квартира передаются. Об условиях отнестись в контору негоцианта Шульца et C-nie, В. О., собственный дом на Среднем проспекте".
Щульц собственноручно поставил этот картон на окно у которого обыкновенно помещалась за прилавкам Ида. Далеко можно было читать эту вывеску и имя негоцианта Шульца. Впрочем, вывеска эта не принесла никакой пользы. Преемников госпоже Норк Шульц отыскал без помощи вывески и сам привел их к теще. Заведение, квартира, готовый товар и мебель – все было продано разом. Старушка удержала за собою только одну голубую мебель, к которой она привыкла.
– А вы, сестра, не оставите ли себе чего? – отозвался Шульц, надевая в магазине свою высокую негоциантскую шляпу.
– Нет, ничего, – отвечала Ида.
– Любимое что-нибудь?
– У меня вещей любимых нет.
– Фортапьян, Идочка, фортепьян-то себе оставь, – послышался из залы голос Софьи Карловны.
– Нет, мамочка, не надо, – отвечала, встрепенувшись, Ида.
– Оставь, дружок, – убеждала, выползая, старушка.
– Мама, да какая я музыкантша?
– Мне когда-нибудь вечерком поиграешь; я люблю, когда ты играешь.
– Я вам на сестрином поиграю, когда прикажете, – отвечала, рассмеявшись, Ида.
– И то дело; есть у нас и своя этакая балалайка, – зарешил Шульц и отправился домой писать с преемником условие.
В этот же день Шульц, обогнав меня на своем гнедом рысаке, остановился и рассказал, что он перевозил свояченицу и тещу "в свою хату".
– Что ж им торомошиться-то больше? – рассуждал он. – Слава богу, есть своя изба, хоть плохенькая, да собственная, авось разместимся. – Он понизил голос до тона глубокой убедительности и заговорил: – Я ведь еще как строил, так это предвидел, и там, помилуйте, вы посмотрите ведь, как я для них устроил. Ведь не чужие ж в самом деле, да, наконец, у них ведь и свое есть.
– Есть разве?
– Ну да, еще бы! Тысяч восемь теперь всего-то наберется. Случись ведь что со старушкой, так ведь сестре на всем готовом и процентов истратить некуда. Да что: я вам скажу, еще дай бог всякому так кончить, как они.
Шульц крикнул кучеру: "Пошел!"
Вот уж и слово кончить применилось к тебе, дорогая Ида Ивановна! Вот и масштаб для тебя составлен и дорога твоя предусмотрена: непочатыми будут твои капиталы, и процентов тебе не прожить.
"Еще и всякому так дай бог кончить!"...
О боже! боже! как страшно и как холодно становится на свете живому человеку, когда сведешь его на этот узкий, узкий путь, размеренный масштабом теплого угла, кормленья и процентов! А еще и тебе скажут ближние твои: благо тебе, искренний, зане многим на земле и еще того хуже: зане у многих на земле нет ни угла, ни крова, ни капитала в кармане, ни капитала в голове, ни капитала в характере и в нраве. Но и чрез золото так точно льются слезы, как льются они и чрез лохмотья нищеты, и если поражает нас желтолицый голод и слеза унижения, текущая из глаз людей нищих духом, то, может быть, мы нашли бы еще более поражающего, опустясь в глубину могучих душ, молчащих вечно, душ, замкнутых в среде, где одинаковы почти на вид и сила и бессилье. Мы ужаснулись бы, глядя, как их гнетет и давит спящая их собственная сила; как их дух, ведун немой, томится и целый век все душит человека. Так Святогор, народный богатырь нашего эпоса, спит в железном гробе; накипают на его гробе закрытом все новые обручи: душит-бьет Святогора его богатырский дух; хочет витязь кому б силу сдать, не берет никто; и все крепче спирается могучий дух, и все тяжче он томит витязя, а железный гроб все качается.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Я вечером зашел к Норкам. Ида Ивановна сидела одна в магазине, закрытая от окна не снятою еще вывескою о передаче магазина.
Подавая мне руку, она только молча кивнула головою.
Я сел в простенке, так что если бы кто подошел с улицы даже к самому окну, то меня ему все-таки не было бы видно.
Ида сама рассказала мне, что они прекращают торговлю и переселяются к Шульцу.
– Вы ведь, – опросил я, – нехотя это делаете, Ида Ивановна.
Девушка помолчала, сдвинула слегка брови и отвечала:
– Нет... все равно уж! Пусть будет как маме угодно.
– Ваш век, можно думать, длиннее Софьи Карловниного.
– Если мама умрет, я тогда поеду к Мане, – произнесла Ида скороговоркой и, быстро распахнув окно, добавила: – Фу, господи, как жарко!
Она высунула головку за окно, и мне кажется, она плакала, потому что когда она через минуту откинулась и снова села на стул, у нее на лбу были розовые пятна.
– Фриц идет, – проговорила она, принимаясь за оставленную работу.
Я посмотрел в окно, никого не было видно.
– Он далеко еще, не увидите.
– А как же вы-то его увидали?
– Я не вижу его. – Ида улыбнулась и добавила: – Мой нос полицеймейстер, я его сигару слышу.
В эту минуту щелкнула калитка палисадника и под окном действительно явился Шульц.
Не знаю почему, я не поднялся, не заявил ему о своем. присутствии, а остался вовсе не замечаемый им по-прежнему за простенком.
– Ну да, – начал Шульц, – я всегда говорил, что беды ходят толпами.
– Тише, – проговорила Ида.
Она встала, затворила дверь из магазина в комнаты и снова села на свое место.
– Что такое?
– Вот что, – начал Шульц, – Маня оставила мужа. Ида вскочила и стала у шкафа. Шульц говорил голосом нервным и дрожащим.
– Мне вот что пишет муж ее. Не беспокойтеся давать мне свечки, я вам прочту и так, – и Шульц прочел холодное, строгое и сухое письмо Бера, начинавшееся словами: "На девятое письмо ваше имею честь отвечать вам, что переписка между нами дело совершенно излишнее". Далее в письме было сказано, что "мы с Марией расстались, потому что я не хотел видеть ее ни в саване, ни в сумасшедшем доме". Известное нам дело было изложено самым коротким образом, и затем письмо непосредственно оканчивалось казенною фразой и крючковатой подписью Бера.
– Как вам это нравится? – спросил Шульц, дочитывая письмо. Ида молчала.
– Ведь этого не может быть! Ведь это вздор! все это выдумка!
– Не говорите только, пожалуйста, об этом матери.
– Да нечего и говорить... это невозможно!.. das ist nicht moglich.( Это невозможно (нем.).)
– Конечно, – уронила Ида.
Шульц посмотрел в глаза свояченице и, черкнув во зажигательнице спячкой, сказал:
– Я думаю, однако, пению время, а молитве час. Вы еще молоды, чтобы надо мною смеяться.
– А!.. Вот то-то б вам поменьше хлопотать! Да! да не das ist nicht moglich, a это gewiss, Herr Schulz, gewiss (Конечно, господин Шульц, конечно (нем.).)... вы погубили нашу Маню. – Покорно вас благодарю, – произнес с шипением Шульц.
– Вы! вы! и вы! – послала ему в напутствие Ида, и с этими словами, с этим взрывом гнева она уронила на грудь голову, за нею уронила руки, вся пошатнулась набок всей своей стройной фигурой и заплакала целыми реками слез, ничего не видя, ничего не слыша и не сводя глаза с одной точки посередине пола.
Она плакала какими-то мертвыми, ледяными слезами. О таких слезах никто не рассказывал ни в одной истории, ни в одной сказке. Обыкновенно думают, что самая больная слеза есть слеза самая теплая, "горючая", как называют ее сказки и былины нашего эпоса. Усталый витязь, уснувший непробудным оном на коленях красавицы, которую он должен был защитить от выходившего из моря чудовища, пробудился от одной слезы, – павшей на его лицо из глаз девушки при виде вышедшего змея. Так горяча слеза молодой жизни, просящей защиты. Но есть еще другие, более страшные слезы, и хотя их нельзя назвать горючими, но они заставляют вас трепетать, когда текут по женским щекам. Есть много известных женских лиц, трудясь над изображением которых даровитые художники представили этих женщин плачущими. Таковы известные изображения: нежной дочери короля Лира, Корделии; целомудренной римлянки Лавинии, дочери Тита Андроника; развенчанной Марии Антуанетты в минуту ее прощания с детьми; Алиции Паули Монти; Орлеанской Девы; св. Марии Магдалины, из русских Ксении Годуновой, и, наконец, еще так изображена Констанция, вдова, устами которой Шекспир сказал красЕОречивейшее определение скорби. Изучая эти плачущие лица, вы чувствуете, что каждое из них плачет своими слезами, и даже как будто чувствуете температуру этих слез. Корделия, молящаяся за сумасшедшего отца; Лавиния, обесчещенная, с обрубленными руками; Мария Антуанетта, утопшая в крови и бедах; царевна Ксения Годунова, эта благоуханная чистая роза, кинутая в развратную постель самозванца, и Констанция, научающая скорбь свою быть столь гордой, чтобы пришли к ней короли
Склониться пред величьем тяжкой скорби,
все это женщины с различными скорбями. Пересчитав столько женских обликов, я, кажется, имею довольно большой выбор для сравнения; но как ни многоречивы эти прекрасные, высокохудожественные изображения, я ни перед одним не смел бы вам сказать: мне кажется, что Ида плакала вот этак! Она плакала совсем иначе.
Еще одно женское лицо, также плачущее, останавливает на себе наше внимание в роскошном издании L`Abbe и G. Darboy "Les femmes de la Bible" (Лабе и Г. Дарбуа. "Библейские женщины" (франц.).). Это высокая и стройная библейская красавица, которая стоит перед вами полуобнаженная: она плачет, только ступивши ногою с постели, ее стан едва лишь прикрыт ветхозаветною восточною рубашкой, то есть куском холста, завязанным под левою ключицей. Другое плечо, грудь, шея и правая рука обнажены. Рука в запястьях, которые не были сняты ночью, висит, как стебель, левая, также нагая от самого локтя, держит упавшую голову. Из глаз тихо катятся холодные крупные слезы, и катятся как градины на раскаленную ниву. За этой фигурой вы видите двуспальную постель, часть смятого изголовья и больше ничего: все остальное закрывает пестрое восточное одеяло, которое женщина потянула, проснувшись, и, судорожно сжав его край, плачет ледяною слезою.
Я не знаю, беретесь ли вы отгадать, кто эта библейская женщина?.. Это дочь Рагуила, та несчастная красавица Сара, которая семь раз всходила на брачное ложе и видела всех семерых мужей своих умершими и оставившими ее девой. Художник изобразил момент пробуждения ее в первую ночь седьмого брака: она уже не в испуге, не в ужасе и не в отчаянье. Ей не идет горючая слеза скорбей, живых еще хотя бы надеждою, хотя б одним желаньем, переживающим надежду: у ней даже желаний нет. Она не ждет еще пришествия Товия, который должен сжечь в ее опочивальне рыбье сердце: она одна теперь с умершей надеждой жить и с улетевшими желаньями; она застыла, и ее слезы падают оледенелыми.







