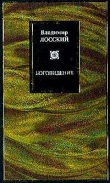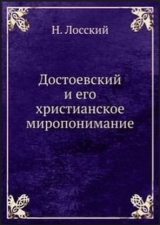
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
64
Дорог мне перед иконой В светлой ризе золотой Этот ярый воск, возженный Чьей неведомо рукой… Знаю я, свеча пылает, Клир торжественно поет; Чье‑то горе утихает, Кто‑то слезы тихо льет: Светлый ангел упованья Пролетает над толпой… Этих свеч знаменованье Чую трепетной душой, Это – медный грош вдовицы, Это – лепта бедняка, Это.. может быть… убийцы Покаянная тоска… Это – светлое мгновенье В диком мраке и глуши, Память слез и умиленья В вечность глянувшей души.
«Это одно из лучших стихотворений ваших, – пишет он поэту, – все прелестно, но одним только я недоволен: тоном. Вы как будто извиняете икону, оправдываете; пусть, дескать, это изуверство, но ведь это слезы убийцы и т. д. Знайте, что мне даже знаменитые слова Хомякова о Чудотворной Иконе, которые приводили меня прежде в восторг, – теперь мне не нравятся, слабы кажутся. Одно слово: «Верите вы иконе или нет!» (Храбрее, смелее, дорогой мой, уверуйте.) Может быть, вы поймете то, что мне хочется сказать; это трудно вполне высказать» (№ 318).
Исследуя это письмо, Долинин высказывает предположение, что Достоевский в действительности имеет в виду рассказ Киреевского о его переживаниях перед чудотворною иконою, но по забывчивости отнес его к Хомякову (Письма, II, 439 с.) . В письме очень важно заявление Достоевского, что он и раньше высоко ценил иконопочитание, а также веру в существование чудотворных икон и что почитание иконы в настоящее время весьма усилилось в нем. Можно думать поэтому, что, за исключением краткого периода влияния Белинского, религиозность Достоевского всегда была, как и в детстве, конкретною и никогда не падала на степень абстрактного протестантского спиритуализма. За год до своей кончины в беседе с Опочининым он говорил: «Если народ, целый народ – заметьте, может чтить Божий образ, т. е. слабое, а у нас иногда и уродливое изображение Бога, Христа или Богородицы, то насколько же больше чтит он и любит самого Бога! У народа Богу всегда первое место, – передний угол; там у него божница, боговня. Ему надо иметь у себя святыню, видимую, как отображение Божества. Здесь, в этом почитании сказывается трогательная целокупность духа и сердца. Надо веровать, устремляться к невидимому Богу, но и почитать Его на земле простым сродным обычаем. Мне сказать могут, что такая вера слепа и наивна, а я отвечу, что вера такой и быть должна. Не всем же ведь богословами стать» '.
Со времени ареста и после каторги в жизни Достоевского видное место занимает кроме Евангелия и вообще Священного Писания чтение
' Е. Опочинин. «Беседы с Достоевским». «Звенья», т. VI, 1936, стр. 468.
Н О Лосский
65
религиозной литературы, особенно православной, например сочинений св. Димитрия Ростовского, св. Тихона Задонского, «Сказания о странствии» инока Парфения, старообрядческая литература и литература о старообрядцах и т. п. Вопрос об этом чтении и значении его в жизни и творчестве Достоевского требует особого исследования, которое и произведено уже Р. В. Плетневым; к сожалению, труд его до сих пор остается неизданным, кроме двух глав, напечатанных в журналах: «Достоевский и Евангелие» (в «Пути», 1930) и «Dostojevskij und der Hieromonach Parfenij» (в «Ztschr. für slav. Philologie», 1937).
' Глубокое впечатление произвел на Достоевского роман Виктора Гюго «Les Misérables» . Он прочитал его в 1862 г. за границею. В 1863 г. он просит А. П. Милюкова прислать ему этот роман. В 1867 г. он перечитал его в Дрездене. В 1877 г. Достоевский, сидя на гауптвахте за помещение в «Гражданине», без разрешения министра двора, заметки о киргизской депутации к государю , опять перечитывал его. Сродство романа Гюго с религиозными интересами и творчеством Достоевского несомненно. В. Гюго говорит в своем романе: «Книга эта – изображает путь от зла к добру, от ада к небу, от неверия к Богу» (V, I, 10).
В книге этой изображен переворот в душе озлобленного беглого каторжника Жана Вальжана, постепенно восходящего на высоты святости; толчком к исцелению его души была святость епископа Бьенвеню, лица, которое в молодости вело легкомысленную жизнь, но, испытав тяжелый удар в жизни сердца, вступило на путь христианского подвижничества. Возможно, что увлечение этим романом было в числе условий, приведших Достоевского^ теме «Жития великого грешника» и к образу старца Зосимы.
В истории осознания Достоевским высокой ценности русского православия немалое значение имела общение его с H. H. Страховым и Ал. Григорьевым, с. А. H. Майковым, с Победоносцевым и, наконец, с философом Вл. Соловьевым. В Великом посту 1878 г. Достоевский слушал в Соляном городке серию лекций Вл. Соловьева, составивших содержание его книги «Чтения о Богочеловечестве». В этом же году неожиданно скончался от припадка эпилепсии младший сын Достоевских Алексей. Анна Григорьевна говорит, что отец любил его «как‑то особенно, почти болезненною любовью. Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловье» собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича», и летом Достоевский вместе с Соловьевым побывали в этом монастыре.
«С тогдашним знаменитым «старцем» о. Амвросием Федор Михайлович виделся три раза, – пишет Анна Григорьевна, – раз в толпе, при народе, и два раза наедине, и вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем его несчастии и о моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его: верующая ли я, и когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то просил его передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе старец Зосима сказал опечаленной
66
матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким сердцеведцем и провидцем был этот всеми уважаемый «старец».
Рассматривая различные периоды религиозной жизни Достоевского, мы нашли, что осознание высоких достоинств русского православия и выражение их в художественной и публицистической деятельности Достоевского было связано с его любовью к русскому народу и к России. Отсюда может явиться предположение, что православие было для него не самоценностью; не целью само по себе, а только средством, которое он считал необходимым для политической жизни России, как внутренней, так и внешней, поскольку в сознании народа верховная власть была религиозно освящена и Россия могла выступать во внешней политике как защитница других православных народов. Если в этой догадке есть доля правды, то она сводится только к следующему положению: очень часто осознание ценности происходит так, что человек, заметив полезность ее для другой увлекающей его ценности, принимает ее сначала только как средство, но потом, ознакомившись с нею ближе, начинает усматривать ее самостоятельное значение, и тогда она глубоко овладевает его душою независимо от посторонних ей целей. Такой процесс тем легче мог совершиться в душе Достоевского, что в детстве вместе со своею любимою матерью он переживал многие высокие стороны русского православного культа и веры, а в 1868 г., когда он начал проповедовать православие, его уму и чувству сознательно открылась ценность его, которая вовсе не влекла его в область новых интересов, оторванных от прежних: православие в той форме, которая выработана русским народом, будучи самоценностью, еще более возвышало в его глазах достоинства русского народа. Может быть, только в минуты упадка и сомнений Достоевский приближался к подмене Бога народом, подобно Шатову, который сказал, что «Бог есть синтетическая личность всего народа» (II, I, 7). По крайней мере, вместе с Шаговым он утверждал в письме к Майкову: «Кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога» (№ 357, 9. Х.1870) – положение в очень многих случаях правильное, но не всеобщее. ^
О своих религиозных сомнениях и состояниях неверия сам Достоевский не раз говорил в очень сильных выражениях. Вспомним, например, письмо его к Фонвизиной, где он, сознавая в себе"«жажду верить», говорит о себе: «…я – дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки» (№ 61, февр.,1854).
Задумав роман «Житие великого грешника», Достоевский писал Майкову: «Главный вопрос, который проведется во всех частях, – тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, – существование Божие» (№ 346, 25. III. 1870).
В последний год своей жизни Достоевский писал: «Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога. Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в Инквизиторе и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли
67
меня учить!» (Биография, письма и заметки из зап. кн. Достоевского, 368 с.)
Ссылаясь на «Легенду о Великом Инквизиторе» и на главу о детях в «Братьях Карамазовых», Достоевский писал в своих тетрадях: «И в Европе такой силы атеистических возражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе черт» (там же, 375).
Как понять все эти заявления Достоевского, из которых видно, что он был «дитя неверия и сомнения» действительно «до гробовой крышки»? Прежде всего, как понять то письмо к Майкову, где Достоевский говорит, что «существование Божие» есть вопрос, которым он мучился сознательно и бессознательно «всю жизнь». Значит ли это, что Достоевский в периоды сомнений доходил до полного атеизма? Конечно нет. К атеизму он относится резко отрицательно, считая его глупостью, недомыслием. «Никто из вас не заражен гнилым и глупым атеизмом», – уверенно говорит он в письме к своей сестре (№ 296, 1.11. 1868). В существовании настоящего атеизма он даже вообще сомневается, чего не было бы, если бы он сам доходил до атеизма.
Опочинину он говорил в 1880 г.: «Никто не может быть не убежден в существовании Бога, Я думаю, что даже и атеисты сохраняют это убеждение, хотя в этом и не сознаются, от стыда что ли» (Звенья, VI, 468).
Приближался к атеизму Достоевский, может быть, лишь в 1846 г., когда находился под влиянием Белинского. В остальное же время своей жизни сомнения, которые он переживал, относились не к самому существованию Бога, а к тому, как понять это существование, например, как согласить бытие Бога и мировое зло (бунт Ивана Карамазова, признающего существование Бога, но не принимающего мира, сотворенного Им) или, например, как понять основной догмат христианства, согласно которому Иисус Христос есть воплощение Логоса, Второго Лица св. Троицы. Этот догмат должен был особенно занимать Достоевского ввиду его горячей любви ко Христу. Всю веру он сводит к этому учению, как видно из записи его к «Бесам» в связи с образом «князя», т. е. Ставрогина: «Дело в настоятельном вопросе: можно ли веровать, быв цивилизованным, т. е. европейцем, т. е. веровать безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа (ибо вся вера только в этом и состоит)?» '
Действительно, величайшая трудность для современного образованного человека заключается в учении, что Иисус, родившийся в Палестине 20 веков тому назад и распятый на кресте, был не просто человек, а воплотившийся Бог. Возможно, что у Достоевского возникали иногда сомнения относительно этого догмата, но они могли быть, по крайней мере в последние десять лет его жизни, только кратковременными, преходящими. В самом деле, он вместе со своею семьею, по–видимому, ежегодно причащался св. Тайн, а в православной церкви честный и искренний человек не может причаститься, считая этот акт не таинством, «Записные тетради», 1935, стр. 208.
68
а только воспоминанием об одном из событий жизни человека Иисуса: православный, стоя перед св. Дарами, слушает и повторяет предпричастную молитву «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешные спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, что сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя»…
Учение о преложении хлеба и вина в Тело и Кровь Христа не могло смущать Достоевского, потому что он знал простое и ясное решение вопроса, данное Хомяковым: Христос есть господин стихий, и потому в Его власти сделать так, чтобы – «всякая вещь, не изменяя нисколько своей физической субстанции» могла стать его Телом '. Надо помнить, что Тело Христово в таинстве Евхаристии не есть мясо и красные кровяные шарики.
Можно себе представить, с какою силою религиозного чувства приступал к причастию Достоевский, если вспомнить рассказ о его молитве почтенной старушки, вдовы священника, часто встречавшей Достоевского в Знаменской церкви: «Он всегда к заутрене или к ранней обедне в эту церковь ходил. Раньше всех, бывало, придет и всех позже уйдет. И станет всегда в уголок, у самых дверей, за правой колонкой, чтобы не на виду. И всегда на коленках и со слезами молился. Всю службу, бывало, на коленках простоит; ни разу не встанет. Мы все так и знали, что это Федор Михайлович Достоевский, только делали вид, что не знаем и не замечаем его. Не любил, когда его замечали. Сейчас отворотится и уйдет» 2.
Молитвенное общение с Богом у Достоевского было подлинным возвышением над земною действительностью. Однажды, в 1873 г., работая в типографии Траншеля с корректором «Гражданина» Варварою Васильевною Тимофеевок^ Достоевский спросил ее, как она понимает Евангелие. Варвара Васильевна ответила, что видит значение Евангелия в «осуществлении учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей.
– И только? – тоном разочарования протянул Достоевский.
– Нет, и еще… – добавила Тимофеева, – вся эта жизнь земная – только ступень… в иные существования…
– К мирам иным! – восторженно сказал Достоевский, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виднелось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное июньское небо» 3.
В последний год своей жизни Достоевский писал художнице Е. ф. Юнге: «Что вы пишете о вашей двойственности? Но это самая обыкновенная черта у людей… не совсем, впрочем, обыкновенных. Черта, свойственная человеческой природе, вообще, но далеко–далеко не во всякой
' По поводу послания архиеп. Парижского, Собр. соч. Хомякова, 3 изд., т. II, 128—131.
2См. у В. В. Тимофеевой (О Починковской) «Год работы с знаменитым писателем». «Истор Вести», 1904, II, 541 с.
3 Там же, 511. Варвара Васильевна Тимофеева была лицо высококультурное и утонченно–восприимчивое, воспоминания ее о Достоевском обладают такою высокою ценностью, что должны бы быть изданы особою брошюрою
69
природе человеческой встречающаяся в такой силе, как у вас. Вот и поэтому вы мне родная, потому что это раздвоение в вас точь–в-точь как и во мне, и всю жизнь во мне было. Это большая мука, но в то же время и большое наслаждение. Это – сильное сознание, потребность самоотчета и присутствия в природе вашей потребности нравственного долга к самому себе и к человечеству. Вот что значит эта двойственность. Были бы вы не столь развиты умом, были бы ограниченнее, то были -бы и менее совестливы и не было бы этой двойственности. Напротив, родилось бы великое самомнение. Но все‑таки эта двойственность большая мука. Милая, глубокоуважаемая Ν. Ν., верите ли вы во Христа и в его обеты? Если верите (или хотите верить очень), то предайтесь ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся и вы получите исход душевный, а это главное» '.
Признание Достоевского о раздвоении в его душе ценно в высшей степени. Раздвоение, о котором идет речь в письме, не есть патологический распад или аморальная способность. наслаждения как добром, так и злом или бесплодный и безвыходный скептицизм: Достоевский говорит о силе духа, нравственно обязанного при решении всякой проблемы пройти через период критики, но в самой своей силе черпающего уверенность в том, что добро есть и что положительное решение проблемы сущестаует. Такова сила великих христиан, в самом сомнении своем обращающихся к Тому, в Ком они сомневаются: «Верую, Господи! Помоги моему неверию!»
glava04
Глава третья «ПЕРЕРОЖДЕНИЕ УБЕЖДЕНИЙ»
В 1873 г. Достоевский говорил в «Дневнике Писателя»: «Мне очень трудно было бы рассказать историю перерождения моих убеждений, тем более что это, может быть, и не так любопытно» («Одна из современных фалыаей»). Еще резче выразился он в письме к Майкову, когда узнал о надзоре полиции за собою и за своею перепискою: «Каково же это вынесть человеку чистому, патриоту, предавшемуся им до измены своим прежним убеждениям, обожающему Государя» (№ 311, 19. VII. 1868).
Верно ли, что «перерождение убеждений» Достоевского достигло степени «измены прежним убеждениям»? Не ошибся ли Достоевский, употребляя такое сильное выражение? Нам, спокойно изучающим жизнь Достоевского как законченное целое, виднее, чем ему, в чем состояло «перерождение» его.
В 1856 г. в письме к тому же Майкову, говоря о силе своих переживаний и размышлений за время их разлуки вследствие ареста и каторги, он заявляет: «Идеи меняются, сердце остается одно. Читал письмо ваше и не понял главного. Я говорю о патриотизме, об русской идее, об чувстве
«Биография, письма и заметки Φ Μ. Достоевского», ч. II, стр. 342.
70
долга, чести национальной, обо всем, о чем вы с таким восторгом говорите. Но, друг мой! Неужели вы были когда‑нибудь иначе"^ Я всегда разделял именно эти же самые чувства и убеждения. Россия, долг, честь? – да' я всегда был истинно русский – говорю вам откровенно» (№ 75).
Эти слова Достоевского о неизменной основе его духовной природы должны быть руководящими при решении вопроса, в чем и насколько он изменился с течением времени.
В предыдущей главе было показано, что в течение всей своей жизни Достоевский был глубоко религиозен и влияние на него безрелигиозности Белинского было мимолетным заблуждением. Злоупотребления в церковной жизни, недостатки ее и, в частности, те искажения, которые обусловлены подчинением Церкви государству, Достоевский, конечно, осуждал не только в то время, когда читал у петрашевцев «Письмо Белинского Гоголю», а и позже, как это видно, например, из его резких отзывов о плохих священниках (см. № 311 в 1868 или № 479 в 1874 г.) Таким образом, говоря об измене прежним своим убеждениям, Достоевский, очевидно, имел в виду свои политические и общественные взгляды, а не религиозную жизнь.
Искание социальной справедливости осталось до конца жизни Достоевского существенным содержанием его интересов Особенно волновал его вопрос об отмене крепостного права и о правильном устройстве суда, но освобождение крестьян и замечательная реформа, суда были осуществлены Александром II. На первый взгляд кажется, что «измена» убеждениям произошла в душе Достоевского в отношении к социализму. Однако более внимательное рассмотрение вопроса показывает, что это неверно. Увлечение социализмом было и до каторги в душе Достоевского выражением симпатии к исканию справедливого экономического строя, но ни одна из «систем» социализма уже в то время не удовлетворяла его. Еще будучи членом кружка петрашевцев, Достоевский понимал, что икарийская коммуна или фаланстера Фурье слишком напоминают казарму. Но к социализму, оберегающему духовную свободу личности, Достоевский до конца своей жизни питал симпатию. В 1876 г., когда умерла Жорж Занд, он писал: «Жорж Занд была, может быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. Она основывала свой социализм, свои убеждения, надежды и идеалы на нравственном чувстве человека, на духовной жажде человечесгва, на стремлении его к совершенству и к чистоте, а не на муравьиной необходимости. Она верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздвигала представление о ней всю жизнь свою – в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслью, и чувством своим с одной из самых основных идей христианства, т. е. с признанием человеческой личности и свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). Отсюда и признание долга, и строгие нравственные запросы на это, и совершенное признание ответственности человеческой. И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе понимавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек». Что же до гордости ее запросов и протеста, то, повторяю это опять, эта гордость никогда не исключала милосердия, прощения обиды, даже
71
безграничного терпения, основанного на сострадании к самому обидчику; напротив, Жорж Занд в произведениях своих не раз прельщалась красотою этих истин и не раз воплощала типы самого искреннего прощения и любви».
«Жорж Занд не мыслитель, но это одна из самых ясновидящих предчувственниц (если только позволено выразиться такою кудрявою фразою) более счастливого будущего, ожидающего человечество, в достижение идеалов которого она бодро и великодушно верила всю жизнь, и именно потому, что сама, в душе своей, способна была воздвигнуть идеал. Сохранение этой веры до конца, обыкновенно, составляет удел всех высоких душ, всех истинных человеколюбцев» '.
Свой социализм Достоевский называл «христианским»._Положительное содержание этого социализма, как мы увидим в главе о мировоззрении Достоевского, крайне неопределенное. Достоевский знал только точно, чего надо избегать, и с тех пор, как увидел сатанинскую сторону революционного социализма, стал ненавидеть его, борясь с ним как художник и публицист; и в эту пору, однако, мечты о нравственно обоснованном социализме, подобные тем, которые увлекали его в юности, сохранялись в его душе. Поэтому, говоря об измене своим прежним убеждениям, он, очевидно, имел в виду не социализм.
Остается только еще взглянуть на изменение политических убеждений Достоевского. Политической свободы он, по–видимому, никогда не ценил, опасаясь, что высшие сословия, или буржуазия, или образованные люди воспользуются ею, чтобы подчинить себе народ и наложить на него свою опеку. Что же касается различных видов гражданских свобод, Достоевский высоко ценил их всегда – ив молодости, и в зрелом возрасте, как это мы покажем несколько ниже.
Итак, осталась лишь одна область, в которой произошло действительно глубокое изменение, – отношение Достоевского к правительству и особенно к верховной власти. Во время общения с Белинским и потом с петрашевцами Достоевский был способен к борьбе за освобождение крестьян и против злоупотреблений власти принять участие в вооруженном восстании; мало того, в то время он мог бы, попав в руки лица, подобного Нечаеву, близко подойти к политическому убийству. «Я сам старый «нечаевец», – сказал Достоевский, вспоминая эту полосу своей жизни 2. Интимное общение с народом на каторге открыло глаза Достоевскому на несомненную, по крайней мере для русской жизни XIX века, истину, что основной фактор русской государственности есть религиозное преклонение народа перед царем. С этих пор любовь к России, всегда воодушевлявшая Достоевского, тесно спаялась в его душе с любовью к царю как главной силе русской государственности. Первое обнаружение этого настроения связано с Севастопольскою кампанией, когда в мае 1854 г. Достоевский написал патриотическое стихотворение «На европейские события в 1854 году» 3. В следующем году император Николай I умер и на престол вступил Александр II, которого вся Россия полюбила еще наследником. Достоевский в письме к Врангелю говорит: ' «Дн. Пис.», 1876, июнь, II.
2 «Дневник Писателя», 1873, «Одна из современных фальшей».
3 Биография, письма… стр. 17—20.
72
«Вы пишете, что любите царя. Я сам обожаю его» (№ 79, 13. IV.1856). Написав стихотворение на коронацию и заключение мира , Достоевский добивается того, чтобы оно дошло до государя. Ряд милостей, полученных от государя, производство в офицерский чин, разрешение печататься, жить в столице, а главное – великие реформы, осуществленные им, привязали сердце Достоевского к личности Александра II и превратили его в горячо преданного правительству человека. Вспомним, как взволновало Достоевского усиление революционного движения во время реформ и как, найдя у двери своей квартиры прокламацию «Молодая Россия», он поехал к Чернышевскому с просьбою удерживать революционеров. В 1868 г. он писал Майкову, что «за границей окончательно стал для России совершенным монархистом» и что западники не понимают этой основы русской государственности (№ 302). Еще через несколько лет Мекензи Уоллес рассказывал, как «в одном обществе в Петербурге кто‑то сочувственно отзывался при нем об императоре Николае Павловиче, и этот кто‑то, к великому удивлению Уоллеса, оказался Достоевским» '. Здесь именно во взглядах и чувствах Достоевского к правительству и, главное, к самодержавной царской власти находится та единственная, по–видимому, область, в которой «перерождение убеждений» его достигло степени «измены прежним убеждениям». О всех остальных его взглядах можно повторить его слова «идеи меняются, сердце остается одно»: ценности, которые были осознаны Достоевским в молодости и были дороги ему, увлекали его до конца жизни, но, по мере накопления опыта, средства осуществления их представлялись ему иными, чем в молодости.
В книге «Мученик богоискательства φ. Μ. Достоевский и религия» R А. Покровский изображает изменение убеждений Достоевского как глубокий переворот и заканчивает свое изложение словами: «Начав с влияния Белинского, он кончил влиянием Победоносцева». Сопоставление этих двух имен производит сильное впечатление, но только на несколько секунд, пока читатель не опомнится и не отдаст себе отчет в том, что Победоносцев проявил себя как крайний реакционер в царствование Александра III после смерти Достоевского.
Некоторые современники Достоевского 2 и особенно тенденциозная большевистская печать клеймят Достоевского именем реакционера. Все предыдущее изложение показывает несправедливость этих нападок. Чтобы окончательно отдать себе в этом отчет, рассмотрим подробнее отношение Достоевского к свободе личности в общественной и государственной жизни.
К политической свободе на основе буржуазной или сословной конституции Достоевский, как уже сказано, относился отрицательно, между прочим, именно потому, что боялся, как бы она не привела к стеснению свободы народа.
«Вы будете представлять интересы вашего общества, но уж совсем не народа, – читаем мы в его записной книжке. – Закрепостите вы его опять! Пушек на него будете выпрашивать! А печать‑то, печать в Сибирь
' Биография… О. Миллер, стр. 84.
2См., напр., в статье В. В. Тимофеевой «Год работы с знаменитым писателем» яркое изображение замечаний о Достоевском Н. Демерта и М. Кавоса.
73
сошлете, чуть она не по вас! Не только сказать против вас, да и дыхнуть ей при вас нельзя будет» '. «Дайте им (т. е. либералам, которые увлекаются европеизмом) хоть конституцию, они и конституцию приурочат к административной опеке России. Научить народ его правам и обязанностям? Это они‑то будут учить народ его правам и обязанностям? Ах, мальчишки!»2
В этом недоверии к ограниченным формам политической свободы Достоевский сходится со многими представителями также и революционного народничества. Что же касается различных видов гражданской свободы, Достоевский был защитником их в течение всей своей жизни. И до каторги, и после нее он был сторонником свободы печати и свободы мысли.
Всякое стеснение мысли, убеждений глубоко претило Достоевскому. В 1873 г. издатель «Гражданина» кн. Мещерский напечатал статью, где, говоря о прокламациях, найденных у студентов, он рекомендовал правительству устраивать студенческие общежития и в числе преимуществ таких студенческих домов он, по–видимому, указывал на удобство «надзора» в них за молодежью. Достоевский, будучи в это время редактором «Гражданина», выкинул строки о надзоре. В письме об этом к Мещерскому он объясняет сокращение статьи так: «У меня есть репутация литератора, губить себя я не намерен. Кроме того, ваша мысль глубоко противна моим убеждениям и волнует сердце» '. В письме к X. Д. Алчевской в 1876 г., говоря о достоинствах прогрессивно настроенной молодежи, Достоевский замечает, что есть и печальные факты: «Вчера вдруг узнаю, что один молодой человек, еще из учащихся, будучи в знакомом доме, зашел в комнату домашнего учителя, учившего детей в этом семействе, и, увидав на столе его запрещенную книгу, донес об этом хозяину дома, и тот тотчас же выгнал гувернера. Когда молодому человеку, в другом уже семействе, заметили, что он сделал низость, то он этого не понял. Тут характерен был особенно, как мне передавали, тот процесс мышления и убеждений, вследствие которых он не понял, и об чем можно было бы сказать любопытное словцо» (III, № 544).
До какой степени акт доноса претил Достоевскому, видно из следующего разговора его с А. С. Сувориным. В своем «Дневнике» Суворин сообщает: «В день покушения Млодецкого на Лорис–Меликова (20 февраля 1880) я сидел у Достоевского. О покушении ни он, ни я еще не знали».
Заговорив о политических преступлениях вообще и о взрыве в Зимнем дворце в особенности, Достоевский как бы сочувствовал этим преступлениям или, вернее, не знал хорошенько, как к ним относиться.
«Представьте, – говорил Достоевский, – что мы стоим у окна магазина Дациаро, смотрим картины и слышим разговор двух лиц; один
' «Биография, письма и заметки», стр. 360.
1 Там же, 362 с; по–видимому, и до каторги он так же относился к политическим формам, там же, О. Миллер, стр. 85 с.; см. также, «Дн. Пис.», 1881, гл. первая, I.
3 «Письма», III, № 445, см. также прим. Долинина, стр. 316 с.
74
сообщает другому, что он завел машину и Зимний дворец сейчас будет взорван. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились бы к полиции, к городовому, чтобы он арестовал этих людей? Вы пошли бы?» – «Нет, не пошел бы», – ответил Суворин. «И я бы не пошел. Почему? Ведь это ужас. Это преступление». Причины, заставляющие предупредить преступление, рассуждал Достоевский, основательны; причины, не позволяющие предупредить его, ничтожны: «просто боязнь прослыть доносчиком»; «у нас все ненормально» '.
«Административный восторг» и всякий административный произвол, нарушающий права личности, установленные законом, всегда возмущал Достоевского. Когда петербургский градоначальник Φ. Φ. Трепов наказал розгами политического заключенного А. С. Боголюбова, отказавшегося снять шапку перед ним, и Вера Засулич покушалась убить его выстрелом из револьвера, Достоевский присутствовал на ее процессе и высказался за оправдание ее 2.