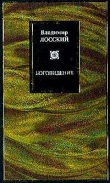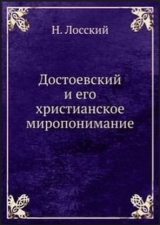
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 29 страниц)
Глава вторая РЕЛИГИОЗНАЯ ЖИЗНЬ ДОСТОЕВСКОГО
Не задаваясь целью писать биографию Достоевского, я коснусь, после данной уже общей характеристики его личности, лишь вопроса о его религиозной жизни и о том, что он сам назвал «перерождением» своих убеждений. Эти биографические данные будут изложены очень сжато, лишь настолько, насколько это полезно для дальнейших глав, характеризующих мировоззрение Достоевского.
Михаил Андреевич Достоевский, отец писателя, врач при Мариинской больнице в Москве, был человек строгий, угрюмый, скупой, подо-
' «Воспоминания» А. Г. Достоевской, 262, 239 с.; Биография, письма и заметки. Н. Страхов, стр. 317; А. П. Милюков. «Русская старина», 1881, май, 50 с.
34.
зрительный И вспыльчивый. Нет, однако, оснований считать его извергом и воображать, будто семейная жизнь Достоевских была сплошь мучительною и гнетущею: Есть много данных, свидетельствующих о том, что общий тон семейной жизни Достоевских был положительный. В вступительной статье к «Воспоминаниям» Андрея Михайловича Достоевского сын его говорит, что слухи «о демонической мрачности, болезненной скупости, дефективной жестокости» Михаила Андреевича ложны; в действительности он был человек добрый, но вспыльчивый и строгий '. О матери своей, Марии Федоровне, Андрей Достоевский говорит как о женщине чрезвычайно доброй, умной, художественно и музыкально одаренной. ·
За поведением детей родители следили так строго, что, например, даже мальчики Михаил и Федор до 16 лет никогда не выходили одни. Телесных наказаний в семье Достоевских не было. Родители ограничивались выговорами в случае проступков детей. Правда, иногда эти выговоры приобретали характер брани, например, когда отец, обучавший сам детей латыни, вспылив, называл мальчика «тупицею»; г
«Отец, по воспоминаниям родственников, —говорит Ό. Миллер, —вообще был строг, и няне Елене Фроловне не раз приходилось скрывать от него вины детей и вообще защищать их от родительской грозы»2. По–видимому, даже и не Прибегая к наказаниям, 'отец^ своим строгим тоном и внешними формами жизни доводил иногда детей до подавленного состояния. Андрей рассказывает, что, занимаясь у отца латынью, братья «нередко по часу и более не смели не только сесть, но даже и облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди «менса, менсае»… «Братья очень боялись этих уроков. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив; а главное, очень вспыльчив».
Отец и мать Достоевского часто читали вслух вместе романы и серьезные книги. Федор прислушивался к этому чтению; оно имело влияние на его развитие и художественное–творчество; так, например, романы Редклиф приковывали к себе его внимание. Нередко отец читал также и для детей. Он познакомил детей с «Историей государства Российского» Карамзина; для Федора она стала «настольною книгою».
«Я возрос на Карамзине», – пишет Достоевский Страхову в 1870 г. 3
Вечером Достоевские всею семьею предпринимали иногда прогулки; при этом отец заводил беседы на серьезные темы. Необходимо еще отметить, что родители Достоевского, особенно мать, были религиозны и заботились о религиозном воспитании детей. Рассматривая строй жизни семьи родителей Достоевского, необходимо признать, что она не была «случайною» в том смысле, какой придавал этому выражению Достоевский в «Подростке» (в эпилоге) и в «Дневнике писателя» (1887, июль – август 1,1), имея в виду семьи без выработанных идей чести и долга, существовавших в законченной форме в прежнем русском дворянстве. Посылая своему брату Андрею недавно напечатанный
' А. М. Достоевский. «Воспоминания», стр. 6.
2 Биография, письма и заметки из. записной книжки Ф. М. Достоевского, 1883, стр. 12.
3 Достоевский: Письма, – т. Ü, № 360: – '"'··'·"'-·: '
35·
роман «Подросток», Достоевский пишет ему о его семье и о семье своих
родителей: «Я, голубчик–брат, хотел бы тебе высказать, что с чрезвычайно
радостным чувством смотрю на твою семью. Тебе одному, кажется, досталось с честью вести род наш: твое семейство примерное и образованное, а на детей твоих смотришь с отрадным чувством. По крайней мере, семья твоя не выражает ординарного вида каждой среды и средины, а все члены ее имеют благородный вид выдающихся лучших людей. Заметь себе и проникнись тем, брат Андрей Михайлович, что идея непременного и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) была основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения» (№ 543, 10. III.76).
В конце 70–х гг., беседуя с братом Андреем о родителях, Федор Михайлович воодушевился: «Это были люди передовые… и в настоящее время они были бы передовыми… А уж такими семьянинами… нам с тобою не быть, брат» '. Нельзя, однако, забывать того, что семейный порядок сохранялся только в то время, когда была жива мать семьи и пока отец оставался на службе. После смерти жены М. А. Достоевский, летом 1837 г., вышел в отставку, поселился в своем имении и, живя в скучном одиночестве, сбился с пути: он стал пить, сошелся с крепостною женщиною и был убит своими крестьянами.
В разные периоды своей жизни Федор Михайлович различно оценивал общий характер своего детства. Будучи пожилым, он, по словам жены, «охотно вспоминал о своем счастливом, безмятежном детстве и с горячим чувством говорил о матери. Он особенно любил старшего брата Мишу и старшую сестру Вареньку» 2. По–видимому, однако, в молодости Достоевский не считал своего детства «счастливым» и «безмятежным». Доктор Яновский говорит в своих «Воспоминаниях»: «Он сообщал мне многое о тяжелой и безотрадной обстановке его детства, хотя благоговейно отзывался всегда о матери, о сестрах и о брате Михаиле Михайловиче; об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать» 3. Возможно, что в эту пору главным образом мысли о страшной гибели отца, а не воспоминания о его
строгости тяготили Достоевского.
Эдипов комплекс, конечно, был в подсознании Достоевского, однако
весьма смягченный уважением к отцу и общим высоким тоном семейной жизни родителей, которая была проникнута культурными и религиозными интересами. Возможно, что первым воспоминанием Достоевского, относящимся к двухлетнему возрасту, был следующий случай: мать подвела его к причастию в деревенской церкви, и в это время «голубок пролетел через церковь из одного окна в другое»". К числу первых воспоминаний Достоевского, относящихся к трехлетнему возрасту, принадлежит ежедневная молитва с нянею перед сном: «Все упование на Тебя возлагаю. Матерь Божия, сохрани мя под кровом Своим». Молитву эту Достоевский очень любил и всю жизнь прибегал к ней в трудных
' А. М. Достоевский. «Воспоминания», 94, 2 А. Г. Достоевская. «Воспоминания», 56. •^ –я η—. – «isa<; τν· κηη
3 «Русский Вестник», 1885, IV, 800.
4Л. Гроссман. Семинарий по Достоевскому, 1922, стр. 66.
36
случаях. Она входила также в состав молитв, которые он читал вместе со своими детьми перед сном их.
О пробуждении в себе сознательной религиозности в восьмилетнем возрасте Достоевский рассказывает устами старца Зосимы: «В первый раз посетило меня некоторое проникновение духовное еще восьми лет от роду. Повела меня матушка одного (не помню, где был тогда брат) во храм Господень в Страстную неделю в понедельник к обедне. День был ясный, и я, вспоминая, теперь точно вижу вновь, как возносился из кадила фимиам и тихо восходил вверх, а сверху в куполе, в узенькое окошечко, так и льются на нас в церковь Божьи лучи, и, восходя к ним волнами, как бы таял в них фимиам. Смотрел я умиленно, и в первый раз от роду принял я тогда в душу первое семя Слова Божия осмысленно. Вышел на средину храма отрок с большою книгою и прочитал начало книги Иова».
Сильное впечатление произвела на ребенка покорность Иова воле Божией: «Буди имя Твое благословенно, несмотря на то что казнишь меня», а затем тихое и сладостное пение во храме: «Да исправится молитва моя», и снова фимиам 07 кадила священника и коленопреклоненная молитва! С тех пор, даже вчера еще взял ее, и не могу читать эту пресвятую повесть без слез» («Братья Карамазовы», О священном Писании в жизни отца Зосимы, ч. II, гл. II) '.
Закон Божий детям Достоевским преподавал дьякон, обладавший даром слова и умилявший детей своими беседами. Детскую книжку по Священной истории Федор Михайлович хранил всю жизнь как святыню (О. Миллер; А. М. Достоевский, 63 с.). Чтение Евангелия в церкви производило на него всегда большое впечатление (Л. Достоевская, 34). С любимою матерью своею, которая была очень религиозна, дети почти ежегодно совершали паломничество на пять–шесть дней в Троице–Сергиевскую лавру. И своим религиозным содержанием, и своим первостепенным значением в истории России Троице–Сергиева лавра должна была глубоко влиять на детей, воспитанных на Карамзине.
Особенно сильное впечатление производили на Достоевского рассказы народа о христианских мучениках и подвижниках, которые он слышал в детстве от прислуги и крестьян, а потом в остроге среди каторжников.
«Народ наш, – говорил он, – чтит память своих великих и смиренных отшельников и подвижников, любит рассказывать истории великих христианских мучеников своим детям. Эти истории он знает и заучил, и я сам их впервые от народа услышал, рассказанные с проникновением и благоговением и оставшиеся у меня в сердце» 2. От народа «я принял вновь в мою душу Христа, Которого узнал в родительском доме еще ребенком и Которого утратил было, когда преобразился в свою очередь в европейского либерала» 3.
Что именно разумеет Достоевский под словами о временной утрате им Христа, когда произошла эта утрата и сколько времени она длилась – для ответа на эти вопросы рассмотрим подробно
' Л. Гроссман. Семинарий по Достоевскому, стр. 68.
2 «Дневник Писателя», 1877, март, 1, 2.
3 Там же, 1880, август. Ill, 1.
37
следы религиозной жизни Достоевского в Инженерном училище, а также по выходе из него вплоть до каторги.
Перед экзаменом для поступления в училище Федор Достоевский вместе со своим братом Михаилом и другом Шидловским провели час в Казанском соборе (письма, № 9, сент. 1837). В Инженерном училище, где Достоевский не только учился, но и жил вплоть до производства в инженер–прапорщики (январь 1838 – осень 1841), религиозность его была столь заметна, что некоторые товарищи его втихомолку подсмеивались над нею '. Но, вероятно, были в училище и воспитанники не менее религиозные, чем Достоевский. За десять лет до его поступления -возник в Инженерном училище «Кружок святости и чести» Димитрия Брянчанинова (будущего епископа Игнатия Брянчанвнова) и Чихачева, и можно думать, что некоторая группа воспитанников продолжала традиции этого кружка 2.
' В письмах Достоевского из училища вплоть до средины 1840 г. чрезвычайно часто встречается имя Божие, упоминания о Провидении, о благодати и. т. п., а в переписке с любимым братом Михаилом – рассуждения в духе христианства о цели жизни, о назначении поэта, о произведениях Гомера, Шиллера, Корнеля, Расина, В. Гюго.
«Атмосфера лущи человека, – пищет он брату, – сострит из слияния неба с землею; какое же противозаконное дитя человек; закон духовной природы нарушен… Мне кажется, что мир наш – чистилище духов небесных, отуманенных грешною мыслью» (№ 10, 9. VIII.38).
Он утверждает, быть может, следуя Паскалю, что высшая ступень знания достигается не умом, а сердцем.
«Что ты хочешь сказать словом «знать»? – спрашивает он брата, – Познать природу, душу, Бога, любовь… Это дознается сердцем,. а не умом… Заметь, что поэт в порыве вдохновения разгадывает Бога, следовательно, исполняет назначение философии».
Заканчивая письмо, он просит брата сообщить «главную мысль Шатобрианова сочинения «Гений христианства» (№· 12, 31. Х.38).
Когда отец Достоевских был убит, Михаил задумал, получив офицерский чин, поселиться в имении родителей и знаяться воспитанием младших братьев и сестер. Федор пишет Михаилу: «Это воспитание было бы счастье для них. Стройная организация души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия – вот следствия такого воспитания. Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле» э.
К этому времени два тяжелых удара были пережиты Достоевским: выдержав хорошо экзамены, он тем не менее был оставлен на второй год на первом курсе училища; об этой несправедливости он пишет брату: «Так хотел один преподающий (алгебры), которому я нагрубил в продолжение года и который нынче имел подлость напомнить мне это, объясняя причину, отчего остался я» (№ 12, 31. Х.38).
Через три четверти года после этого, 8 июня 1839–го, был убит отец
' Статья – «К портрету Ф. М. Достоевского», «Истор. Веста.», 1881, III.
2См. Лескова. «Инженеры–бессребреники».
3 № 14, 16. VIII.39. Письма, II, ст. 549.
38
Достоевского. Возможно, что Федор Достоевский не знал в подробностях, в какой степени опустился его отец в деревне, но достаточно было и одного факта убийства отца крепостными, чтобы глубоко потрясти душу сына. Он пишет брату Михаилу в августе: «Теперь гораздо чаще смотрю на меня окружающее с совершенным бесчувствием. Зато сильнее бывает со мною и пробуждение. Одна моя цель – быть на свободе. Для нее я всем жертвую. Но часто, часто думаю я – что доставит мне свобода… Признаюсь, надо сильную иметь веру в будущее, крепкое сознание в себе, чтобы жить моими настоящими надеждами. Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим. В эти минуты яснее сознаю свое положение, и я уверен, что эти святые надежды сбудутся. Душа моя недоступна прежним бурным порывам. Все в ней тихо, как в сердце человека, затаившего глубокую тайну; учиться, «что значит человек и жизнь», – в этом довольно успеваю я. Я в себе уверен. Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком» (№ 14, 16. VIII. 39).
В следующем письме к Михаилу, 1 января 1840 г., Достоевский пишет о Гомере, сравнивая его с Христом: «Гомер (баснословный человек, может быть, как Христос, воплощенный Богом и к нам посланный) может быть параллелью только Христу, а не Гёте. Ведь в Илиаде Гомер дал всему древнему миру организацию и духовной и земной жизни, совершенно в такой же силе, как Христос новому».
Далее он хвалит В. Гюго как лирика «чисто с ангельским характером, с христианским младенческим направлением поэзии»: «…никто не сравнится с ним в этом, ни Шиллер (сколько ни христианский поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, – я читал его сонеты на французском, – ни Байрон, ни Пушкин» (№ 16).
В этом письме несколько странным~представляется то, что Христос не занимает исключительного положения, а приравнивается к Гомеру. Далее, начиная с 1841 г. вплоть до каторги, в письмах нет обсуждения никаких проблем христианского миропонимания; самое слово «Бог», хотя Достоевский упоминает его часто, встречается здесь почти только в стереотипных речениях «ради Бога», «Бог знает», «дай Бог» и т. п.; далее начинают даже появляться слова «черт знает» и т. п., чего не было раньше и что редко будет встречаться после каторги. В письме от 30 сентября 1844 г. производит отталкивающее впечатление фраза об опекуне, муже сестры П. А. Карепине, наполненная грубо циничными выражениями: «Карепин е…, с…, водку пьет, имеет чин и в Бога верит. Своим умом дошел» (№ 26).
В начале лета 1845 г. Достоевский познакомился с Белинским, который восторженно принял его первое произведение «Бедные люди».
«Тогда, в первые дни знакомства, – рассказывает Достоевский в «Дневнике Писателя», – привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился, с самою простодушною торопливостью, обращать меня в свою веру. Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. Он знал, что основа всему – начала нравственные. Но как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо
39
было низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. Семейство, собственность, нравственную ответственность личности – он отрицал радикально. (Замечу, что он был тоже хорошим мужем и отцом, как и Герцен.) Без сомнения, он понимал, что, отрицая нравственную ответственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее Герцена, который, кажется, под конец усомнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, напротив, восстанавливает ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях. В последний год. его жизни я уже не ходил к нему. Он меня невзлюбил; но я страстно принял тогда все учение его», – сообщает Достоевский в конце этого рассказа '. Ссора с Белинским, приведшая к разрыву сношений с ним, произошла, по словам Достоевского, «из‑за идей о литературе и направлении литературы» («Летопись жизни Белинского», стр. 217; Петрашевцы. М., 1907, стр. 90).
Очевидно, «утрата Христа», связанная с «преображением в европейского либерала», произошла именно во время дружеского общенияс Белинским, начавшегося летом 1845 г. и продолжавшегося в первой половине 1846 г. Возможно, что она подготовлялась уже раньше, с 1841 г. Любовь Достоевская утверждает, что в Иване Карамазове отец ее, по преданиям семьи, изобразил себя, каким он был в двадцатилетнем возрасте. Надобно, однако,^ заметить, что даже и во время крайнего увлечения взглядами Белинского Достоевский сохранял горячее чувство преклонения^перед Христом как высшим воплощением добра. «Утрата» состояла, вероятно, лишь в том, что он отказался от церковного учения о Христе как Богочеловеке и в 1846 г. не был у св. Причастия. Возможно даже, что он не причащался с тех пор, как вышел в отставку в октябре 1844 г.
После ссоры с Белинским, которая произошла в начале 1847 г. и привела к разрыву сношений с ним, Достоевский вернулся к Церкви. Точное доказательство этого находится в сообщении доктора С. Д. Яновского о том, что Федор Михайлович в 1847 и 1849 гг. вместе с ним говел у Вознесенья и «делал это не для формы». Яновский говорит, что он «благоговел перед его твердостью в православии и заслушивался его бесед на тему любви и милосердия» 2.
Ценные дополнения к этому сообщению находятся в письмах д–ра Яновского к А. Г. Достоевской и в его «Воспоминаниях о Достоевском», написанных с целью дать представление о характере Достоевского, главным образом, как он выражался, в течение трех лет перед его арестом 3. Яновский познакомился с Достоевским в мае 1846 г., когда лечившийся у него Валериан Майков привел к нему автора «Бедных людей» как больного, желающего воспользоваться его медицинскими советами. Достоевский–пациент скоро стал другом Яновского. Они на-
' «Дневник Писателя», 1873, II, «Старые люди».
2 О. Ф. Миллер. «Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского». Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского, 1883, стр. 94 с.
3 С. Д. Яновский. «Воспоминания о Достоевском». «Русский Вестник», 1885, апрель, стр. 796—819.
40
столько сошлись, что Достоевский стал приходить к Яновскому рано утром до приема больных, чтобы вместе с ним пить чай, и затем вечером в девять часов, засиживаясь у него до полуночи и часто даже оставаясь ночевать. Встречи эти происходили почти ежедневно вплоть до ареста Достоевского. Беседовали друзья о литературе, об искусстве и «очень много Ό религии». Я патриот и «верующий в Откровение», говорит о себе Яновский и тут же прибавляет: Достоевский – «нравственный химик–аналитик неудовлетворимый», «патриот из патриотов и верующий» (стр. 799).
В письмах к А. Г. Достоевской Яновский говорит, что Христа «любил и обожал общий друг наш выше всего на свете».
«Если я не сгиб под гнетом многих меня удручавших неудач и серьезных огорчений в жизни и если, при всей моей бедности, не считаю себя далеко несчастным, – то я обязан опять‑таки Федору Михайловичу, который в годах еще моей молодости поставил меня твердо в понимании истин Евангельского учения. Он был мой духовный старшой. Ведь каждое произносимое им слово, вроде «Эх, батенька, Степан Дмитриевич, это не так» или «ну, да это, пожалуй, и так» – до сих пор отдается во всем моем существе, словно я их слышу в действительности; вследствие этого я до сих пор, что бы ни делал и что бы ни задумывал сделать, постоянно задаюсь вопросом: ну, а как бы на это взглянул и что бы на это сказал тот, образ которого всегда со мною и для которого всегда и_во всех обстоятельствах истина была выше всего».
Под влиянием своего друга, говорит Яновский, я «сделался чувствительным ко всякой лжи и фальши» и при встрече с ними «образ Федора Михайловича воскресает предо мною воочию, я вижу его сжатые от нравственной тревоги губы, замечаю движение его правой руки, начинающей то поправлять его прическу, то покручивать маленькие его усики, и даже слышу ясно его голос, произносящий «эх, батенька, как. это неверно и как это скверно», и мне делается действительно тяжело и скверно» '.
Кто‑то заявил, будто «в Евангелии сказано, что иногда и ложь бывает во спасение»; Достоевский возмутился: «В Евангелии этого не сказано»; когда «человек лжет, то делается гадко, но когда лжет и клевещет на Христа, то это выходит и гадко, и подло» (Воспоминания, 814).
Достоевский любил общественный строй, говорит Яновский, но в основание общества он клал «только истины Евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал–демократический устав -1848 года» (там же, 812).
Чрезвычайно важно для понимания религиозной жизни Достоевского в этот период следующее сообщение Яновского: «Вернейшее лекарство у него всегда была молитва. Молился он не за одних невинных, но и за заведомых грешников» (812)..
Как влияли друг на друга доктор Яновский и Достоевский в период живого и непрерывного общения их? Яновский говорит о себе, что он был верующим в Откровение, а Достоевский сообщает о себе, что он «утратил было» Христа, «когда преобразился в европейского либерала»; ' Достоевский. Сборник Долинина, т. II, Письма Яновского к Достоевской, стр. 389, 379—381.
41
он «страстно принял учение Белинского», стремившегося «низложить христианство», и произошло его увлечение идеями Белинского в 1845 г., за три четверти года до знакомства с Яновским. Тем не менее именно Достоевский, по словам Яновского, наставил его «в понимании истин Евангельского учения» и был его «духовный старшой».
Понять имеющуюся у нас совокупность данных естественнее всего следующим образом. Яновский обладал церковною верою в Иисуса Христа как Богочеловека, верою, не поколебленною сомнениями, но и не разработанною личными усилиями ума. Наоборот, Достоевский в начале этого знакомства находился в кратковременном периоде утраты веры в божественность Христа, однако личность Христа и в это время, как в течение всей его жизни, оставалась для него идеалом и путеводною звездою. Поэтому он мог помогать Яновскому понять глубокий смысл многих истин Евангелия, а сам в свою очередь, может быть, под влиянием толчка, данного примером Яновского, вернулся к Церкви и пошел вместе с другом к св. Причастию, вероятно, в Великом посту 1847 г. Маловероятно, однако, чтобы этот возврат к Церкви был обусловлен только примером Яновского. Скорее следует предполагать, что он был подготовлен уже впечатлениями и размышлениями, оттолкнувшими его от увлечения Белинским и от всего его «европейского» кружка. Неуважительное отношение Белинского к личности Христа было непереносимо для Достоевского. 'Учение Христово, рассказывает Достоевский в «Дневнике Писателя», Белинский, «как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невежественным человеколюбием, осужденным современною наукою и экономическими началами; но все‑таки оставался пресветлый лик Богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился даже и перед этим неодолимым препятствием».
«– Да, знаете ли вы, – взвизгивает он раз вечером (он иногда как‑то взвизгивал, если очень горячился), обращаясь ко мне, – знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже хотел.. Β этот вечер мы были не одни, присутствовал один из друзей Белинского, которого он весьма уважал и во многом слушался; был тоже один молоденький Начинающий литератор, заслуживший потом известность в литературе.
– Мне даже умилительно смотреть на него, – прервал вдруг свои яростные восклицания Белинский, обращаясь к своему другу и указывая на меня, – каждый‑то раз, когда я вот помяну Христа, у него все лицо изменяется, точно заплакать хочет… Да поверьте же, наивный вы человек, – набросился он опять на меня, – поверьте же, что ваш Христос, если бы родился в наше время, был бы самым незаметным и обыкновенным человеком; так и стушевался бы при нынешней науке и при нынешних двигателях человечества.
– Ну не–е-ет! – подхватил друг Белинского. (Я помню, мы сидели,
42
а он расхаживал взад и вперед по комнате.) – Ну нет: если бы теперь появился Христос, Он бы примкнул к движению и стал во главе его.
– Ну да, ну да, – вдруг и с удивительной поспешностью согласился Белинский. – Он бы именно примкнул к социалистам и пошел за ними» '.
Была и личная причина, побуждавшая Достоевского к критическому пересмотру взглядов Белинского и его приятелей–западников. Белинский отрицательно оценил повесть «Двойник» и все последовавшие за нею1 повести и рассказы Достоевского.
«Каждое его новое произведение – новое падение», – писал он П. В. Анненкову в феврале 1848 г. (Белинский, Письма, т. III, 338) и окончательно усомнился в таланте Достоевского. Друзья и приятели его, превозносившие вместе с ним Достоевского, Некрасов, особенно Тургенев и др., теперь начали осмеивать слабости Достоевского и нередко жестоко издевались над ним. В октябре 1846 г. Достоевский поссорился с Некрасовым и его журналом «Современник» из‑за того, что стал печатать свои повести в «Отечественных Записках» Краевского, а в начале следующего года совершенно прекратил общение с Белинским после ссоры «из‑за идеи о литературе и о направлении в литературе». Впоследствии Достоевский писал, что разошлись они «от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях» («Дневник Писателя», 1873, II). Это и значит, что ссора была подготовлена уже задолго до ее наступления постепенным обнаружением глубокого различия их мировоззрений. Не только отношение Белинского ко Христу, самая сущность его взглядов на отношение между обществом и индивидуумом, например убеждение в том, что преступления сполна обусловлены несовершенством экономического строя, вскоре должно было оказаться неприемлемым для Достоевского, так как оно связано с унизительным для человека отрицанием свободы и нравственной ответственности.
В 1847 г., приблизительно около времени поста, Достоевский стал посещать пятницы Петрашевского и брать книги из библиотеки его кружка («Красный архив», XLV). Общение с петрашевцами не возвратило Достоевского к взглядам Белинского, а, скорее, наоборот, ускорило осознание им религиозно–философских основ его несогласия с атеистическим социализмом, надеющимся осуществить счастье человека путем превращения общества в муравейник.
По свидетельству Спешнева, «на Федора Михайловича Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился 'над верою» (О. Миллер, 91). В одной из своих речей он назвал Иисуса Христа «демагогом, несколько неудачно кончившим свою карьеру» 2. Личность Петрашевского вообще не нравилась Достоевскому; он считал его «агитатором и интриганом» (Яновский, 819). На вопрос Яновского, почему он посещает пятницы Петрашевского, Достоевский отвечал: «У него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда1 выпьет рюмочку винца… Но вы туда никогда не попадете – я вас не пущу».
_ Отношение Достоевского к социализму, высказанное им на допросе, ' «Дневник Писателя», 1873 г. II. 2 Щеголе«. «Петрашевцы», т. III.
43
по–видимому, с достаточною откровенностью, было в это время таково. Фурьеризм он считал «системою вредною», во–первых, уже потому, что она – система; «во–вторых, как ни изящна она, она ^ все же утопия, самая несбыточная. Но вред, производимый этой утопией, если позволят мне так выразиться, более комический, чем приводящий в ужас». Но вместе с тем Достоевский заявил, что он считает идеи социализма, при условии мирного осуществления их, «святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества» '.
В кружке петрашевцев Достоевский интересовался, по–видимому, вопросом о реформе суда, о свободе печати и особенно об уничтожении крепостного права; он надеялся на освобождение крестьян самим правительством, но в крайнем случае признавал возможным достигнуть цели путем восстания (О. Миллер, 85). Эти интересы нисколько не препятствовали возвращению Достоевского к Церкви, которое выразилось в том, что в 1847 и 1849 гг. он приобщался вместе с Яновским в Вознесенской церкви. Возможно, что уже в это время он начал обдумывать статью о назначении христианства в искусстве, о которой в 1856 г. он писал Врангелю, что она – «плод десятилетних обдумываний», что она вся «до последнего слова» обдумана им «еще в Омске». Он собирался уже послать ее Врангелю, но Врангелем она не была получена и вообще никогда не увидела света. Статью эту Достоевский хотел посвятить Президенту Академии Наук Великой княгине Марии Николаевне, следовательно, считал мысли, выраженные в ней, приемлемыми для лица, занимающего видный пост в России.
За восемь лет до этого Достоевский прочитал в кружке Петрашевского «Письмо Белинского к Гоголю», что и было главным предметом обвинения, приведшего его на эшафот, а потом на каторгу. Письмо это – атеистическое, наполненное резкими нападениями на Церковь, в особенности Русскую Православную, и на русское духовенство. Так как в то время Достоевский свободно, по внутреннему побуждению вернулся к Церкви, то факт чтения письма Белинского нужно исследовать и его можно, понять следующим образом. На допросе Достоевский объяснял это чтение как следствие случайно данного Петрашевскому обещания. Придя к Дурову, Достоевский получил присланную ему копию «Письма Белинского» и прочитал ее. Вскоре пришел Петрашевский и, узнав, что в тетрадке содержится «Письмо Белинского», попросил Достоевского прочитать его на кружке. Я, показывал Достоевский, «обещал неосторожным образом прочесть ее у него» и уже «не мог отказаться» от обещания. «Я его прочел, стараясь не высказывать пристрастия ни к тому, ни к другому из переписывавшихся». Правильность этого показания, поскольку Достоевский старается показать им, что полного сочувствия к письму Белинского у него не было, не вызывает серьезных сомнений. Сочувствовать атеизму Белинского и нападениям его на Церковь вообще он не мог, но он, конечно, сочувствовал нападениям на недостатки Церкви и обличениям против русского духовенства. Барон Врангель, описывая свое общение с Достоевским в Сибири в 1854—56 гг., рассказывает: ' Н. Бельчиков. Показания Ф. М. Достоевского по делу петрашевцев. «Кр. Архив». XLV, 1931, стр. 132.