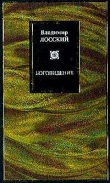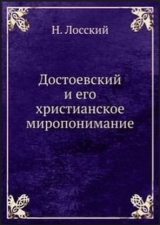
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 29 страниц)
226
этот старичок. Максимов, и я ее уговорил, слышь ты? уговорил и успокоил, внушил, что тебе надо же оправдаться, так чтоб она не мешала, чтоб не нагоняла на тебя тоски, не то ты можешь смутиться и на себя неправильно показать, понимаешь? Ну, одним словом, говорил, и она поняла. И так успокойся, пойми ты это. Я пред ней виноват, она христианская душа, да, господа, это кроткая душа и ни в чем неповинная. Так как же ей сказать, Дмитрий Федорович, будешь сидеть спокоен аль нет?» – «Добряк наговорил много лишнего, но горе Грушеньки, горе человеческое, проникло в его добрую душу, и даже слезы стояли на глазах его». В. Короленко, проведший значительную часть своей жизни в ссылке в разных местах Азиатской 'и Европейской России, сообщает в своей автобиографии – «История моего современника» множество случаев такого доброго отношения жандармов, полицейских и, т. п. к заключенным» ссыльным.,.
«При полном реализме найти в человеке человека, – говорит Достоевский в своих записных тетрадях, – это русская черта по преимуществу». Свое собственное художественное творчество он характеризует этою чертою и поясняет: «В этом смысле я, конечно, народен, ибо направление мое истекает из глубины христианского духа народного» '.
Синтез и завершение всех добрых свойств русского народа Достоевский находит в его христианском духе. «Может быть, единственная любовь народа русского есть Христос», – думает Достоевский («Дн. Пис.», 1873). Достоевский доказывает эту мысль так: русский народ своеобразно принял Христа в свое сердце, как идеального человеколюбца; он обладает поэтому истинным духовным просвещением, получая его в молитвах, в сказаниях о святых, в почитании великих подвижников. Его исторические идеалы – св. Сергий Радонежский, св. Феодосии Печерский, св. Тихон Задонский (1876, февр.). Признав святость высшею ценностью, стремясь к абсолютному добру, русский народ не возводит земные относительные ценности, например частную собственность, в ранг «священных» принципов.
Носителем высоких идеалов является, согласно Достоевскому, в его время главным образом простой яарод; верхний образованный слой русского общества, оторвавшийся от почвы после петровской реформы, должен вернуться к народу и преклониться перед «правдою народною». В этом состоит «почвенничество» Достоевского. Не следует, однако, думать, будто Достоевский утверждает, что интеллигенция должна учиться у народа, а народ ничему не может научиться от интеллигенции. «Преклониться», говорит Достоевский, мы должны под одним лишь условием, и это sine qua non : чтобы народ и от нас принял многое из того, что мы принесли с собой. Не можем же мы совсем перед ним уничтожиться, и даже перед какой бы то ни было правдой; наше пусть остается при нас, и мы не отдадим его ни за что на свете, даже в крайнем случае, и за счастье соединения с народом. В противном случае пусть уж мы оба погибнем врознь» (1876, февр.).
' Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. Достоевского, 1883 стр. 373.
227
Как могло случиться, что «народ–богоносец», народ «христианского духа» произвел самую свирепую и самую безбожную революцию? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим недостатки русского народа, восходя к той их основе, из которой вытекают и достоинства, его. Увлеченный стремлением к абсолютному, русский человек сравнительно мало проявляет интереса к средней области земной культуры. «Или все, или ничего» – таков сознательный или безотчетный принцип поведения многих русских людей. В современной русской литературе особенно много писал об этом свойстве русского духа Бердяев. Русский человек может совершать великие подвиги во имя абсолютного идеала, но он может и глубоко пасть, если утратит его. Карсавин говорит, чТо если русский усомнится в абсолютном идеале, то он может дойти до крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему; он способен перейти «от невероятной законопослушности до самого необузданного безграничного бунта» '.
Для большей ясности я попытаюсь изложить эту черту русского характера, опираясь на основы своего учения о строении личности. Всякая личность есть све. рхвременное и сверхпространственное я, одаренное сверхкачественною творческою силою. Сотворенного Богом определенного эмпирического характера (гордости, смирения, доброты, злобности, трусости, храбрости и т. п.) ни одна личность не имеет. Всякое я свободно вырабатывает себе само свой эмпирический характер: выбирая или творя те или другие ценности и осуществляя их, личность создает определенный способ поведения, т. е. свой эмпирический характер. Она никогда не остается навеки связанною этим характером: как бы глубоко ни упрочился характер личности, основное свойство ее есть сверхкачественная творческая сила; поэтому всякое я стоит выше своего эмпирического характера, может перерабатывать его и заменять совершенно новым способом поведения 2.
У западных европейцев, интересующихся больше, чем русские, среднею областью культуры, есть веками упроченная форма индивидуальной и общественной жизни; в связи с нею многие черты эмпирического"характера отдельных лиц точно выработаны и глубоко укоренены уже с детства под влиянием воспитания и воздействия общественных нравов. Даже внешне – в чертах лица, в манерах, в одежде в большинстве случаев обнаруживается эта строгая выработанность жизни. Поэтому между творческою силою западного европейца и его поступками стоит его эмпирический характер, ограничивающий его проявление так, что он иногда становится рабом своего характера и ему нужны неимоверные усилия, чтобы освободиться от своих привычек, традиций и т. п. Наоборот, русский человек в своем искании абсолютного и бесконечного обыкновенно не удовлетворяется надолго никакими определенными выработанными формами жизни. Поэтому у многих русских людей эмпирический характер недостаточно определен и не упрочен. Между творческою силою такого русского и его поступками не стоит, как ограничивающий и направляющий фактор, его эмпирический характер, Карсавин. «Восток, Запад и русская идея», Пгр., 1922. См. мою книгу «Свобода воли».
См. мою книгу «Свобода води».
228
не помогает устраивать жизнь легко в привычных формах, но зато и не стесняет свободы. Даже внешне это выражается в расплывчатых чертах лица, в невыработанных манерах, в небрежности одежды.
О невыработанности русского характера Достоевский рассуждает много в различных своих произведениях. В романе «Идиот» князь Мышкин говорит: «У меня жеста приличного, чувства меры нет». Интересно, что и в самом себе Достоевский отмечает эту черту: «Формы, жеста не имею» (Письма, № 269, 8. V. I 867).
Многие недостатки, но зато и многие достоинства русского человека объясняются невыработанностью характера и формы поведения. У русского человека, говорит Достоевский, «широкий всеоткрытый ум» («Дн. Пис.», 1876, февр. 1, 2). «Русские слишком богато и многосторонне одарены, чтобы скоро приискать себе приличную форму» («Игрок»). В самом деле, четкая форма появляется там, где началась специализация, где из многих возможностей избрана одна определенная и на ней сосредоточены все силы, так что в одной, сравнительно ограниченной области получается высокая степень развития, но при этом остальные способности отмирают, многосторонность молодости исчезает, наступает возмужалость и старость. Таковы западные европейцы; они – старики.
Наоборот, «мы, русские, – говорит Достоевский, – народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но большому кораблю большое и плавание. Мы народ свежий, и у нас нет святынь quand même. Мы любим наши святыни, но потому лишь, что они в самом деле святы. Мы не потому только стоим за них, чтобы отстоять ими L'Ordre» («Дн. Пис.», 1876, февр.).
Несвязанность русского человека своим эмпирическим характером только тогда хороша, когда он стремится к абсолютному идеалу Божественного добра. Но если он почему‑либо утратит этот идеал, он не найдет тогда в своей душе никаких привычек и форм, сдерживающих страсти и помогающих бороться с соблазнами зла. Он может тогда дойти до крайних степеней зверства, например, «наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу кнутом по глазам» (1876, янв.); он может тогда проявить крайнее озорство, хулиганство; он может оказаться изменником и предателем, каких свет не видывал (вспомним Гришку Кутерьму в опере Римского–Корсакова «Град Китеж»). Вступив на этот путь, русский человек испытывает потребность, говорит Достоевский, «хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и – броситься в нее, как ошалелому, вниз головой».
В виде подтверждающего примера Достоевский рассказывает об одном деревенском парне, который «по гордости» взялся совершить поступок самый крайний по степени дерзости, и совершил его, именно – расстрелял Причастие. В момент выстрела он увидел пред собою «крест, а на нем Распятого» и упал без чувств. Через несколько лет муки раскаяния заставили его ползком добраться до «старца» в монастыре, чтобы исповедать свой грех (1873). Имея в виду подобные отвратительные проявления русского человека, Достоевский говорит: «Судите
229
русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости своей постоянно воздыхает» (1876, февр.).
С невыработанностью эмпирического характера связана и русская широта, становящаяся предосудительною, когда человек оказывается способным созерцать сразу две бездны, принимать одновременно идеал содомский и идеал Мадонны. Говоря об этом, Димитрий Карамазов воскликнул: «Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». И в «Подростке» два раза идет речь об этой широте иных русских людей, – один раз в связи с характером «подростка», а другой раз в связи с поведением сестры его Анны Андреевны.
Юноша, руководившийся в детстве безотчетно усвоенными и инстинктивно выработанными религиозными и нравственными началами, если он духовно одарен, переживает период сознательной критики этих основ жизни. При этом он–иногда испытывает кризис сомнения и даже временной утраты религии и традиционной нравственности; что касается религии, она утрачивается иногда уже до конца жизни. Особенно остро протекает такой кризис у множества русских молодых людей. «Русские мальчики, – говорит Достоевский устами Карамазова, – едва лишь познакомятся, тотчас начинают говорить о вековечных вопросах», «есть ли Бог, есть ли бессмертие», а утратив веру в Бога, толкуют «о переделке всего человечества по новому штату», – «так это все те же вопросы, только с другого конца».
Если народ духовно одарен, то и целый народ, переходя от инстинктивных основ своего национального бытия к осознанию их, может пережить период критического сомнения в них и даже отрицания. В Древней Греции во времена Сократа симптомом такого кризиса была деятельность софистов с их атеизмом, скептицизмом, этическим релятивизмом. Подобный кризис начал переживать русский народ, начиная с средины XIX века. Он выразился сначала в нигилизме, широко распространившемся в кругах образованных русских людей, особенно среди разночинцев. Спускаясь все ниже, этот кризис в XX веке охватил рабочих и часть крестьянства и нашел себе–выражение в большевистской революции, самой разрушительной из всех, пережитых человечеством.
Отношение Достоевского к западничеству («либерализму») и славянофильству, к нигилизму и к революционному социализму, не обоснованному нравственно и религиозно, было и будет предметом многих специальных исследований. Здесь я скажу об этом предмете лишь несколько слов, насколько это необходимо для характеристики христианского миропонимания Достоевского.
Достоевский не был ни односторонним славянофилом, ни односторонним западником–либералом. «Обе партии, – писал он, – в отчуждение одна от другой, во вражде одна с другой, сами ставят себя и свою деятельность в ненормальное положение, тогда как в единении и в соглашении друг с другом могли бы, может быть, все возместить, все спасти, возбудить бесконечные силы и воззвать Россию к новой, здоровой, великой жизни, доселе еще невиданной» («Дн. Пис.», 1880). Но
230
о крайних западниках–либералах он писал язвительно и непримиримо. Ему ненавистно было в них отрицательное отношение к православию как форме религиозности будто бы реакционной, мешающей развитию русского народа. Не менее ненавистно ему было отрицание некоторыми либералами индивидуального своеобразия русского народа, уверенность их в том, что нет никакой «русской правды народной», что все своеобразное в русском народе есть пережиток варварства, и развитие русского народа должно свестись к усЕоению западноевропейской науки с ее «просвещенным и гуманным атеизмом» и к пересадке на русскую почву западных политических форм. Отвечая Кавелину, Достоевский пишет в своих записных тетрадях: западничество есть «партия во всеоружии», готовая к бою против народа, и именно политическая. Она стала над народом; как опекающая интеллигенция, она отрицает народ, она, как вы, спрашивает, чем он замечателен, и, как вы, отрицает всякую характерную самостоятельную черту его, снисходительно утверждая, что эти черты у всех младенческих народов. Она стоит над вопросами народными: над земством так, как его хочет и признает народ; она мешает ему» желая управлять им по–чиновнически, она гнушается идеи органической духовной солидарности народа с царем» '.
Достоевский готов встретить западников «в восторге сердца», если они «признают хоть самостоятельность и личность русского духа, законность его бытия и человеколюбивое, всеединяющее его стремление» («Дн. Пис.», 1880, авг., 1).
В письме к Майкову из Женевы в 1868 г. Достоевский пишет, что «в русской либеральной печати все та же заскорузлая ненависть к России», «ваш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным». Через два года в письме к тому же Майкову он рассказывает, что прочитал в передовой статье «Голос» признание: «Мы, дескать, радовались в Крымскую кампанию успехами оружия союзников и поражению наших». И действительно, русские люди в своем страстном желании видеть родину совершенною подчеркивают и преувеличивают все недостатки ее и в обличении их доходяг до так называемого «самооплевания», явления, не замечаемого у других народов. Точно так же во время войны среди русских, вероятно, чаще, чем среди других народов, встречаются пораженцы, надеющиеся на исцеление своего государства от тех или других недостатков путем военной катастрофы.
Русский нигилизм и материалистический социализм идет гораздо дальше отрицания Церкви и ценности национального своеобразия. Отвергнув идею Божественного добра, русский социалист–атеист абсолютирует какую‑нибудь относительную ценность, например коммунизм, и доходит до крайних степеней последовательности в отрицании и разрушении всех ценностей, которые кажутся ему несовместимыми с социализмом или сколько‑нибудь замедляющими его осуществление. В прокламации «Молодая Россия», появившейся в 1862 г., дается совет для осуществления «социальной и демократической республики русской»
' Биография, письма и заметки из записной книжки Φ. Μ. Достоевского, 1883, стр. 372.
231
произвести революцию, не останавливаясь ни перед какими жестокостями: «Бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах, бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по деревням и селам. Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против нас, кто против, тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами».
Мысль о необходимости истребить всех, кто по строю своей души не годится для преобразования общества на новых началах, высказывали в России не только жестокие революционеры, способные на любое преступление, но и люди мягкосердечные. В романе «Бесы» Липутин, представляя Степану Трофимовичу Кириллова, человека доброго, не способного мухи обидеть, говорит о его идеологии: они «до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прикасаются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разрушения для добрых окончательных целей. Они уже больше чем сто миллионов голов требуют для водворения здравого рассудка в Европе, гораздо больше, чем на последнем конгрессе мира потребовали». Большевистская революция эту про:· грамму и осуществила: всеобщее разрушение произведено ею в такой степени, что дать понятие о нем людям, не пережившим этого ужаса, невозможно, а количество отправленных на тот свет людей равняется не менее чем тридцати миллионам, если считать не только расстрелянных людей, но и смертность в концентрационных лагерях и гибель множества людей от голода в начале революции вследствие реквизиции хлеба, а потом вследствие стремительного разрушения индивидуальных крестьянских хозяйств и замены их колхозами.
Перечисленные недостатки русских людей исходят из того же источника, из которого вытекает и христианский дух его, именно из напряженного искания абсолютного . Замечательно, что такие лица, как Чернышевский, Добролюбов и самый яркий представитель нигилизма Писарев в молодости были глубоко религиозны. Писарев, например, будучи студентом, вступил в кружок религиозных мистиков, считавших своею обязанностью девственность на всю жизнь. Быть может, именно чрезмерность его религиозного горения была причиною утраты им веры спустя два года '.
2. МИССИЯ РУССКОГО НАРОДАЗная глубокую религиозную основу русского духа, Достоевский, несмотря на все недостатки народа, верил в то, что русским предстоит осуществить великую миссию в Европе. «Сущность русского призвания» он видит «в разоблачении перед миром Русского Христа, миру неведомого, и которого начало–заключается в г. ашем родном Православии» (к Страхову, 1869 г., № 325). Ввиду широты русского ума и характера Достоевский уверен, что христианский дух выразится в способности
См ст. И. Лапшина «La phénoménologie de la conscience religieuse dans la littérature russe». Зап. научно–исследов. объед., № 35, Прага, стр. 25—28.
232
выработать синтез всех противоположных идей и стремлений, разделяющих народы Европы, откуда получится не только теоретическое, но и практическое примирение всех разногласий.
Замечательно, что эта способность и страсть русского ума ко всеохватывающему синтезу отмечена задолго до Достоевского, как это указывает Б. Яковенко в своей «Истории русской философии», многими русскими писателями – кн. В. Ф. Одоевским, Белинским, И. В. Киреевским, Шевыревым '.
В 1861 г. в журнале «Время» Достоевский писал, что основное стремление русских людей есть «всеобщее духовное примирение». «Русская идея станет со временем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих национальностях». Западные народы стремятся «отыскать общечеловеческий идеал у себя собственными силами и потому все вместе вредят сами себе и своему делу». «Идея общечеловечности все более и более стирается между ними. У каждого из них она получает другой вид, тускнеет, принимает в создании новую форму. Христианская связь, до сих пор их соединявшая, с каждым днем теряет свою силу». Наоборот,» русском характере «по преимуществу выступает способность высокосинтетическая, способность всепримиримости. Бесчеловечности». «Он со всеми уживается и во все вживается. Он сочувствует всему человеческому вне различия национальности, крови и почвы. Он находит и медленно допускает разумность во всем, в чем хоть сколько‑нибудь есть общечеловеческого интереса». «Вот почему европейцы совершенно не понимают русских, и величайшую особенность в их характере назвали безличностью» (там же, III). В величайшем русском поэте Пушкине всего совершеннее воплощен этот «русский идеал – всецелость, всепримиримость, всечеловечность» (там· же, V). Именно русские, думает Достоевский, положат начало «всепримирению народов» и «обновлению людей на истинных началах Христовых» («Дн. Пис.», 1876, июнь). Восточный идеал, т. е. идеал русского православия, есть «сначала духовное единение человечества во Христе, а потом уж, в силу этого духовного соединения всех во Христе, и несомненно вытекающее из него правильное ^государственное и социальное единение» («Дн. Пис.», 1877, май – июнь). Такой идеал есть применение формулированного Хомяковым принципа соборности не только к строю Церкви, но и к строю государственному, к строю экономическому и даже к международной организации человечества.
Речь о Пушкине, произнесенная Достоевским 8 июня 1880 г. в Москве,. была верховным выражением его убеждения в том, что «сила духа русской народности» есть «стремление ее в конечных целях своих ко всемирное™ и Бесчеловечности»., Что касается внутреннего строя русской общественности, Достоевский и здесь видел нечто вроде соборности, указывая на демократизм всех слоев–русского общества. «Честность, бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому сомнению», говорит Достоевский. В Европе
Б. Яковенко. «Dejiny ruské filosofie», стр 17 ··
233
«демократизм до сих пор и повсеместно заявил себя еще только снизу, еще только воюет, а побежденный (будто бы) верх до сих пор дает страшный отпор Наш верх побежден не был, наш верх сам стал демократичен, или, вернее, народен». Поэтому у нас в России «временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и беспрерывным влиянием впредь таких огромных начал (ибо иначе и назвать нельзя), как всеобщее демократическое настроение и всеобщее согласие на то всех русских людей, начиная с самого верху» («Дн. Пис», 1876, май).
В главе «Религиозная жизнь Достоевского» мною поставлен вопрос, было ли для Достоевского православие самоценностью или только средством, необходимым для политической жизни России. Ответ там был дан следующий: любя русский народ, Достоевский стал внимательно всматриваться в то, что дорого русскому народу и в чем выражаются его достоинства; при этом ему открылась самоценность Русского Православия. Настоящая глава «Характер русского народа» должна служить окончательным подтверждением мысли, что разделение на цели и средства здесь не имеет смысла: любовь к русскому народу и любовь к Русскому Православию составляют в его душе органическое целое, две стороны которого друг друга поддерживают и взаимно обосновывают.
Ход русской истории как будто опровергает убеждение Достоевского в том, что христианский дух есть выражение сущности русского народа. Именно русский народ осуществил наиболее свирепую антихристианскую и принципиально атеистическую революцию. В ответ на это сомнение следует напомнить, что революция есть преходящее болезненное состояние общества. Великая французская революция, несмотря на жестокие преследования церкви, не уничтожила католичества во ФранцииСогласно сведениям из России, сами большевики сознаются, что религиозность в русском народе до сих пор сильна. Можно надеяться, что Русское Православие после тяжелых испытаний не погибнет, а, наоборот, поднимется на еще более высокую ступень сознательности и духовной чистоты. Тогда исполнятся слова старца Зосимы, хотя и не так, как надеялся Достоевский: «Народ встретит атеиста и поборет его, и станет единая православная Русь».