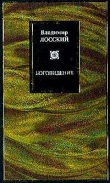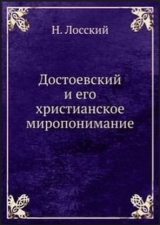
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Макар Иванович близок к святости, а старец Зосима и есть изображение подлинного святого, как его представляет себе Достоевский. История переворота, приведшего Зосиму в молодости от пустой светской жизни к подвижничестну, рассказана Достоевским с изумительною силою. В детстве Зосима был глубоко религиозен и на всю жизнь сохранил умилительные воспоминания о своем детском религиозном опыте (в главе о «Религиозной жизни Достоевского» указано, что это —
;. воспоминания из детства самого Достоевского). К числу глубоких впечатлений детства его принадлежали и воспоминания о брате его Маркеле, который, приближаясь к смерти от чахотки, из атеиста стал пламенно и восторженно верующим человеком, исполненным любви ко всему живому, проникнутым убеждением, что «всякий из нас пред всеми во всем виноват» и что завтра же «стал бы на всем свете рай», если бы у нас открылись глаза на все то добро, которое есть в мире.
Отданный в кадетский корпус, потом став офицером, Зосима предался вместе с товарищами–офицерами распущенной жизни, пока не произошел ряд событий, потрясших его впечатлительную душу до глубины. Он полюбил умную и достойную девушку и вообразил, что она тоже любит его, но предложения ей не делал, не желая так скоро «расстаться с соблазнами развратной, холостой и вольной жизни». Вернувшись из двухмесячной командировки, он узнал, что любимая им девушка давно уже была невестою высокообразованного, всеми уважаемого помещика и вышла замуж за него. Зосимою овладела злоба и ревность; он грубо оскорбил своего «соперника» и вызвал его на поединок. Накануне дуэли, недовольный собою, он рассердился на своего денщика Афанасия и два раза ударил его, разбив ему лицо до крови. Проснувшись во время восхода солнца, он открыл окно в сад. «Вижу, – рассказывает Зосима, – восходит солнышко, тепло, прекрасно, зазвенели птички. Что же это, думаю, ощущаю я в душе моей как бы нечто позорное и низкое?» Он вспомнил, как накануне избил Афанасия: «Стоит он предо мною, а я бью его с размаху прямо в лицо, а он держит руки по швам, голову прямо, глаза выпучил, как на фронте, вздрагивает с каждым ударом и даже руки поднять, чтобы заслониться, не смеет, – и это человек до того доведен, и это человек бьет человека! Экое преступление! Словно игла острая прошла мне всю душу насквозь. Стою я, как ошалелый, а солнышко‑то светит, листочки‑то радуются, сверкают, а птички‑то Бога хвалят… Закрыл я обеими ладонями лицо, повалился на постель и заплакал навзрыд. И вспомнил я тут моего брата Маркела и слова его пред смертью слугам: «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня любите, да и стою ли я, чтобы служить‑то мне?» «Да, стою ли», – вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие Божие, мне служил?
191
Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. «Матушка, кровинушка ты моя, воистину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали – сейчас был бы рай». В душе Зосимы произошел переворот, выжегший как каленым железом все дурные страсти его – самолюбие, честолюбие, погоню за чувственными наслаждениями. Он поехал на поединок, выдержал выстрел своего противника, оцарапавший ему щеку, а сам отказался стрелять и попросил прощения у своего противника. Затем вышел в отставку и поступил в монастырь.
В романе мы находим старца Зосиму уже человеком духовно зрелым, с большим знанием жизни и людей. Он проявляет поразительное проникновение в глубокие тайники души, например, тогда, когда в ответ на неприличное шутовство Федора Павловича советует<му: «…не стыдитесь столь самого себя, ибо от сего лишь все и выходит», или когда он понял борьбу, происходившую в сердце Ивана Карамазова, или когда поклонился «великому будущему страданию» Димитрия Карамазова. Как многие святые, он обладает не только прозорливостью, но и доходит иногда до ясновидения в пространстве и даже во времени.
Старцу Зосиме присуща высокая духовная сила руководства людьми, способность дать нуждающимся утешение и наставление. Проявляется эта способность часто в весьма оригинальной форме: беседуя с матерью, потерявшею любимого единственного сына–младенца и близкой к унынию, он говорит ей, что, когда она преодолеет себя и вернется к семейной жизни, горе постепенно перейдет в тихое умиление, – «вот он снится теперь тебе, и ты мучаешься, а тогда он тебе кроткие сны пошлет». Вдове, которая, по–видимому, извела своего мужа–старика и исповедала свой грех старцу, он, видя мучения совести ее, говорит: «…коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже Божья…»
Старец советует не слишком бояться греха людей, любить человека «и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле». Под этим наставлением кроется не выраженное в понятиях постижение того, что абсолютного зла и абсолютного эгоизма не бывает на свете. В составе всякого поступка есть хотя бы в виде едва заметной слагаемой бескорыстная любовь к какой‑нибудь объективной ценности. Поэтому, видя в мире бездну зла, не следует все же приходить в отчаяние и уныние: можно отыскать даже и в дурном поведении то живое место, исходя из которого удастся с успехом начать самовоспитание или воспитание других. Такое видение добра даже и в составе злого поступка противоположно наслаждению Ставрогина как подвигом, так и злодеянием: оно ведет не к утрате различия добра и зла, а, наоборот, к более чуткому различению их.
Религиозность старца Зосимы есть светлая форма христианства. Глубину зла он хорошо понимает хотя бы тогда, например, когда, заканчивая рассказ о «таинственном посетителе», он говорит: «…любит человек падение праведного и позор его». Это не мешает ему, однако, видеть преобладание добра в мире и бодро содействовать конечной победе его. Его никогда не покидает «тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим» и убеждение, что «корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных». У него
192
высоко развита способность воспринимать красоту природы и видеть связь ее с Христом как Богом–Словом. Понятно поэтому, что основной тон жизни старца Зосимы есть «веселие сердца», и он проповедует: «…просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные». «Для счастия, – говорит он Хохлаковой, – созданы люди, и кто вполне счастлив, тот прямо удостоен сказать себе: «Я выполнил завет Божий на сей земле». Все праведные, все святые, все святые мученики были все счастливы». Многие ценные мысли старца Зосимы, характерные для православной русской религиозности и выражающие христианство самого Достоевского, были уже приведены выше и будут использованы ниже.
4. АЛЕША КАРАМАЗОВВ предисловии к «Братьям Карамазовым», величайшему из своих произведений, Достоевский говорит, что герой его романа – Алексей Федорович Карамазов. Он хотел посвятить изображению его жизни два романа. Смерть помешала ему исполнить это намерение. В написанном, первом романе Алеша Карамазов, двадцатилетний юноша, не является непосредственным участником ряда возникающих перед ним драматических положений и «надрывов», однако значительность его личности сказывается в том, что уже в этом возрасте он делается как бы совестью многих 'лиц романа. Всепроникающее значение его выражено в ряде мелких на первый взгляд черточек, поэтому рассказать о нем нелегко.
Алеша – «ранний человеколюбец». Как любящему природу человеку естественно встречать благосклонным взглядом каждый цветок, каждую пробивающуюся среди камней травку, всякого жаворонка, звенящего в воздухе, и желать в случае нужды помочь его жизни, так и Алеше Карамазову свойственно желание и умение сочувственно войти в жизнь каждого человека. Всеобъемлющая любовь его не есть какое‑то расплывчатое физиологическое добродушие; она исходит из духовной связи его со всем миром, и особенно со всеми людьми, в добре, объединяющем мир с Богом. «Чистые сердцем Бога узрят». Чистота сердца Алеши, свободного от себялюбия, прямо вводит его в единство мира в Боге.
В числе первых запомнившихся ему на всю жизнь впечатлений было «исступленное, но прекрасное лицо матери», молящей за него Богородицу и протягивающей его «обеими руками к образу как бы под покров Богородице». И в городок к отцу своему он приехал, главное, чтобы отыскать могилу своей матери. Здесь он встретил старца Зосиму и поступил в монастырь послушником в уверенности, что Зосима «свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети Божий, и наступит настоящее Царство Христово». Эта мечта его показывает, что он вовсе не собирается быть затворником, презирающим мир и отрекающимся от него. Наоборот, его христианство, как и у старца Зосимы, – светлое, приемлющее мир. Ему свойственна не только любовь–сострадание, но и любовь–сорадование. Cnyuiai
н. о. Лосский
193
в полусне у гроба старца Зосимы Евангельское чтение о чуде в Кане Галилейской, он восторженно думает: «Ах, это милое чудо. Не горе, а радость людскую посетил Христос, в первый раз сотворяя чудо, радости людской помог». Выйдя в сад с этими мыслями и настроениями, Алеша воспринял всю природу земную и весь мир в его таинственной красоте и связи с Богом.
В день испытанных Алешей тяжелых переживаний, когда он был свидетелем «надрыва в гостиной», «надрыва в избе» и «надрыва на чистом воздухе», он говорил с Лизою Хохлаковой о «земляной карамазовской силе», сомневаясь, «носится ли Дух Божий вверху этой силы», и причисляя самого себя к носителям ее, он неожиданно сказал: «А я в Бога‑то вот, может быть, и не верую»; в этих «внезапных словах его» было нечто «слишком субъективное, может быть, и ему самому неясное, но уж несомненно его мучившее». В этих словах Алеши выражается то же, что мы нашли и у самого Достоевского (см. главу «Религиозная жизнь Достоевского»): не отрицание бытия Бога, а сила духа все испытующею и требующего понятного ответа на вопрос, как возможно мировое зло рядом с бытием Бога. Из этой проблемы возник «бунт» гордой души брата Алеши Ивана и мучительное для совести «все позволено», приведшее к попустительству замыслам Смердякова. В душе Алсши не может быть и намека на такое падение, столь определенно он стремится всею душою к Богу и Его добру, веря «в Него незыблемо». Даже и потрясенный страшными проявлениями мирового зла в сгущенном изображении Ивана, Алеша говорит, что в конце концов люди пред лицом пострадавшего за них Христа воскликнут: «Прав Ты, Господи, ибо открылись пути Твои!» Поэтому‑то Иван Карамазов, заметивший, что его брат'«твердо стоит», и завел с ним разговор о своем «бунте» против Бога, пояснив ему, что «я, может быть, себя хотел бы исцелить тобою».
Рассмотрим теперь ряд мелких сравнительно подробностей, чтобы обстоятельно узнать, с каким юношею мы встретились. «Ранний человеколюбец» Алеша любит людей, по свидетельству Грушеньки, «ни за что», просто потому, что они люди. К своему отцу Федору Павловичу, распутство которого для «целомудренного и чистого» юноши было мучительно, он проявляет «всегдашнюю ласковость» и «прямодушную привязанность». «Он не хочет быть судьей людей»; «казалось даже, что он все допускал, нимало не осуждая, хотя часто очень горько грустя». Обидеть он никого не может, и сам он нанесенной ему обиды «никогда не помнил», вернее, «просто не считал ее за обиду». «Алеша уверен был, что его и на всем свете никто и никогда обидеть не захочет, даже не только не захочет, но и не может». И неудивительно: в его душе не было себялюбия, доступного ранению. В нем нет гордости, честолюбия или колкого самолюбия; «между сверстниками он никогда не хотел выставляться». Наткнувшись на резкий отпор людей, которым он хотел помочь, например когда Екатерина Ивановна, тайну любви которой к Ивану он разоблачил, сказала ему: «Вы… вы маленький юродивый, вот вы кто!» – он не обиделся на нее, потому что стал обвинять самого себя в неумелой попытке «примирять и соединять». Это и есть подлинное христианское смирение, не подчеркивающее себя и просто самого себя
194
не замечающее. Алеше не нужно никакого мучительного самоопределения, когда он ставит себя на одну доску со всеми остальными людьми, также и со Снегиревым. Анализируя вместе с Лизою поступок Снегирева, бросившего на землю двести рублей, переданных ему Алешею от Екатерины Ивановны, и втоптавшего их в песок, Алеша говорит, что в этом разглядывании чужой души «нет презрения»; «мы сами такие же, как он»… «я не знаю, как вы, Lise, но я считаю про себя, что у меня во многом мелкая душа. А у него и не мелкая, напротив, очень деликатная». Такое заявление о себе не есть выражение комплекса малоценности. Наоборот, оно основано на живом сознании такой сложности и глубины всякой личности, которая исключает возможность для человека выносить окончательный суд над людьми и ставить одних выше других. Кто глубоко проникнут этим сознанием, тот свободен от ревнивого сравнения себя с другими и от мучительного комплекса малоценности.
Имущественные отношения, источник всевозможных беспокойств для многих людей, не интересуют Алешу Карамазова. В отличие от Ивана Федоровича он не заботится о том, на чьи средства живет, зато и сам легко отдает попадающиеся ему деньги. Миусов сказал о нем: «Вот, может быть, единственный человек в мире, которого оставьте вы вдруг одного и без денег на площади незнакомого в миллион жителей города, и он ни за что не погибнет и не умрет с голоду и холоду, потому что его мигом накормят, мигом пристроят, а сами не пристроят, то он сам мигом пристроится, и это не будет стоить ему никаких усилий и никакого унижения, а пристроившему – никакой тягости, а, может быть, напротив, почтут за удовольствие». Он гармонически входит в каждую обстановку, потому что любит людей и любит жизнь. «Все должны прежде всего на свете жизнь полюбить», – говорит он брату Ивану. «Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?» – сказал' Иван, не столько спрашивая, сколько склоняясь к отрицанию духовного смысла жизни. «Непременно так, – ответил Алеша, – полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде, логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне уже давно мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен». И он пояснил, что вторая половина состоит в том, чтобы воскресить европейских мертвецов, о которых говорил Иван, боровшихся за истину и веровавших в подвиг; а, по мнению Алеши, они, «может быть, никогда и не умирали». Он верит в жизненность прошлой европейской борьбы за правду–истину и правду–справедливость, потому что сам он, находя в себе карамазовскую силу жизни и любовь к ней, сублимировал ее тем, что понял конечный смысл существования – жизнь в Боге. «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю», – сказал он себе, когда пришел к убеждению, что «бессмертие и Бог существуют». Поэтому он «смел и бесстрашен».
Несмотря на свою молодость, Алеша» как заметил Иван, «твердо стоит» и потому всегда «ровен и ясен». «Миловидное лицо его имело всегда веселый вид, но веселость эта была какая‑то тихая и спокойная». ^Не только Грушенька или Димитрий Федорович, даже Иван Федорович
195
называет его «ангелом», «херувимом». Один вид его производит уже такое впечатление, что меняет настроение и нередко глубоко влияет на поведение людей. Не боясь своего отца, он не исполнил его приказания взять свои вещи и уйти из монастыря. На вопрос отца, притащил ли он тюфяк, он с улыбкою ответил: «Нет, не принес». – «А, испугался, испугался‑таки давеча, испугался? – сказал Федор Павлович. – Ах ты, голубчик, да я ль тебя обидеть могу? Слушай, Иван, не могу я видеть, как он этак смотрит в глаза и смеется, не могу. Утроба у меня вся начинает на него смеяться, люблю его!» Грушенька признается Алеше в том, какое глубокое впечатление произвел он на нее до знакомства с ним: «Веришь ли, иной раз, право, Алеша, смотрю на тебя и стыжусь, все себя стыжусь…»
Силою добра в себе Алеша оказывает благодетельное влияние во всех драматических столкновениях старших лиц^ и всем им он нужен; все они сознают, что Алеша поймет их до конца и всею силою своей души войдет в их жизнь. «Характер любви его, – говорит Достоевский, – был всегда деятельный. Любить пассивно он не мог, возлюбив, он тотчас же принимался и помогать». Свою «Исповедь горячего сердца» Димитрий излил перед Алешею. Старец Зосима после земного поклона Димитрию послал к нему Алешу и потом пояснил Алеше: «Послал» – тебя к нему, Алексей, ибо думал, что братский лик твой поможет ему»; и действительно, вечером того же дня, когда Димитрий собирался уже покончить с собою самоубийством, он сразу опомнился, как только услышал шаги брата, и подумал: «…ведь вот он, вот тот человечек, братишка мой милый, кого я всех больше на свете люблю и кого я единственно люблю!» Тогда же он намекнул ему одному на тот свой замысел, который считал самым постыдным из всех своих поступков. «Вот тут, вот тут готовится страшное бесчестье», – говорил он, ударяя себя по груди. В тюрьме именно перед Алещею он излил свой «гимн» к Богу. Вопрос о побеге, к которому подталкивал его Иван, Димитрий не мог решить без суда Алеши, и, заговорив с ним об этом деле, он исступленно потребовал от Алеши вполне правдивого ответа на вопрос: «Веришь ты, что я убил, или не веришь?» Когда Алеша сказал: «ни единой минуты не верил, что ты убийца!» – и «поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов, блаженство озарило мгновенно все лицо Мити». Непосредственное видение чужой души, свойственное людям с чистым сердцем, дало Алеше абсолютную уверенность в невинности брата именно в эту минуту, когда он отвечал на его вопрос. На суде он сказал: «Я по лицу его видел, что он мне не лжет». Это неточное выражение: не физические черты лица Димитрия открыли Алеше истину, а то, что сквозь эти черты он видел всю его измученную душу '. Но, конечно, суд не мог принять такого свидетельства Алеши за доказательство. Эгоистическое себялюбие изолирует наши души друг от друга, для нас «чужая душа потемки», и на суде требуются «объективные», т. е. поверхностные, внешние, доказательства. Замечательно, что именно Алеша дал такое доказательство в одном из самых важных пунктов следствия. Он неожиданно для самого себя вспомнил, что Димитрий, ' См. главу «Восприятие своей и чужой душевной жизни» в моей книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция».
196
говоря о готовящемся бесчестии, не ударял себя кулаком, а указывал пальцем, и не на сердце, а гораздо выше сердца, «сейчас ниже шеи», т. е точно указывал на ладанку с зашитыми в ней полутора тысячами рублей. Фетюкович в своей защитительной речи очень высоко оценил это показание, данное «так чисто, так искренно, неподготовленно и правдоподобно».
В такой же мере, как для Димитрия, и для Ивана Алеша был его совестью. Свой «бунт» против Бога и легенду о Великом Инквизиторе он рассказал Алеше, надеясь «исцелить» себя им. Если бы ему не удалось найти смысл жизни и содержанием ее была бы только любовь к «клейким листочкам, то любить их», сказал он, «буду, лишь тебя вспоминая. Довольно мне того, что ты тут где‑то есть, и жить еще не расхочу. Довольно этого тебе? Если хочешь, прими хоть за объяснение в любви. А теперь ты направо, я налево – и довольно, слышишь, довольно». Высказывать откровенно такие глубокие чувства гордому Ивану нелегко.
После первого визита к Смердякову, мучимый воспоминаниями о своем отношении к отцу, Иван задал Алеше вопрос, подумал ли он, что у него есть желание, чтобы «один гад съел другую гадину», и что он даже готов «способствовать» этому. Как и Димитрий, он настойчиво требовал «правду, правду!». «Прости меня, я и это тогда подумал», – прошептал Алеша и замолчал, не прибавив ни одного «облегчающего обстоятельства». С тех пор Иван стал «резко отдаляться» от Алеши «и даже как бы невзлюбил его». Когда совесть начинает свою мучительную работу, человек хочет отвязаться от нее и от того, кто является живым воплощением ее. Понятна поэтому резкая выходка Ивана, когда накануне суда Алеша, видя, что брат, мучимый совестью, близок к тяжелой болезни, сказал ему: «Убил отца не ты». Иван заявил, что «пророков и эпилептиков, особенно посланников Божиих», он не терпит и порывает с Алешею; вслед за этим он в третий раз пошел к Смердякову и получил от него признание в убийстве. Через несколько часов Алеша уже был на квартире Ивана с известием о самоубийстве Смердякова. Он, как «чистый херувим», по выражению Ивана, отогнал черта. «Он исчез, как ты явился, – говорит Иван. – Я люблю твое лицо, Алеша. Знал ли ты, что я люблю твое лицо?» – и он исповедал перед братом драму своего раздвоения.
Алеша в важнейшие минуты жизни Ивана возводит в область ясного понимания то, что без него оставалось бы долго неопознанным и даже неосознанным. Он выяснил Екатерине Ивановне сущность ее отношений к Ивану и таким образом содействовал устранению «надрыва» из ее души. Сила добра, исходящая из его души, выводит все темное на ясный свет дня. После судебного приговора Екатерина Ивановна, мучимая своим «предательством» на суде, хотела «повиниться» именно перед Алешею и решилась на такие признания, которые возможны лишь тогда, «когда самое гордое сердце -крушит свою гордость и падает побежденное горем» (Эпилог).
Даже сердце старого циника Федора Павловича было покорено Алешею. Избитый Димитрием и не убитый им только благодаря защите Алеши и Ивана, Федор Павлович, оставшись наедине с Алешею, —
197
говорил ему: «Алеша, милый, единственный сын мой, я Ивана боюсь, я Ивана больше, чем того, боюсь. Я только тебя одного не боюсь». «За коньячком» после обеда, сильно уже опьянев, старик стал придираться к Ивану и только Алеша мог его остановить, «настойчиво» сказав: «Перестаньте его обижать». Властность он проявил и в отношении к Димитрию, защищая против него отца.
Особенно интересны отношения Алеши к Лизе и ее матери. Госпожа Хохлакова не хочет и думать о браке Лизы с Алешею, считая общественное положение Алеши неравным положению своей дочери. Алеша этим нисколько не обижается, даже не обращает внимания на это и твердо ведет свою линию, нисколько не смущаясь колебаниями настроений самой Лизы. «Бесенка» в ней он умело укрощает кротостью и в то же время откровенным выражением своего мнения.
Умение Алеши «серьезно и деловито» начинать беседу с детьми, приобретать их доверие и, объединив вокруг себя, воспитывать в них добрые чувства изображено Достоевским с такою яркостью и силою, что, без сомнения, живо сохраняется в памяти у всех читавших роман.
Мимолетный упадок духа Алеши, который был обижен тем, что вместо чудес после смерти старца Зосимы от тела его слишком скоро пошел «тлетворный дух», имело печальные следствия: Алеша не повидал Димитрия в то время, когда он был особенно близок к преступлению; он даже сказал Ракитину: «Я против Бога моего не бунтуюсь, я только мира Его не принимаю» – и пошел вместе с Ракитиным к Грушеньке, которая хотела с него «ряску стащить». Об этом упадке духа Алеши Достоевский говорит: «…пусть этот ропот юноши моего был легкомыслен и безрассуден», однако «я рад, что мой юноша оказался не столь рассудительным в такую минуту» (т. е. в минуту горя о любимом человеке), «рассудку всегда придет время у человека неглупого». И в самом деле, стоило только Грушеньке, севшей к Алеше на колени, проявить участие к его горю, узнав о смерти Зосимы, и соскочить с его колен, как Алеша уже вполне опомнился; он сказал, что «шел сюда злую душу найти», а «нашел сестру искреннюю, нашел сокровище – душу любящую»… «она сейчас пощадила меня… Аграфена Александровна, я про тебя говорю. Ты мою душу сейчас восстановила». Слова эти произвели переворот и в душе Грушеньки. Она передала замечательный народный рассказ о «луковке» и вслед за тем исповедала перед Алешею всю историю своей обиды и своего озлобления.
Не совершая никаких громких подвигов, Алеша, чистотою своего сердца и своим видением добра в чужой душе воспитывает людей, поддерживает в добре и вносит свежую струю в их жизнь. Насколько Достоевскому удался его образ, ясно из того, что имя его стало нарицательным; видя юношу с чистым сердцем и способностью к деятельной любви, многие говорят: «Это – Алеша Карамазов».