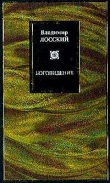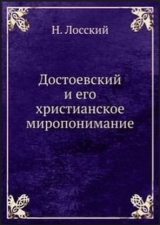
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
Всякое гениальное художественное произведение содержит в себе такую полноту жизни и глубигу смысла, которая не может быть осознана до конца и выражена в понятиях ни самим творцом его, ни комментаторами. Легенда Великий Инквизитор принадлежит к числу величайших творений Достоевского. О ней много писали и много будут писать, но всегда будут возникать новые вопросы в связи с нею. Согласно теме этой книги, нужно рассмотреть Легенду так, чтобы установить черты христианского миропонимания Достоевского. Эту задачу особенно трудно решить, пользуясь таким произведением, как «поэма» Ивана Карамазова «Великий Инквизитор».
Имея ввиду приведенные выше из "Дневника Писателя" мысли Достоевского о католичестве, можно решительно утверждать, что в легенде Достоевский хотел в художественной форме обличить искажения христианства, производимое если не всею католической церковью, то некоторыми служителями её или группою её служителей. Но содержание легенды гораздо более сложно, чем мысли Достоевского в "Дневнике Писателя", и вложена она в уста Ивана Карамазова, как творение его. Великий художник Достоевский не мог просто выразить свои мысли устами своего героя. Он дал в романе такое видоизменение их, которое соответствует характеру Ивана Карамазова. Отождествить Достоевского с Иваном Федоровичем нельзя; поэтому нам предстоит сложная задача – определить характер и религиозные идеи сначала Великого Инквизитора, потом Ивана Карамазова и, наконец, попытаться найти мысли самого Достоевского.
Напомню вкратце содержание легенды. В шестнадцатом веке в Свелье, в самое страшное время инквизиции, на следущий день после грандиозного аутодафе на улицах города "тихо" и "незаметно" появляется Иисус Христос. Народ узнает Его, толпится вокруг Него и от одного прикосновения к Нему происходят исцеления. На паперти Севильского собора Он воскрешает недавно умершую девочку, и толпа приходит в состояние крайнего волнения. Но в это время на площади появляется девяностолетний старик Великий Инквизитор. Он приказывает сразу взять Христа о твести в тюрьму, а толра, привыкшая к послушанию, безмолвно сконяется перед благословляющим её страцем. Ночью в тюрьму входит Инквизитор один и произносит перед молча слушающим егт Христом длинную речь, наполненную упреками Христу и Его делу, и грозит Ему сжечь Его на костре, "как злейшего из еретиков".
Великий Инквизитор – представитель грандиозного титанического богоборчества, задающегося целью "исправить подвиг" Христа. Он полон горделивого презрения к человеку: людей он считает существами "малосильными, порочными и ничтожными", жаждущими свободы, но способными только к бунту, а не к подлинной свободе. Христа Инквизитор упрекает в том, что Он поставил перед человеком идеал, превосходящий силы такого слабовольного существа. "посмотри на них, – говорит он – Кого Ты вознес до Себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем Ты о нем думал. Может ли он исполнить то, что и Ты?" Столь уважая его, Ты поступил как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него потребовал, – и это кто же, Тот, Который возлюбил его более самого Себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его". " «Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик, – великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя.Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“?". " в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле." "Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: „Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобой побежит человечество, как стадо, послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои. Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом». «Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона, – свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою, – но неужели Ты не подумал, что он отвергнет же, наконец, и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора?» «Ты не сошел со креста, когда кричали Тебе, издеваясь и дразня Тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это Ты Сын Божий». Ты не сошел потому, что опять‑таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками». «Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: Тот, Который пришел отдать за них жизнь Свою! Вместо того чтоб овладеть людской свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями, душевное царство человека, вовеки». «Если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они‑то станут послушными».
План руководства людьми Великого Инквизитора состоит в том, чтобы дать людям хлеб земной, но вместе с тем и успокоить совесть, взяв, по совету «умного духа», всю власть и всю ответственность в свои руки. «Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда‑то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастия». «И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя
218
Твое, и солжем, что во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя. Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной, вдоволь для всякого, вместе не мыслимы, ибо никогда, никогда, не сумеют они разделиться между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики». «Свобода, свободный ум и наука–заведут их в такие дебри, и поставят пред такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастливые, приползут к ногам нашим, и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших. Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы». «Мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы». «Мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, о, они будут любить нас, как дети, за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом». «Тихо умрут они, тихо угаснут во имя Твое, и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет, и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то, уж, конечно, не для таких, как они». О себе Великий Инквизитор говорит: «и я был в пустыне», «питался акридами и кореньями», «благословлял свободу, которою Ты благословил людей». «Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой». «Мы исправили подвиг Твой и основали его на чуде, тайне и авторитете», т. е. не на свободной любви к добру.
На вопрос Алеши, встревоженного легендою, Иван Карамазов поясняет: Великий Инквизитор «на закате дней своих» понял, «что надо идти по указанию умного духа», «а для того принять ложь и обман», и притом обманывать людей всю дорогу, «чтобы хоть в дороге‑то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми». План Великого Инквизитора, говорит Иван, есть «настоящая руководящая идея всего римского дела, со всеми его армиями и иезуитами, высшая идея этого дела». «Кто знает, может быть, случались и между римскими первосвященниками» такие, как Инквизитор. «Может быть, этот проклятый старик, столь упорно и столь по–своему любящий человечество, существует и теперь в виде целого сонма многих таковых единых стариков и не случайно вовсе,
219
а существует как согласие, как тайный союз, давно уже устроенный для хранения тайны, для хранения ее от несчастных и малосильных людей, с тем чтобы сделать их счастливыми. Это непременно есть, да и должно так быть. Мне мерещится, что даже у масонов есть что‑нибудь вроде этой же тайны в основе их, и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление единства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь…»
Иван Карамазов, как и его Великий Инквизитор, – титанический богоборец. Подобно Инквизитору, он презирает человека; и для него люди – «недоделанные пробные существа, созданные в насмешку». Но Инквизитор уже окончательно отказался от Христа и решил «исправить подвиг» Его путем принижения идеала, тогда как Иван Карамазов хранит еще в сердце своем идею абсолютного добра, но, видя мощь мирового зла и слабость человека, начинает «бунт» против Бога тем, что возвращает Ему «билет» и стоит на распутье. Находясь в таком положении, человек особенно склонен к злой критике, и вся поэма «Великий Инквизитор» есть острая критика Церкви. Иван Карамазов полагает, что Церковь отказалась от идеала Христа, принизила идеал, приспособила его к слабости человека, к его порокам и себялюбию; вместо того чтобы воспитывать человека в свободной любви к абсолютному добру, она держит человека в слепом повиновении себе, а не Богу"положив в свою основу «чудо, тайну и авторитет».
Иван Карамазов высказывает свою «поэму» как критику католической церкви или, вернее, не всей католической церкви, а извращения ее, осуществляемого некоторыми ее служителями. Он не замечает, что нападение его затрагивает всю Церковь, и католическую, и православную. Не замечает этого и сам гениальный творец легенды Достоевский. И католическая, и православная Церковь высоко ценят чудо, тайну и авторитет. И в той и в другой Церкви пастыри не требуют от пасомых ими слабых людей подвигов, заведомо превосходящих их силы, дают иногда надежду людям даже и на внешнее земное благополучие в случае следования указаниям Церкви и запугивают внешними адскими муками в случае неповиновения.
Можно ли защитить Церковь против нападений на нее, содержащихся в легенде «Великий Инквизитор»? Р. Гуардини в своей книге «Der Mensch und der Glaube» говорит, что, согласно распространенному толкованию легенды, «Достоевский защищает в ней дело Христа против наихудшего врага Его. Таким врагом является не простое неверие, а экклезиализм, т. е. «превращение живой связи с Богом в систему гарантий спасения, формул и обрядов». «Благодатная сущность христианства заменяется техникою покорения души, а позади нее таится нечто еще более страшное, именно демоническая воля наложить руку на самого Бога. Выражение всего этого, согласно такому толкованию, есть католическая Церковь, которой противостоит религия свободы, духа, любви и живой христианской полноты сердца». Гуардини говорит, что он слишком высоко ценит Достоевского, чтобы поверить, что смысл легенды сводится только к старой борьбе между Византиею и Римом, даже если бы, приступая к творению ее, Достоевский и задавался такою
220
целью. Вложив легенду в уста Ивана Карамазова, Достоевский, как великий художник, совершил в легенде не только нападение на католическую Церковь, но и сделел ее выражением сущности души Ивана и его отношения к Богу '.
Легенда Ивана есть вызов, который защитники Церкви могут и должны принять. Можно поставить вопрос, говорит Гуардини: «Не прав ли в конечном итоге Великий Инквизитор в отношении к такому Христу? Не есть ли этот Христос действительно – еретик?» Христианская Церковь есть «по существу Церковь всех, а не только необыкновенных людей, – Церковь повседневной жизни, а не только героических минут. Как и сам человек, она из средней области возносится в высоту и спускается в глубину». «Христианство легенды не имеет в основе никакого отношения к этой средней области и таким образом становится нереальным». Христос, взятый Иваном в оторванной от жизни «чистоте», служит ему для самооправдания в его «бунте» против Бога и мирового порядка, при нежелании в то же время преображения мира, при любви к миру именно в его несовершенном виде.
Что сказал бы Достоевский в ответ на толкование Гуардини? Сжатую критику легенды он дает сам устами Алеши, который сказал Ивану: «Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула… как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать? То ли понятие в православии… Это Рим, да и Рим не весь, это неправда, – это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!..» Достоевский не назвал бы Иисуса Христа легенды «еретиком». Он всею душою отстаивает христианство, как «религию свободы, духа, любви и живой христианской полноты сердца». Но вместе с Алешею он усомнился бы в том, правильное ли понятие свободы у Ивана, и мы знаем из его «Дневника», что не все католичество он считает искажением Церкви.
Иван изображает построение Церкви на «чуде, тайне и авторитете», как искажение подвига Христа. Но, без сомнения, православная церковь так же, как и католическая, строится не только на свободной любви ко Христу и воплощенному в Нем абсолютному добру; поскольку она есть социальное земное целое, она строится еще и на «чуде, тайне и авторитете». Что ответил бы Достоевский на это замечание, прямых сведений у нас нет. Но в главе о религиозной жизни Достоевского было показано, что по крайней мере в течение последних десяти лет он высоко ценил конкретную жизнь православной Церкви со всеми таинствами и обрядами; вместе со старцем Зосимою он ценил снисходительное и благостное отношение Церкви к слабому, грешномучеловеку; вместе с епископом Тихоном в «Исповеди» Ставрогина он, без сомнения, понимал, что для слабого человека попытка одним скачком прыгнуть в Абсолютное была бы делом не добрым, а «бесовским». Отсюда можно вывести, что Достоевский понимал ценность педагогических средств, применяемых
' Интересно, что гораздо раньше Достоевского в пародиях на католическую Церковь, написанных католическими монахами XIII в., высказывается мысль о папе римском, который, при появлении Христа, у его престола, отдал бы приказ: «ejicite eum in tenebras exteriores» («выбросьте Его во тьму внешнюю»); см. об этом статью проф. Лапшина «Как сложилась легенда о Великом Инквизиторе», в сборнике «О Достоевском», т. I, под. ред. А. Бема, 1929, Прага.
221
Церковью для воспитания слабых людей, под условием, конечно, чтобы, не требуя скачка в Абсолютное, она постоянно имела перед глазами абсолютное добро Христа и Царства Божия, как маяк, указывающий цель пути.
Христос – всеобъемлющ и Церковь Христова также всеобъемлюща. Опираясь на учение и жизнь Христа, Церковь выработала в себе много обителей, в которых могут найти приют люди всех ступеней духовного развития. В ее лоне могут уместиться подвижники и мистики, живущие свободною любовью к Богу и Царству Божию, но ютятся в ней и слабые, грешные люди, для которых на первый план выдвигается «чудо, тайна и авторитет». Множество чудес совершал сам Иисус Христос. Чудеса эти, т. е. события, в которых обнаруживается вмешательство Высшей силы. Бога и членов Царства Божия, совершаются повсюду и во все времена. Осознают их преимущественно люди, проникнутые глубокою верою в Бога, так что у них не вера рождается от чуда, а осознание чуда возникает благодаря вере. Для людей, упорно отворачивающихся от Бога, чудес нет, потому что ум их всегда умеет найти доводы в пользу отрицания чуда. Но люди, нуждающиеся в благодатной помощи Божией, ухватываются за чудо и приходят к вере или укрепляются -в ней; такая вера; рождающаяся от чуда, стоит на низкой ступени, но как начало пути к Богу она имеет цену и используется Церковью.
На тайны в существе Божием ив решениях Его Промысла указывал сам Христос. Что же касается авторитета. Церковь в своем земном аспекте, как общество людей, объединенных определенным вероучением и культом, не может обойтись без авторитетных руководителей. Эта социальная сторона Церкви приспособлена к нуждам миллионов людей и необходимо содержит в себе ограничения и условности. Об условной стороне всех человеческих социальных единств пишет Бердяев: «Царь – символ, генерал – символ, папа, митрополит, епископ – символы, всякий иерархический чин – символ. В отличие от этого реальны святой, пророк, гениальный творец, социальный реформатор» '.
Вся эта' педагогическая сторона Церкви, необходимая для того, чтобы постепенно и без надрыва вести миллионы людей в направлении к идеалу Божественного совершенства, часто подвергается искажениям в сторону «экклезиализма», и сам Гуардини говорит, что «любящие Церковь ясно видят мучительную истину», заключающуюся в указаниях на недостатки в земном осуществлении Церкви. Достоевский с молодых лет и до конца жизни видел их также и в православной Церкви, но понял, что бороться с ними нужно, оставаясь внутри Церкви, а не выходя из нее.
Надобно еще заметить, что религиозные экстатики, визионеры, люди, считающие себя носителями Духа Святого, становятся, вне умеряющего и отрезвляющего влияния Церкви, социально опасными в большей мере, чем ползающее, по земле материалисты или позитивисты. Поэтому нужно особенно ценить земной социальный аспект Церкви как учреждение, необходимое и для тех, кто не дорос до идеальных основ ее, так и для тех, кто подвергается соблазну считать себя переросшим их.
Бердяев. «Дух и реальность», стр. 59 .
222
glava13
Глава восьмая РОССИЯ И РУССКИЙ НАРОД
1. ХАРАКТЕР РУССКОГО НАРОДАВ 1862 г. Достоевский, будучи в Лондоне, посетил Герцена. После этой встречи Герцен писал Огареву, что Достоевский «верит с энтузиазмом в русский народ» (XV т., 354). В «Дневнике Писателя» Достоевский незадолго до смерти писал: «Я за народ стою прежде всего, в его душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, – как в святыню верую» (1881). Россию, как государство, Достоевский любил уже в десятилетнем возрасте; будучи «воспитан на Карамзине» («Дн. Пис.», 1873, XVI). О русском народе и России он писал так много и разнообразно, что исчерпать здесь эту тему невозможно; она будет рассмотрена мною лишь настолько, насколько это необходимо для характеристики христианского мировоззрения Достоевского.
Согласно персоналистической метафизике, каждый народ есть^ личность высшего порядка, чем личное бытие каждого отдельного человека: лица, принадлежащие к составу народа, суть органы народа; конечно, они только отчасти живут интересами народа, как целого, отчасти же ведут свою самостоятельную жизнь. Личность народа, как и всякая личность, есть своеобразный, единственный в мире индивидуум. Индивидуальное своеобразие народа не может быть выражено в общих понятиях. Общие свойства, которые можно подметить у отдельных лиц, входящих в состав народа, выразимы, конечно, в общих понятиях, но они представляют собою уже нечто вторичное, производное, не составляющее самой индивидуальности народа. Правда, и через эти общие свойства сквозит индивидуальность народа, но она может быть уловлена в них только теми людьми, которые долго жили среди народа, знают и любят его, Трудность характеристики народа станет понятною, между прочим, и потому, что основные общие свойства человечности присущи каждому народу, и притом так, что каждый народ, как целое, совмещает в себе пары противоположностей. Например, русскому народу присущи и религиозный мистицизм, и земной реализм. Русский религиозный мистицизм. теоретически выражается, например, в наше время в пышном расцвете русской религиозно–философской литературы, а реализм – в не менее широком распространении материализма, позитивизма и т, п. направлений. В практической жизни для русского народа в высшей степени характерны, с одной стороны, например, странники «взыскующие града», вроде Макара Ивановича, но, с другой стороны, не менее характерны и деловые люди, создавшие, например, русскую текстильную промышленность или волжское пароходство. Сочетание таких противоположностей, как религиозный мистицизм и земной реализм, имеется, конечно, не только у русских, но и у французов, немцев, англичан; однако у каждого из народов и мистицизм, и реализм осуществляются по–своему, и вот это‑то «по–своему» только приблизительно выразимо
'
223
в понятиях. Особенно интересно найти ту основу, из которой у народа вырастают пары противоположных свойств так, что органическая цельность народа не разрушается. Русский мистицизм, например, имеет характер мистического реализма; в русской гносеологии этой черте мистицизма соответствует такое направление, как интуитивизм; в метафизике – конкретный характер русских философских систем и любовь к индивидуальному бытию.
Достоевский любил русский народ индивидуально–личною любовью. Мы попытаемся установить, что он любил в русском народе и как он представлял себе его характер. Из сказанного об индивидуальности народа (да и вообще всякой личности) ясно, что сведения, которые удастся получить в общих понятиях, будут сравнительно поверхностные. К счастью, первая черта русского народа, о которой мы будем говорить, выражена Достоевским в живом конкретном образе.
В девятилетнем возрасте, живя летом с родителями в имении, Федя Достоевский отправился один в лес за грибами и забрался в чащу густого кустарника. «Ничего в жизни я так не любил, – рассказывает Достоевский, – как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками и белками, с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления остаются на всю жизнь. Вдруг, среди глубокой тишины, я ясно и отчетливо услышал крик: «Волк бежит!» Я вскрикнул и вне себя от испуга, крича в голос, выбежал на поляну, прямо на пашущего мужика.
Это был наш мужик Марей. Не знаю, есть ли такое имя, но его все звали Мареем, – мужик лет пятидесяти, плотный, довольно рослый, с сильною проседью в темно–русой окладистой бороде. Я знал его, но до того никогда почти не случалось мне заговорить с ним. Он даже остановил кобыленку, заслышав крик мой, и когда я, разбежавшись, уцепился одной рукой за его соху, а другой за его рукав, то он разглядел мой испуг.
– Волк бежит! – прокричал я, задыхаясь. Он вскинул голову и невольно огляделся кругом, на мгновение почти мне поверив.
– Где волк?
– Закричал… Кто‑то закричал сейчас: «Волк бежит»… – пролепетал я.
– Что ты, что ты, какой волк, померещилось вишь: какому тут волку быть, – бормотал он, ободряя меня.
Но я весь ^трясся и еще крепче уцепился за его зипун и, должно быть, был очень бледен. Он смотрел на меня с беспокойною улыбкою, видимо боясь и тревожась за меня.
– Ишь ведь испужался, ай–ай! – качал он головой. – Полно, родный, ишь малец, ай!
Он протянул руку и вдруг погладил меня по'щеке.
– Нуг полно же, ну, Христос с тобой, окстись. Но я не крестился; углы губ моих вздрагивали и, кажется, это особенно его поразило. Он протянул тихонько свой толстый, с черным
224
ногтем, запачканный в земле палец и тихонько дотронулся до вспрыгивающих моих губ.
– Ишь ведь, ай, – улыбнулся он мне какою‑то материнскою и длинною улыбкою. – Господи, да что это, ишь ведь, ай, ай!
Я понял, наконец, что волка нет и что мне крик: «волк бежит» померещился.
– Ну, я пойду, – сказал я, вопросительно и робко смотря на него.
– Ну и ступай, а я те во след посмотрю. Уж я тебя волку не дам! – прибавил он, все так же матерински мне улыбаясь. – Ну, Христос с тобой, ну, ступай, – и он перекрестил меня рукой и сам перекрестился.
Я пошел, оглядываясь назад почти каждые десять шагов. Марей, пока я шел, все стоял с своей кобыленкой и смотрел мне вслед, каждый раз кивая мне головой, когда я оглядывался» («Дн. Пис.», 1876, февр.). '
В этой картинке прекрасно изображена душевная мягкость русского человека, одинаково часто встречающаяся и у простолюдина, и во всех слоях общества. Говорят иногда, что у русского народа – женственная природа. Это неверно: русский народ, особенно великорусская ветвь его, народ, создавший в суровых исторических условиях великое государство, в высшей степени мужествен; но в нем особенно примечательно сочетание мужественной природы с женственною мягкостью.
Услужливость и заботливость русского простолюдина, вхождение его в чужие интересы изображены несколькими штрихами в «Бесах» в рассказе о «последнем странствовании Степана Трофимовича» и встрече его с Анисимом. Жалостливость русского человека, выражающаяся, например, в отношении к преступникам, как «несчастным», общеизвестна. Достоевски» высоко ценит то, что народ считает преступление виною, которая заслуживает наказания, тем не менее стремится облегчить участь наказанного человечным отношением к нему. Ненавидеть грех, но жалеть грешника – таким должно быть правильное отношение ко всякой личности, согласно св. Августину.
Доброту свою русский человек проявляет и на войне. Во время Севастопольской кампании раненых французов «уносили на перевязку прежде, чем своих русских» говоря: «Русского‑то всякий подымет, а французик‑то чужой, его наперед пожалеть надо». «Разве тут не Христос, и разве не Христов дух в этих простодушных и великодушных, шутливо сказанных словах» («Дн. Пис.», 1877, май – июнь). И во время Русско–турецкой войны 1877—1878 гг. солдат кормит измученного в бою и захваченного в плен турка: «человек тоже, хоть и не христианин». Корреспондент английской газеты, видя подобные случаи, выразился: «это армия джентльменов» (там же, июль – август). Особенно ценно то, что у русских нет злопамятности. «Русские люди, – говорит Достоевский, – долго и серьезно ненавидеть не умеют» (там же, 1876, февр.).
Но более всего, пожалуй, ценит Достоевский в русском народе смирение, отсутствие гордости и самодовольства. «Никогда, даже
8 Η. о. Лосский
225
в самые торжественные минуты его истории не имеет он гордого и торжествующего вида, а лишь умиленный до страдания вид; он воздыхает и относит славу свою к милости Господа» («Дн. Пис.», 1873).
Неудивительно, что народ, обладающий перечисленными свойствами, не особенно отстаивал свои права и завоевал политическую свободу только в 1905 г. Также и от крепостной зависимости русские крестьяне были освобождены позже, чем западноевропейские. Из этого, однако, вовсе не следует, будто русский народ имеет рабскую природу: внутренняя духовная свобода присуща русским людям, пожалуй, в большей степени, чем всем остальным европейцам, но о защите ее посредством внешних правовых форм они сравнительно мало заботились. Достоевский ссылается на великого знатока русского народа Пушкина, который говорил, что «русский человек не раб и никогда не был им, несмотря на многовековое рабство. Было рабство, но не было рабов (в целом, конечно, в общем, не в частных исключениях) – вот тезис Пушкина. Он даже по виду, по походке русского мужика заключал, что это не раб и не может быть рабом (хотя и состоит в рабстве)». «Он признал и высокое чувство собственного достоинства в народе нашем (опять‑таки в целом, мимо всегдашних и неотразимых исключений), он предвидел то спокойное достоинство, с которым народ наш примет и освобождение свое от крепостного состояния». Достоевский ссылается также на другого великого русского поэта – Лермонтова, который в стихах своих часто «мрачен, капризен», но «чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен. Он любит русского солдата, казака, он чтит народ!» («Дн. Пис.», 1877, дек.).
Великие русские писатели дали замечательные незабываемые образы скромных русских людей, строго исполняющих свой долг перед людьми и государством, проявляющих высокую человечность, в трудные минуты обнаруживающих спокойную храбрость без всякой рисовки. Таков у Пушкина комендант крепости капитан Миронов, таков штабс–капитан Максим Максимыч в «Герое нашего времени» Лермонтова, таков капитан Тушин в «Войне и мире» Льва Толстого. К этому типу русских людей приближается исправник Михаил Макарович в «Братьях Карамазовых». При аресте Димитрия Карамазова он, нарушая интересы судебного следствия, два раза бурно выражал свое негодование сначала против Димитрия, а потом, когда Грушенька закричала: «Это я, я, окаянная^виновата», он обрушился на нее: «Да, ты виновата, ты неистовая, ты развратная, ты главная виноватая». Но очень скоро, прислушиваясь к тону показаний Димитрия, видя к тому же проявления горячей подлинной любви Димитрия и Грушеньки друг к другу, он совершенно изменил свое поведение. Когда Грушенька, будучи не в силах сдержать себя, бросилась из соседней комнаты к Мите, ее увели, а Митю прокурор и следователь долго уговаривали, чтобы он успокоился, Михаил Макарович, сопровождавший Грушеньку, вернулся в комнату допроса и, с разрешения следователя, обратился к арестованному. «Дмитрий Федорович, слушай, батюшка, – начал, обращаясь к Мите, Михаил Макарович, и все взволнованное лицо его выражало горячее, отеческое, почти сострадание к несчастному, – я твою Аграфену Александровну отвел вниз сам и передал хозяйским дочерям, и с ней там теперь безотлучно