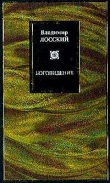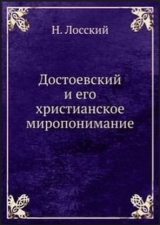
Текст книги "Достоевский и его христианское миропонимание"
Автор книги: Николай Лосский
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
244
учатся в школе, а школа в поле, и что сам он, наработавшись на своем веку, все‑таки придет туда отдохнуть, а потом и умереть». Основы для развития такого строя он находил в России. У русского фабричного рабочего сохраняется еще связь с деревнею, и у русского крестьянства есть сельская община» («Дн. Пис.», 1876, июль – авг.).
Любовь к сельской общине у русских народников была, как известно, связана с мечтою, что привычка к общинному землевладению облегчит для русского народа осуществление социализма. Мечта эта вряд ли была основательная, потому что земля в сельской общине делилась на участки, которые обрабатывались каждою семьею индивидуально. В настоящее время при большевистском режиме переход от индивидуального труда семьи над отведенным ей в пользование участком земли к коллективному труду колхозников на общих полях колхоза совершается крайне болезненно.
Кроме мыслей о связи каждого человека с землею, у Достоевского есть много соображений о справедливом общественном строе, но все они касаются лишь нравственных и религиозных условий возникновения и сохранения такого строя, а о самой структуре его. не дают сведений.
На Западе, говорит Достоевский в своих «Зимних заметках о летних впечатлениях», провозглашены свобода, равенство и братство как принципы, на которых должна строиться жизнь. Но там, где властвует буржуазия, свобода есть у того, кто имеет миллион: он делает, что ему угодно; а, у кого нет миллиона, с тем делают что угодно. Такую критику свободы в буржуазном строе высказывают на разные лады марксисты и особенно большевики. И Достоевский признает, что в капиталистическом строе свобода, предоставляемая гражданину законом, остается без возможности реализации ее у тех слоев населения, которые не имеют материальных средств, чтобы воспользоваться ею.
Равенство, о котором заботятся люди в современном обществе, Достоевский характеризует как завистливое: оно состоит в желании унизить того, у кого есть духовное превосходство («Дн. Пис.», 1877, февр.). Что же касается братства, вместо него Достоевский находит повсюду лишь борьбу за свою равноценность, тогда как подлинное братство существует там, где я жертвует собою для общества, а общество само отдает все права человеку («Зимн. зам.»). Такое подлинное братство существует там, где достигнута прежде всего внутренняя свобода путем преодоления своей воли и благородное равенство, свободное от зависти к чужим духовным дарам. В обществе, руководящемся такими принципами, нет необходимости пожертвовать свое имущество на общую пользу, тем более, что отказ даже и всех богатых людей от собственности был бы «лишь каплею в море» и не уничтожил бы нищеты. Надо «делать то, что велит сердце». Если сердце «велит отдать имение – отдайте», но не надо при этом «переряживания» в зипуны, не надо «опрощения»; «лучше мужика вознести до вашей осложненности». «Обязательна и важна лишь решимость ваша делать все ради деятельной любви». «Надобно заботиться больше о свете, о науке и об усилении любви. Тогда богатство будет расти в самом деле, и богатство настоящее». Такое решение социального вопроса Достоевский называет
245
русским («Дн. Пис.», 1877, фвр.): оно основано на христианском идеале жизни, а дух русского народа, выработавшего русское православие, Достоевский считает христианским по преимуществу.
Познакомившись в Пушкинской речи Достоевского с подобными мыслями его об условиях решения социального вопроса, проф. Градовский написал критическую статью, в которой говорит, что у Достоевского есть «мощная проповедь личной нравственности, но нет и намека на идеалы общественные». Иными словами, Градовский понял Достоевского как сторонника мысли, что нужно только «личное совершенствование в духе христианской любви», а формы общественного строя безразличны, потому что' добрые, любвеобильные люди наполнят всякую форму добрым содержанием. Такая односторонняя социальная философия существует. В этой области есть два противоположных учения. Согласно одному, все недостатки человека, пороки, преступления, обусловлены несовершенством социального строя; стоит усовершенствовать общмгтвенный строй – и поведение человека станет добрым. Согласно другому учению, наоборот, правильное поведение и в индивидуальных, и в общественных отношениях зависит только от личной нравственности, а формы общественного порядка безразличны. Достоевский резко отвергал первую из этих односторонностей, и Градовский полагает, что он является представителем противоположного ей, тоже одностороннего учения: Вл. Соловьев назвал эту односторонность «отвлеченным субъективизмом в нравственности». В «Оправдании добра» он ясно и убедительно доказывает (в гл. XII), что субъективного добра не достаточно и что в дополнение к нему необходимо «собирательное воплощение» добра, состоящее в усовершенствовании общественного строя, так что человеческое общество становится «организованною нравственностью». Государство никогда не состоит из одних только добрых людей, и потому необходимо организовать такой общественный строй, который содействовал бы ограничению зла и осуществлению добра.
Достоевский, как и Пушкин, поражает не только силою своего художественного творчества, но и силою своего ума. Поэтому трудно допустить, чтобы он впал в такую грубую односторонность, как «отвлеченный субъективизм». И в самом деле, он возмутился критикою Градовского и написал ему в «Дневнике Писателя» ответ, в котором старался доказать, что он свободен от приписанной ему односторонности. Тем не менее и в наше время Достоевского нередко истолковывают как сторонника «отвлеченного субъективизма». Разберемся подробно в этом вопросе.
Отвечая Градовскому, Достоевский говорит ясно, что религиознонравственные идеи и связанное с ними личное совершенствование служат исходным пунктом для искания соответствующей им организации общества: благодаря им люди начинают искать, «как бы им так устроиться, чтобы сохранить полученную драгоценность, не потеряв из нее ничего, как бы отыскать такую гражданскую формулу совместного жития, которая именно помогла бы им выдвинуть на весь мир в самой полной ее славе ту нравственную драгоценность, которую они получили». Если же духовный идеал какой‑либо национальности начинает
246
«расшатываться и ослабевать», вместе с этим падает «и весь ее гражданский устав» (1880, авг.). Мало того, даже и при существовании хорошо организованных общественных форм нравственно негодные люди ухитряются в отдельных случаях найти способы обходить законы, искажать дух общественных форм, из чего, конечно, не следует, будто эти формы вовсе не имеют значения. Достоевский решается поэтому сказать, что личное совершенствование есть не «начало только всему», «но и продолжение всего и исход» (там же). Как ни соблазнительно истолковывать эти слова в духе «отвлеченного субъективизма», нужно помнить, что они помещены в ответе Градовскому, где Достоевский снимает с себя упрек в односторонности и этими словами только хочет выразить мысль, что «общественные и гражданские идеалы» связаны «органически с идеалами нравственными», что нельзя их. разделить на «две половинки», оторванные друг от друга (там же).
Необходимость определенного идеала справедливой общественной организации Достоевский, следовательно, не отрицал. Без сомнения, он его имел или, вернее, искал. В каком направлении? По–видимому, к^к и в молодости, в направлении социализма, но не революционного и не атеистического, а христианского. Как уже сказано, он надеется, подобно народникам, что совершенный строй разовьется из русской сельской общины. Он считает необходимым, чтобы каждый рабочий, особенно жена его и дети, сохраняли связь с землею, имели сад, личный или «общинный». Дорожа особенно свободою, он уверен, что общественные идеалы, которые выработает Россия, исходя «из Христа и личного самосовершенствования», будут «либеральнее» европейских (там же).
Достоевский считает возможным сохранение и в будущем строе права частной собственности, по–видимому, даже на землю и средства производства. Скажут, пожалуй: какой же это социализм? В ответ я напомню, что существуют попытки выработать идеал социалистического строя, в котором право частной собственности на средства производства было бы сохранено, но подвергнуто таким правовым ограничениям, благодаря которым хозяйство служило бы не целям личного обогащения, а нуждам общества и государства. Укажу, например, на труд проф. С. Гессена «Проблема правового социализма» («Совр. Записки», 1924—1928). Вряд ли следует сохранять слово «социализм» для обозначения такого сложного общественного строя, сочетающего в себе ценные, осуществимые стороны социалистического идеала с ценными сторонами индивидуального хозяйствования. Однако не будем спорить о словах. Важно лишь то, что творческие усилия многих государств, Соединенных Штатов, Великобритании, идут в направлении выработки такого сложного общественного строя.
Присматриваясь к тому, как труден этот процесс выработки нового строя и каких специальных знаний, теоретических и практических, он требует, мы"вполне понимаем, почему у Достоевского нет определенного учения о нем. Как религиозный мыслитель и моралист, он уверенно говорил о религиозно–нравственных условиях справедливого строя, но, как человек выдающегося ума, он отлично понимал, что вырабатывать конкретное учение о новом экономическом строе
247
и его правовых формах – дело специалистов политико–экономов и практических общественных деятелей. К тому же в его время конкретизация этих проблем была и преждевременна. Лишь спустя пятьдесят лет после его смерти, благодаря чрезвычайному расцвету техники и рационализации производства, все уменьшающей численность необходимых для физического труда рабочих, выработка нового· экономического строя стала настоятельно необходимою.
Мы рассмотрели в этой книге важнейшие художественные творения Достоевского и познакомились с мыслями его о главных вопросах миропонимания. Везде мы нашли у него в основе Христа и две заповеди Его, составляющие сущность христианства, – любовь к Богу больше, чем к тебе, и любовь к ближним, как к себе. Поэтому миропонимание его подлинно можно назвать христианским.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Н. О. Лосский.
Николай Онуфриевич Лосский родился 6 декабря 1870 года в местечке Креславке Витебской губернии. Высшее образование получил в Санкт–Петербургском университете на естественнонаучном отделении физико–математического факультета и на историкр–филологическом факультете. В 1903 году получил степень магистра философии за диссертацию «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма»; степень доктора философии – в 1907 году за диссертацию «Обоснование интуитивизма».
Лосский был профессором философии на Бестужевских Высших женских курсах и в Санкт–Петербургском университете. В 1922 году советское правительство выслало из России 120 ученых, писателей и общественных деятелей как лиц, не принявших марксистской идеологии. В их числе был выслан и Лосский.
До 1942 года он жил в Праге, был профессором в Русском университете. В 1942 году, после превращения Словакии в самостоятельное государство, был приглашен в Братиславу профессором философии. В 1945 году переехал в Париж, в 1946 году – в США к младшему сыну Андрею. В 1947—1950 годах был профессором философии в Св. – Владимирской духовной академии в Нью–Йорке, затем вместе с сыном переехал в Лос–Анджелес. Последние годы жил во Франции, где и умер 25 января 1965 года.
Главные труды Лосского, кроме двух упомянутых диссертаций: «Мир как органическое целое», 1917; «Логика», 1924; «Свобода воли», 1925; «Ценность и бытие», 1931; «Типы мировоззрений», 1931; «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция», 1938; «Бог и мировое зло», 1941; «Условия абсолютного добра», 1949; «Достоевский и его христианское миропонимание», 19.53; «Общедоступное введение в философию», 1956; «Характер русского народа», 1957; «History of Russian Philosophy», 1951.
Все, что Лосский создал (около двух десятков крупных трудов и сотни статей), носит на себе печать добротности и поучительности. Каждый труд его есть своего рода философский памятник, не смываемый никаким потоком времени. Лосский собрал обильную жатву, и жатва эта духовно окормила взыскующих истины. Он строил свое учение крепко, с расчетом на века. Ему чужд философский импрессионизм многих, даже талантливых современных философов, но ему чужд и догматизм старой школы.
Хотя Н. О. Лосский всегда обладал энциклопедической ученостью, главная ценность его трудов заключается не в этом, а в оригинальности, силе и глубине его мысли. Лосский не только прокладывал, но и проложил новые пути в философии. В ряде философских дисциплин он явился обновителем и пионером. Верность лучшим философским традициям сочетается в нем с неустрашимостью мысли. То новое, что Лосский внес
390
в русскую и мировую философию, далеко еще должным образом не усвоено, и условия эмиграции не благоприятствовали тому, чтобы у него образовалась своя школа последователей.
Но заслуги Лосского признаются во всех странах с развитой философской культурой. В современных пособиях по изучению истории мировой философии (например, в немецкой книге Хиршбергера) учению Лосского отводится видное место. Такой крупный русский философ, как С. Л. Франк, немалым обязан Лосскому в гносеологических основах своего учения. В начале двадцатых годов у Лосского стала образовываться в России группа поледователей, из которых наиболее талантливым был безвременно скончавшийся Д. Болдырев. В эмиграции последователями Лосского являются пишущий эти строки и словацкий философ Диешка.
Заслуги Лосского относятся к гносеологии, логике, метафизике и философии ценностей.
В гносеологии (теории знания) Лосский явился основателем нового в философии гносеологического учения – «интуитивизма». Основная мысль гносеологии Лосского, несмотря на всю углубленность его анализов, в лучшем смысле этого слова проста и умозрительно показуема. Она заключается в утверждении, что сознание носит, по своей исконной природе, открытый, а не закрытый характер, что оно подобно не психическому вместилищу, в которое предмет должен «попасть», неизбежно субъективно преломившись в нем, а, скорее, средоточию лучей, освещающих своим вниманием те или иные отрезки бытия.
Согласно теории Лосского, причинное воздействие предмета играет роль лишь повода восприятия, побуждающего наше «я» как духовное существо обратить внимание на задевший наше тело предмет.
При предпосылке «закрытого» сознания неразрешимой загадкой остается проблема соответствия предмета – представлению о нем. Доказать такое соответствие можно было бы, лишь «выпрыгнув» из своего сознания и сравнив имеющееся в нем представление о предмете с самим предметом. Это, конечно, противоречило бы элементарной логике. В силу этого большинство гносеологии склоняется к субъективизации данных сознания, что опять‑таки приводит к концепциям «закрытого» в себе сознания.
Нужно сказать, что философская мысль до сих пор безнадежно вращается вокруг этой проблемы, а крайние ее течения, например логический позитивизм, вообще отвергают гносеологическую проблематику, утверждая, что они занимаются лишь «описанием» фактов, и пытаясь стать «по ту сторону» вопроса об их субъективности или объективности. На самом же деле они становятся «по ею сторону» гносеологии, отрекаясь от великого наследия Канта.
В противоположность этому Лосский не обходит гносеологической проблематики и рубит гордиев узел указанием на факт интуиции и исследованиями условий ее возможности. Под «интуицией» Лосский понимает «непосредственное обладание предметом в его подлиннике» (не копия, отражение, субъективное преломление и т. д.). Не гносеологическая субординация субъекта – предмету (тезис материализма: «бытие определяет сознание») и не субординация предмета – субъекту (тезис спиритуализма: «сознание определяет бытие»), а гносеологическая координация составляет, по Лосскому, основной закон познания. Этим утверждается равенство субъекта и предмета познания при четком различении
391
их роли в познавательном акте. В этом духе Лосский проводит строгое различие между актом познавания и самим познаваемым.
Интуитивный характер познавательного акта в более чистом виде обнаруживается в случаях, когда предметом становится идеальное бытие (мир идей), чужое «я» или, в предельных случаях. Абсолютное (мистическая интуиция). По Лосскому, существует три основных вида интуиции – чувственная, интеллектуальная и мистическая.
В этом указании на интуитивный, «открытый» характер сознания – философский подвиг Лосского, открывший перед философией горизонты подлинного бытия.
В самом «Обосновании интуитивизма» Лосскому поневоле пришлось обратить сугубое внимание на «черновую» философскую работу – на анализ и разоблачение догматических предпосылок гносеологии
–эмпиризма и Канта. Эта философски–научная оснащенность первой гносеологической работы Лосского в известной степени помешала усвоению его основной мысли, которую ему удалось с большей выпуклостью и убедительностью развить в последующих трудах, особенно в «Логике» и в книге «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция».
Утверждаемый Лосским гносеологический реализм может навести незнакомых с его трудами на мысль, что в его учении содержится привкус материализма. Но учение Лосского, как небо от земли, разнится от грубого гносеологического реализма диалектического материализма. «Теория отражения», которой придерживается диамат в гносеологии, заражена догматизмом – недоказуемым утверждением соответствия субъективных «отражений» объективным предметам. Эта разновидность
•«наивного реализма» неприемлема ни для какой критической гносеологии и, крнечно, в том числе для Лосского, который утверждает другое – наличие самого предмета или его аспектов в познавательном акте, сущность которого и заключается в направленности на предметы. В таком понимании сохраняется ценное ядро наивного реализма – инстинктивная уверенность в реальности внешнего мира, но совершенно отбрасывается теория о причинном воздействии предмета на сознание.
Но сколь ни основоположно важно гносеологическое обоснование учения Лосского, гносеология играла для него лишь роль введения в метафизику и в философию ценностей. И в этом отношении учение Лосского полно редкой гармонии мысли, ибо он владеет в одинаковой степени как искусством анализа, так и даром"синтеза (качество, редко встречающееся у современных мыслителей, большинство которых – хорошие аналитики, но не слишком удачные синтетики). Для построения же метафизики требуется прежде всего синтетический дар.
Его учение о мире как органическом целом,, его смелая и необычайно последовательная защита свободы воли, его утверждение об укорененности реального мира событий в идеальном бытии – открывают перед философией новые ' горизонты и плодотворно обогащают философскую мысль.
Лосский нашел редкий синтез между монадологией Лейбница, утверждающей неповторимость и индивидуальность каждой «монады», и традицией органического мировоззрения, идущей от Платона и Плотина. В отличие от Лейбница (у которого монады «не имеют дверей и окон»), «субстанциальные деятели» Лосского находятся во взаимодействии друг с другом, чем преодолевается опасность метафизического солипсизма. С другой стороны, опасность поглощения индивидуальности в мировом Единстве преодолевается утверждением свободы самоопределения, изнутри присущей каждому «субстанциальному деятелю».
392
По учению Лосского, в мире «все имманентно всему», все органически связано друг с другом. Соответственно категория взаимодействия является для него одной из основоположных категорий. Но это единство мира не достигает степени сплошной слитности, в духе учения Николая Кузанского с его мотто: «Всё во всём». Поэтому органическое мировоззрение, которого придерживается Лосский, необходимо отличать от учения о Всеединстве, которое в русской философии по–разному развивали Вл. Соловьев или С. Франк. Ибо в системе Всеединства (при всей ценности этого направления) получается недооценка личной свободы и, в связи с этим, недооценка сил зла в мире. В системе Всеединства нет четкой грани между Творцом и творением. Мир мыслится непосредственно причастным Божеству.
В противоположность этому Лосский везде исходит из позиций персонализма, видящего в личности (потенциальной или реальной) основное бытие и основную ценность.
Особенно важйо здесь понятие субстанциального деятеля (в своих высших формах достигающего степени конкретной личности), в котором подчеркивается активность и личностность того, что в философской традиции было принято называть субстанцией. Этот термин, однако, явно устарел: материальная субстанция отрицается современной физикой, видящей в материи скорее проявление сил, а понятие духовной субстанции подорвано открытиями современного психоанализа. Давно пора было заменить понятие субстанции понятием исходного центра активности, координирующего все сложные проявления данного единства.
В понятии субстанциального деятеля сохраняется при этом идея субстанциальности – «в себе сущести», но преодолевается идея пассивного субстрата, привкус которой всегда содержится в идее субстанции.
Чрезвычайно ценно для метафизики и разграничение понятий формального и конкретного единства, проводимое Лосским, который пользуется здесь чаще терминами «отвлеченное» и «конкретное» единосущие. Формальное единосущие субстанциальных деятелей как носителей тождественных форм пространства, времени и других основных категорий, является, по Лосскому, условием возможности мира как целого. Но это формальное единосущие оставляет простор как для сотрудничества и общения, так и для борьбы и разобщения. Конкретное же единосущие достигается именно в результате сотрудничества и общения, могущих доходить до степени симфонического единства.
В силу всех этих соображений метафизическое учение Лосского никак не может расцениваться как разновидность пантеизма, несмотря на исповедуемый им тезис об органичном единстве мира.
Лосский учит, что между Творцом и тварью – между Господом Богом и сотворенным миром – разверзается онтологическая пропасть, могущая быть заполненной лишь в порядке благодати, а не в порядке непосредственного причастия мира Божеству. По его учению. Бог сотворил мир как совокупность субстанциальных деятелей, способных к творчеству собственной жизни в рамках дарованной им свыше индивидуальности. Хотя субстанциальные деятели не способны к творчеству из Ничего (это есть прерогатива Господа Бога), они способны к творчеству в смысле того или иного оформления данного им материала, и в этом смысле каждый субстанциальный деятель – также творец, хотя и с малой буквы «т».
С этим связано учение Лосского о свободе воли, лучше всего выраженное им в кшв–е одноименного заглавия.
393
Лосский считает, что свобода есть первозданное свойство каждой личности и, говоря шире, каждого субстанциального деятеля. Субстанциальные деятели первично не обладают раз навсегда данной «природой» – эта природа вырабатывается ими в процессе творчества и приспособления. В этом смысле Лосский утверждает, что субстанциальные деятели обладают «сверхкачественной творческой силой», имея в виду, что они не исчерпываются данными качествами, а могут творить новые.
Развивая эти мысли, Лосский утверждает, что личность свободна: 1) от предопределенности средой, 2) от собственного прошлого и 3) от Господа Бога, поскольку Бог сам сотворил их свободными. Воздействие Бога на мир может иметь характер благодатной силы, а не естественного принуждения.
Субстанциальные деятели способны к сотрудничеству между собой вплоть до образования сверхиндивидуальных единств (семья, нация, человечество), причем, в силу свободного характера таких единств, не обязательно утрачивается индивидуальность входящих индивидов.
Лосский везде исходит из позиций персонализма, видящего в личности основное бытие и основную ценность. Это создает возможности также и злоупотребления свободой и объясняет почти неискоренимый эгоцентризм, присущий личности и, при наличии соблазнов, толкающий ее на пути зла. Возможность и слишком частая действительность этих путей хорошо предусмотрена в системе Лосского – а ведь философ должен удовлетворительным образом объяснять как пути добра, так и пути зла. Нечего и говорить, что сама свобода отнюдь не является злом – она есть величайший дар Божий, которым, однако, нужно научиться пользоваться-·
Иначе говоря, совершенная органичность мира существует более в замысле, чем в исполнении, и, наряду с путями развития и творчества, возможны и действительны пути распада и разложения.
В системе Лосского свободе и личности отводятся центральные места, однако без того обожествления свободы, которым страдает, например, современный экзистенциализм. Личность и личная свобода занимают в системе Лосского центральное, но не верховное место, что вполне выдержано в духе персонализма, исходящего из личности, но не сотворяющего себе из нее кумира и ценящего в личности служение сверхличным ценностям.
Соответственно в своей этике Лосский утверждает теономную мораль, основывающуюся не на человеческих, относительных, – а на божественных, абсолютных ценностях. Но при этом утверждается, что человеческая личность есть основная (хотя и не верховная) ценность, которая не должна рассматриваться как средство для достижения нечеловеческих целей.
Иначе говоря, Лосский утверждает как самоценность человеческой личности, так и ее направленность на высшие ценности морали и религии, без которых сама личность теряет в своей ценности, и в нее вносится порча. Это, как мне кажется, единственное непреходящее и здравое основание всякой этики развито им в книге «Условия абсолютного добра». Этика Лосского – достойное завершение его учения.
Как всякая оригинальная и последовательная система, учение Лосского не для всех приемлемо. Но как бы ни относиться к его системе, нельзя не признать, что в ней с редкой последовательностью и законченностью проявлено мировоззрение автора. Нужно отметить при этом,
394
что Лосский никогда не довольствуется общим решением философских проблем, а любит сверять свои построения с данными естественных и гуманитарных наук. Конкретность мысли – даже при поневоле абстрактном ее оформлении – отличительная черта его мышления.
Мне хочется отметить еще ряд черт, характеризующих Лосского как философа, и как человека, – честность и трезвость мысли, конкретный подход к проблемам, внимание к эмпирическим деталям наряду с редкой способностью широкого синтеза, благородную сдержанность, которая отнюдь не тождественна с холодностью, обстоятельность, которая не переходит в увлечение частностями, внимание к другим мыслителям (качество, редкое в философе столь крупного масштаба) и ряд других ценных черт. Хочется отметить и язык Лосского, к которому уместно применить выражение Шопенгауэра: «блестящая сухость». Стиль Лосского лишен украшений, он всегда прост, строен и прямолинеен. Он не извергает, а медленно растит свои идеи, и эта органичность мышления проявляется у него в спокойной истовости стиля.
Иногда приходится слышать жалобы на «трудность» чтения Лосского. Конечно, настоящая философия – не слишком легкое дело. Часто ссылаются на труды Ницше или Паскаля как на пример философии, поданной в литературно–увлекательной форме. Но Ницше и Паскаль не занимались–гносеологией и выработкой системы метафизики (кроме афористических высказываний в этих областях) – они были чутки ко всем человеческим проблемам и были гениальными психологами.
Философам менее всего следует, конечно, презирать подобных «литературных» мыслителей, – и филистерское презрение к Ницше, распространенное в конце XIX века в академических кругах, основывалось на узости самих «презирателей». Однако никакой подлинный философ не может ограничиться литературными философами, как бы блестящи они ни были. Он не может обойтись без основательного знакомства с Платоном, Аристотелем, Кантом, Гегелем: – и Лосским.
По существу, Лосский значительно доступнее Гегеля, Канта и многих других умозрительных философов. Умозрения Лосского всегда освещаются светом интуиции, как мыслительным фоном. Мысль Лосского всегда ясна, и он имеет смелость мыслить последовательно, а ведь «мудрец отличен от глупца тем, что он мыслит до конца». Но Лосский требует от читателя известного напряжения умозрительной мысли, к чему способны далеко не многие.
Из отмеченных выше черт Лосского как философа мне хотелось бы
подчеркнуть следующие: Философски–деловой подход к проблемам. В философии также приходится различать между намерениями и осуществлениями. Слишком многие философы «касаются» проблем или заявляют о своей мировоззрительной программе, анализируют те или иные аспекты проблем и т. д. Но у немногих, в том числе у Лосского, есть дар ставить и разрешать проблемы. Русская мысль склонна к интуитивным методам. И об интуиции у нас писали многие, но никто до Лосского не дал подлинного «обоснования интуитивизма».
Трезвость мысли, Аристотель в свое время называл Анаксагора «трезвым между пьяными». Историк русской философии XX века мог бы, пусть с оговорками, применить эти слова по отношению к Лосскому. Для многих русских философов начала века характерны романтические метания из одной крайности в другую (исключение, кроме Лосского, составляет С. Франк), некая завороженность потоком идей. В отличие от этого Лосский никогда не теряет разумного контроля над философским
395
вдохновением. Он всегда способен видеть оборотную сторону медали, в силу чего его мировоззрение остается внутренне сбалансированным.
Сам защищая мистику и возможность мистического опыта, Лосский никогда не оказывается в плену у мистических экстазов, когда дело касается философии. Утверждая наличие сверхрационального начала в бытии (область «металогического»), Лосский философствует о сверхрациональном в высшей степени рационально. Он умеет с рациональной необходимостью доказывать наличие сверхрационального, отчего его доказательства мистического опыта выигрывают в своей убедительности.
Как бы то ни было, лица, прошедшие через искус изучения Лосского, не могут не смотреть по–новому на традиционные проблемы, даже в том случае, если они не становятся его последователями. В частности, в борьбе против материализма книги Лосского дают нам в руки неоценимое оружие, которым, конечно, нужно научиться пользоваться.
философия Лосского способна удовлетворить не только запросы ума, но и искания человеческого сердца.