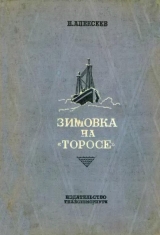
Текст книги "Зимовка на «Торосе»"
Автор книги: Николай Алексеев
Жанр:
Путешествия и география
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 17 страниц)
Незаметно время протекло до кануна празднования годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. По единодушному решению всего экипажа и технического состава, главным распорядителем празднования был избран наш гидрохимик.
В ночь на 7 Ноября электрифицированная звезда, изготовленная в машинном отделении, ярким рубином горела на мостике «Тороса», разукрашенном сигнальными флагами и разноцветными лампочками. Вдоль спардека протянулись красочные плакаты из яркого кумача с лозунгами, написанными матросами и мотористами.
– Да здравствует вождь народов – Великий Сталин!
– Да здравствует XIX годовщина Октября!
– В честь великой годовщины обязуемся провести зимовку образцово.
День 7 Ноября выдался чуть пасмурный и морозный. Мы знали, что во всех городах нашей родины-матери в это время гремела музыка, раздавались звонкие бодрые песни. Кажется, что если внимательно прислушаться, то и сюда, под 76° северной широты,, донесутся эти звуки великих побед и торжества, но нет, тишина нарушается только шелестом флагов на мачтах и скрипом снега под поступью двадцати человек. Впереди колонны плывет плакат с лозунгом наших гидрографов:
«Да здравствует Северный морской путь – жизненный нерв Советской Арктики!»
На берегу состоялся митинг. Ораторов было немного, но речи их были яркими. Они говорили о великих победах, завоеванных трудящимися нашей страны под водительством партии большевиков и великого Сталина, о нашей скромной работе на северной окраине Советского Союза, о том, что работа небольшой группы зимовщиков также послужит на пользу общему делу укрепления страны, общему делу борьбы за торжество коммунизма. Каждая измеренная нами глубина, каждый снятый островок увеличивает в конечном счете наши силы, которые помогут в последнем, решительном бою народам великого Советского Союза одержать быструю и полную победу. Дружным «ура» зимовщики послали пламенный привет нашей великой родине и вождю трудящихся СССР и всего мира товарищу Сталину.
Четким военным шагом колонна вернулась на корабль.
Красный уголок, разукрашенный флагами и плакатами, приятно порадовал демонстрантов обильным, художественно сервированным завтраком, над которым немало потрудились работники нашего камбуза. Исчезли традиционные полярные свитера, ватники и прочие теплые детали костюмов. Все участники праздника явились к столу одетыми в форму, как бы подчеркивая, что по первому зову родины на рукавах у каждого появятся звездочки и весь коллектив безраздельно отдаст себя в полное ее распоряжение. Оживленный завтрак завершился «качанием» ударников корабля и экспедиции.
Когда мы вышли из-за стола, солнце уже далеко ушло за горизонт, но не подумайте, пожалуйста, что наш пир длился с утра до глубокой ночи. Солнышко навестило нас не больше чем на полчаса, и это время прошло, конечно, совсем незаметно. На льду, при свете прожектора, торосовцы показали, что взрослые люди могут веселиться и возиться так же заразительно, как и дети. Если бы кто-нибудь мог посмотреть на нашу «чехарду» или классически построенного «слона» в четыре яруса! А чего стоил «кавалерийский» бой между машинной и палубной командами!
Разошлись спать мы только под «астрономическое» утро.
На другой день наша зимовка была приятно поражена обилием поздравительных телеграмм с Большой земли. Архангельск, Ленинград и Москва, казалось, больше думали и вспоминали о нас, чем мы о них, хотя естественным было бы как раз обратное. Телеграммы редакции газеты «Советский Полярник», ЦК Союза работников Севморпути, Архангельского политотдела, Морского управления и целого ряда других объединений нашей системы были совершенно неожиданны. Во всех приветах с родины выражалась уверенность, что зимовщики дадут отличные показатели работы, – эта уверенность налагала на нас серьезную ответственность, но вместе с тем вливала в коллектив такую живую струю бодрости, что все предстоящие трудности начинали казаться совсем не такими страшными, как о них принято было думать.
Полярная ночь
Организация зимних занятий. Работа на льду. Оттепель среди зимы
С тех пор как прекратились наши ежедневные выходы на полевые работы, радио сделалось и нашим лучшим другом и основным регулятором нашей жизни.
– Как вы проводите время?
Такой вопрос очень часто задавали нам с Большой земли. Вопрос, бесспорно, интересный для тех, кто не представляет себе, как это солнце вдруг перестает появляться над горизонтом и сплошная ночь царит над всем в течение нескольких месяцев. Ответить на этот вопрос о каждом дне в отдельности, конечно, можно просто, а вот дать общую картину жизни коллектива в течение всей полярной ночи представляется достаточно трудным. В наших экспедиционных условиях, прежде всего, надо было использовать темный период для хорошего отдыха после осенних тяжелых работ и накопления физических сил для весенне-летних маршрутов. В это же время мы готовились к этим маршрутам, учились и выполняли те гидрографические работы, которым не мешала сплошная темнота.
Главный регулятор жизни на юге – солнце – здесь отсутствует. Если оно и начинает появляться в феврале, то все равно в этот период все иллюминаторы и световые люки бывают настолько забиты снегом, что солнечные лучи не проникают в наше жилище. Таким образом, распределение дня и ночи, а следовательно и работы и отдыха, базируется только на расписании. Расписание, или распорядок дня, как официально мы называем, было составлено на «Торосе» применительно к московскому времени, сообщаемому по всему кораблю радиостанцией имени Коминтерна в Москве.
На равных зимовках по-разному относятся к этим расписаниям. Бывает так, что вся зимовка, независимо от числа ее участников, строго придерживается раз и на всегда установленного распорядка дня и ночи, от соблюдения которого освобождаются только больные. Случается и так, что расписание остается самим по себе, а зимовщики живут тоже сами по себе – как кому вздумается. Оба эти варианта не имели места на «Торосе».
На своих прошлых зимовках я заметил, что самым оживленным временем в коллективе были часы от окончания ужина, например, до полуночи или несколько даже позже. В этот период радио давало наиболее интересные передачи из театров, концертных зал и т. п. После ужина затевались какие-нибудь интересные игры, чтение, рассказы. В 10 часов вечера все это прерывалось сигналом вахтенного, лампы тушились и людям предлагалось расходиться по койкам… согласно «правилам внутреннего распорядка». Естественно, что «сон по заказу» приходил далеко не ко всем, и многие испытывали мучительное «удовольствие» лежать в темноте на койке в течение нескольких часов, когда сна, что называется, не было ни в одном глазу. Дальше, в 7 часов утра, когда голова так и льнула к подушке, а веки никак не хотели разомкнуться, «неумолимый» вахтенный тащил вас с постели к утреннему завтраку. Весь день затем шел по сигналам, включительно до часов обязательной прогулки на свежем воздухе.
Я далек от мысли совершенно дискредитировать такую систему; быть может, иногда она бывает и очень необходима, но на «Торосе» она не применялась. Наш «закон» требовал только одного, чтобы все люди, кроме несущих вахтенную службу и работающих в особые часы, находились на необходимых судовых или экспедиционных работах в течение шести часов в сутки, которые занимали время начиная с 10 часов утра.
Пища подавалась к столу четыре раза в день – в 8, 13, 17 и 21 час, и каждый был волен приходить или нет для приема ее, камбуз и буфет бывали открыты только в эти часы. В общем, кроме своего рабочего времени, каждый располагал собой, как ему нравилось. Прочитавшие эти строки могут возмутиться «распущенностью», царившей на «Торосе», но, право же, мы чувствовали себя замечательно хорошо.
Не лишним будет остановиться на утверждении многих полярников, и даже весьма почтенных, о том, что излишний сон и отсутствие движения, особенно на свежем воздухе, влекут за собой цынгу и прочие арктические неприятности. Во имя этого утверждения и вводятся в расписание побудка в 7 часов утра и обязательные моционы по льду. Лично я пришел к выводу, что заболевания надо искать не в длительном сне и сидячем образе жизни, а в первую очередь в казарменном режиме зимовок, буквально угнетавшем людей. При наличии хорошего питания гораздо важнее поддержать у зимовщиков бодрость, веселье, заинтересованность в работе, дать им максимум свободы распоряжаться своим временем, нежели по команде укладывать всех спать и беспрестанно опекать каждый их шаг.
Зимние дни на «Торосе» протекали однообразно, но важно то, что в этом однообразии постоянно проскальзывали какие-нибудь новые нотки, в большинстве случаев веселые.
Сутки начинались радиотрелью радиста, передававшего на Диксон метеосводку за 7 часов. Через полчаса радио включало станцию Коминтерна и по всему кораблю из Москвы раздавалась команда для утренней физкультурной зарядки. Признаюсь, что большинство из нас в это время еще находилось в постелях и призыв инструктора «приступить к водным процедурам» оставался в полном смысле слова «гласом вопиющего в пустыне».
Около 8 часов буфетчик Саша сервировал стол для завтрака и начинал по очереди стучать в наши каюты, приглашая нас «веселиться» горячим кофе. Этот термин «веселиться» привился на «Торосе» от нашего старшего помощника Владимира Николаевича Жилина.
Обладая поистине богатырским аппетитом, Владимир Николаевич, покончив однажды за обедом с тройной порцией мясного пирога, мечтательно проговорил:
– Люблю повеселиться, особенно поесть!
С тех пор на «Торосе» всякий прием пищи получил название «веселия».
Итак, Саша объявлял о начале «утреннего веселия», на что из кают раздавалось в большинстве случаев полусонное урчание и покрякивание. Однако несущееся из кают-компании тепло от жарко топившейся печи и аппетитный запах кофе обычно одерживали победу над желанием поваляться, и люди, поеживаясь от холода в каютах, один за другим подбегали к умывальнику.
В 10 часов утра начинались судовые работы. Недостатка в них никогда не было. Нужно было навозить из береговых торосов пресного льда для кипятильника, истопить баню, провести ремонт палаток, обуви, легких нарт, заготовить триангуляционные знаки. Машинная команда возилась около двигателей, откуда постоянно доносились постукивание ручников и скрежет слесарных пил. На льду около корабля ежедневно очищалась так называемая «пожарная майна», т. е. сквозная прорубь, чтобы можно было в любой момент иметь неограниченный запас воды на случай пожара. С кормы судна делалась сколка льда в виде полукруглого рва для того, чтобы предохранить руль и винт от повреждений при внезапных подвижках льда.
Работа прекращалась к 13 часам, после чего начинался обед. На отсутствие аппетита мало кто жаловался, так как многие ограничивали свой утренний завтрак просто одним стаканом горячего чая, кофе или какао. После обеда либо шло продолжение судовых работ, либо начинались занятия по специальным предметам или политучебе. Все 23 человека собирались в красном уголке и в кают-компании, в зависимости от участия того или иного лица в разных группах занимающихся. Обычный судовой рабочий шум затихал на два-три часа. Учеба проводилась у нас регулярно через день.
К 17 часам наше «расписание» считалось выполненным, и все, исключая вахтенных матроса и метеонаблюдателя, располагали своим временем как хотели.
Любимейшими занятиями вне «расписания» были охота на песцов с капканами, чтение и различные игры. Первый и последний виды развлечений обычно сопровождались веселыми дебатами, нередко затягивавшимися даже за полночь. Ловить песцов никто из нас не умел. Хорошенькие зверьки никак не хотели попадаться в расставленные по берегам капканы, несмотря на различные хитрости охотников. Пришлось обратиться за консультацией по этому вопросу на соседние полярные станции. Зимовавший в устье реки Таймыр промышленник Журавлев, как мог, разъяснил нам по радиотелефону способы установки капканов, но все же наша охота, к немалому удовольствию песцов, по существу превратилась не в их уничтожение, а в регулярную подкормку. Охотничьи трофеи «Тороса» были ничтожными. Огромным плюсом этой охоты было то, что люди, без всякого к тому принуждения, совершали ежедневные длительные прогулки, что, конечно, вредным никак не назовешь.
Судовая библиотека «Тороса» была довольно разнообразна и почти полностью обеспечила нас на всю зиму. Часто на корабле проводилось чтение вслух. Надо заметить, что это занятие обычно пользуется огромной популярностью среди команд зимующих судов. Стоит только на борту выявиться хорошему чтецу, как он делается любимейшим членом коллектива. Надо только напомнить, что первые чтения должны быть обязательно увлекательными, близко подходящими по теме к коллективу. Дальше уже можно перейти и к коллективному чтению серьезных книг, насыщенных различными отвлеченными философско-теоретическими положениями, и слушатели, захваченные первыми прочитанными книгами, с большим удовольствием осваивают и такой материал. Я затрудняюсь объяснить причину любви зимовщиков к коллективному чтению. Очевидно, при чтении вслух вообще гораздо ярче воспринимается прочитанное, вследствие того, что хороший чтец интонациями своего голоса дополняет то, что изложено в книге.
На «Торосе» особой популярностью пользовались книги исторического содержания. «Ледяной дом» Лажечникова был прочитан нами в два приема. «Степан Разин» Чапыгина переживался всеми так же остро, как шолоховский «Тихий Дон».
Игры носили у нас, если можно так выразиться, «эпидемический» характер. Однажды на столе появилось домино – традиционная игра моряков всего мира, носящая у нею название «козел». Стук домино раздавался в нерабочее время почти непрерывно на «Торосе» в течение двух-трах недель. Разговоры на «козлиные» темы не прекращались ни на работах, ни за обедом. Потом «козел» исчез из нашей программы так же неожиданно, как и появился. На смену ему появились… карты. Да, те самые карты, которые всегда были строжайше запрещены во флоте, в армии и т. д. из-за того, что игра в них всегда велась на деньги с большой долей азарта. На «Торосе» этот вид занятия тоже был не лишен «материальных» расчетов, вносивших в игру огромное оживление. Не следует, однако, пугаться «азарта», если он весел и никому не приносит вреда. Как ни хорошо жил наш коллектив, все же забыть о Большой земле он не мог. Постоянные воспоминания в разговорах о юге нашли свое отражение и в нашей игре. Так как каждому участнику экспедиции, по возвращении в Архангельск, предстояло поехать на юг, карточные игры вроде «своих козырей» и т. п. велись на право, например, при возвращении из Архангельска в Ленинград не ходить за кипятком на станциях, а пользоваться услугами проигравших; особый азарт вызвал приз – право в Архангельске не ходить на вокзал за покупкой билета и сдачей экспедиционного багажа. Каждый выигрыш оформлялся, под громкий хохот участников, выдачей счастливцу «чека», на котором в рисунках были изображены те «блага», которые он приобретал.
На смену картам пришел биллиард, который, пожалуй, дольше всех игр занимал зимовщиков, если не считать шахмат, пользовавшихся большой популярностью в течение всей зимовки.
Периодическая смена впечатлений не оставляла у нас места для скуки, и можно смело утверждать, что изобретательность у коллектива не была исчерпана к тому времени, когда снова развернулись полевые работы.
Работа нашей радиостанции обеспечила нам постоянную связь с Большой землей, и все то, что так или иначе волновало юг, в тот же момент переживалось всей зимовкой. Зачастую эти переживания проходили даже гораздо острее, чем на Большой земле, так как некоторые новости иногда «сваливались» на нас совершенно неожиданно. Так, было, например, в памятный день 18 февраля. Почти весь состав экспедиции вышел в этот день на транспортировку тяжелых бревен для постройки навигационного знака на вершине острова Боневи. Стоял трескучий мороз. Двенадцатиметровые бревна по одной штуке доставлялись на нартах силами 15—20 человек. Проваливаясь по пояс в снег, люди шаг за шагом волокли свой груз. На морозе с ветром пришлось пробыть часов пять. Можете себе представить, какое оживление царило на корабле, когда продрогшие до костей люди собрались после работы за ужином в тепло натопленной кают-компании. Вдруг, среди шума и смеха, из только что включенного репродуктора полились какие-то тихие, грустные звуки, затем они сделались громче… наполнили все ритмом как будто бы похоронного марша. Через минуту взволнованный голос диктора сообщил:
– Умер Серго Орджоникидзе!
Шум оборвался. Люди недоуменно переглядывались друг с другом, звякнула опущенная в тарелку чья-то ложка, и ужин прекратился. Слишком резок был переход от бьющей ключом жизни к известию о смерти того, чье имя давно стало для нас родным, привычным, я бы сказал, просто необходимым. Весть о смерти популярнейшего наркома дошла к нам в тот момент, когда нам хотелось петь, кричать, ребячиться по поводу окончания тяжелой работы. Естественно, что смерть старого большевика, крупнейшего государственного деятеля, была пережита чрезвычайно остро.
Особой популярностью всех торосовцев пользовались специальные выпуски «Арктических известий», передаваемые Москвой и радиостанцией Главсевморпути на острове Диксона. Эти известия затрагивали нас, нашу работу, и поэтому в часы передачи этих новостей у репродукторов собирались все без исключения зимовщики. Нужно только заметить, что редакция «Арктических» выпусков не всегда учитывала, что радио на зимовках является непременнейшим и постоянным участником жизни коллектива. Все очередные выпуски так называемых «Последних известий» обязательно передавались репродукторами по всему кораблю, вследствие чего особенно бывало обидно слушать в «Арктическом» выпуске какие-либо новости двухдневной давности, да еще не имевшие никакого отношения к Арктике.
Нельзя не сказать несколько слов и об организации учебы. Обычно зимовки имеют в своем составе высококвалифицированных специалистов по тем или иным техническим вопросам, но в то же время педагогический опыт у этих лиц, как правило, отсутствует. Это положение вынуждает особенно внимательно выбирать дисциплины для самообразования коллектива и останавливаться на тех, в которых имеются запросы слушателей. Стоит только внести в занятия элемент скуки, как они сейчас же теряют популярность, и сами занятия, едва начавшись, прекращаются. Так у нас получилось с занятиями по радиотехнике, но зато прохождение курса мореходной астрономии дало очень неплохие результаты. Еще сложнее на «Торосе» обстояло дело с политучебой, основным разделом которой мы считали изучение истории ВКП(б). Из опроса зимовщиков выяснилось, что более 90% из них уже неоднократно принималось за прохождение истории партии, но первая же проверка знаний показала, что слушатель либо вообще очень мало усвоил, либо выделил свои знания в какую-то совершенно обособленную область, не связанную о историей вообще. Это положение заставило нас расширить курс истории ВКП(б) целым рядом дополнительных бесед и лекций по истории народов СССР и Западной Европы. Прохождение курса шло медленно, но зато занятия приобрели определенную целеустремленность, и усвояемость основных положений истории большевистской партии значительно повысилась.
Переданная по радио передовица «Правды», в которой давались указания И. В. Сталина по вопросу составления нового учебника истории ВКП(б), тесно связанного с общей историей народов СССР и других стран, подтвердила правильность взятого нами курса. Надо было видеть, с каким гордым удовлетворением наш комсорг Миша Морозов заявил в момент передачи передовицы:
– О! Как раз в точку. Мы так и делаем!
Важным условием успеха в наших занятиях являлось привлечение к ним всего состава зимовщиков. Метод какого-либо принуждения был здесь мало приемлем, если не сказать, что просто никуда не годен. Надо было сделать так, чтобы люди сами напоминали лектору о времени наступления занятий, а не он выискивал своих слушателей по всему кораблю. Положительные результаты были достигнуты тем, что сухое изложение отдельных фактов и их анализ чередовались у нас с чтением таких книг, как «50 лет» Ф. Кона, «Ухабы» Новикова-Прибоя, «История гражданской войны в СССР» и т. п. Этот метод обеспечил нам постоянное наполнение аудитории слушателями, и в этом заключались причина успешной нашей работы.
Наконец, говоря о наших культурно-просветительных мероприятиях, нельзя не отметить еще одно занятие, нашедшее у нас очень большое распространение. Это игра «устная викторина», которая возникла чисто стихийно. Подавляющее большинство состава экспедиции заканчивало свое образование в те годы, когда молодая Советская республика еще не могла поставить на должную высоту школьное дело. Промахов в образовании было очень много. Люди получали какую-нибудь специальность, но все то, что находилось за пределами этой специальности, оставалось для большинства неизвестным. Одно только чтение разрешало этот вопрос медленно, и вот на помощь появилась «викторина», разгоравшаяся обычно в часы ужина. Горячие споры при решении какого-нибудь замысловатого вопроса заглушали вой пурги; не раз бывало, что наш стол покрывался кучей книг из судовой библиотеки и из личных запасов экспедиции; помню случай, когда соответствующая консультация была запрошена по радиотелефону с полярной станции острова Русского. Все это вместе взятое безусловно повышало наш общеобразовательный уровень и незаметно сокращало пресловутое «медленное» течение времени в полярную ночь.
Организацией полезного и веселого отдыха, однако, не ограничивается устройство хорошей зимовки. Хотя в полярную ночь обычно не ведутся какие-либо крупные полевые работы, но все же и все мелкие необходимо обставить так, чтобы по возможности превратить их в увлекательное для всех занятие. Такой вид работы, как подвозка пресного льда, занимая очень немного времени, конечно не требует какой-либо особой организации. Совсем иначе обстоит дело с метеорологическими наблюдениями. Сравнительно простая операция их выполнения всегда усложняется пургами, морозами, темнотой и необходимостью вахтенному наблюдателю прерывать свой сон среди ночи. Для того чтобы метеонаблюдения приобрели у зимовщиков заслуженную ими популярность, на «Торосе» было: введено, если хотите, «соревнование» между погодами, наблюдавшимися 37 лет тому назад на яхте «Заря» и у нас в 1936/37 году. Наблюдения результатов «Зари» были перенесены на график, на который наносились также и наши данные. График был вывешен в кают-компании. Ежемесячно нами выводились средние величины метеорологических элементов, наблюдавшихся на «Торосе», которые и сравнивались с данными «Зари».
В первой половине зимы «Заря» явно одержала верх над «Торосом» в отношении своих морозов. В январе наша средняя температура наружного воздуха оказалась выше максимума температуры, наблюдавшейся здесь в тот же месяц в 1901 году, но зато в феврале и особенно в марте «полярное самолюбие» «Тороса» было вполне удовлетворено – нашими минимумами оказались —49°,5 и —48°,0, тогда как «Заря» еле дотянула до —47°,7. В течение всей зимы не проходило дня, чтобы чей-нибудь палец не проехал по температурным кривым графика. На «Торосе» даже появились «специалисты» по улучшению или порче погоды. Незадачливому Сергею Александровичу, кажется, не пришлось провести ни одной вахты, чтобы не попасть в хороший снежный шторм, зато вступление на метеорологическую вахту ревизора Ивана Кузьмича приветствовалось зимовщиками, так как в его пятидневку всегда стояла прекрасная погода.
– Тебя бы, Кузьмич, в парусном флоте наверняка держали в рамке рядом с Николаем-чудотворцем! Больно ты хорошо колдовать с погодой умеешь! – не раз говорил ревизору старший механик.
Вот, собственно, как протекала наша обычная жизнь в период полярной ночи. На этом фоне и развертывались события, создавшие ту полярную специфику, о которой часто приходится слышать с тех пор, как полярные области были включены в орбиту хозяйственной деятельности нашей страны.
20 ноября разразился особенно сильный снежный шторм. Тучи снега, падающего сверху и вздымаемого порывами ветра снизу, неслись какой-то сплошной массой. Температура воздуха держалась ненормально высоко —12°. К моменту вечерних метеорологических наблюдений шторм достиг своего апогея. Очередной вахтенный метеонаблюдатель – топограф Черниченко – с трудом сошел по трапу на лед и, не успев ухватиться рукой за проволоку, протянутую к метеорологическим будкам, был подхвачен вихрем и свален с ног. Только то, что он находился у самого трапа, спасло его от возможной гибели, и он добрался до судна. В помощь Черниченко был назначен вахтенный матрос. Наблюдателя крепко обвязали прочным линем, и вахтенный, держась за поручни трапа, постепенно вытравливал линь, пока наблюдатель по проволоке добирался к приборам. Вот натяжение линя ослабло; повидимому Черниченко был уже у своей цели. Минут через пятнадцать конец снова потащило из рук матроса. В руках у него оставалось из имевшихся 100 метров не более 10, до метеорологической же станции от корабля было всего 40 метров. Сообразив, что дело не ладно, матрос с силой потянул линь к себе обратно. В это время пурга неистовствовала с таким ревом, что никакой звук, а тем более человеческий голос не мог быть, конечно, расслышан. Борьба матроса с вырывающимся из его рук концом длилась не менее получаса, и, наконец, у трапа появился какой то темный силуэт, оказавшийся нашим наблюдателем. Черниченко был сплошь забит снегом к так измучен, что с трудом мог рассказать о своих злоключениях.
Держась за проволоку, он прошел к будке и с огромным трудом сделал необходимые отсчеты. Надеясь на обвязывающий его линь, Черниченко, идя к кораблю, отпустил путеводную проволоку. Снежные вихри, стремительно крутящиеся вокруг человека, сбили его с пути, и он побрел совершенно не туда, куда было надо. Так как ветер все время натягивал линь, то Черниченко считал, что идет правильно. Каково же было его удивление, когда линь вдруг потянул его как будто бы в другую сторону. Не зная причины этой метаморфозы, наблюдатель начал сопротивляться и целые полчаса рвался в сторону, пока совершенно измученным не был подтянут к борту.
Этот эпизод, к сожалению, все же окончился не совсем хорошо. Еще в начале месяца у Черниченко начал пропадать голос. Болезнь, как оказалось, явилась следствием какого-то воспаления голосовых связок, бывшего у нашего топографа еще год тому назад. После неудачного наблюдения 20 ноября Черниченко совершенно потерял голос, вследствие чего его пришлось освободить от всех наружных работ. Болезнь прогрессировала. Наш лекпом, исчерпав все свои знания и возможности, стал втупик. Больной не мог произнести ни слова. Узнав из разговоров, что лучшим специалистом по горловым болезням является профессор Военно-медицинской академии в Ленинграде Воячек, я отправил к нему подробную телеграмму с описанием состояния больного и просьбой дать совет. Ровно через 7 часов 50 минут радист доставил нам следующий ответ:
«Советую полоскать горло настоем ромашки и ингаляцию однопроцентным раствором двууглекислой соды тчк Прикладывание горчичников на кожу шеи зпт согревающий компрес тчк Воячек».
Арктические зимовки далеки от наших центров только географически, во всех же остальных отношениях мы оказываемся для нужных нам людей даже ближе, чем живущие с ними буквально по соседству. Сегодня к нам пришел на помощь опытнейший профессор, завтра, если это понадобится, нам помогут весь наш стовосьмидесятитрехмиллионный великий народ и его партия большевиков.
Через два дня после описанного случая в 4 часа утра зимовщики были подняты на ноги громким боем пожарной тревоги. Пожар – злейший и самый опасный враг в наших условиях. Корабль представлял собой сооружение из чрезвычайно сухого, моментально воспламеняющегося дерева, на нем постоянно находились большие запасы жидкого топлива, что еще более усугубляло общую опасность. Пожары в Арктике бывают редки, но, раз возникнув, они обычно уничтожают все горящее дотла.
Тревога как электрический ток разнеслась по кораблю, и в один миг вся команда собралась около машинного отделения. Огня нигде не было видно, но в воздухе явно ощущался сильный запах гари. Печи на судне еще не топились, за исключением топки под кипятильником для воды в судовой бане.
– Товарищ капитан, – доложил вахтенный, – где горит – не знаю, но вот и пахнет и глава дымом ест. На палубе ветер – я решил дать тревогу.
– Правильно сделал. Пустить динамо!
– И в машине дым есть, только там не горит ничего.
В течение пяти минут люди обшарили буквально все уголки судна, но нигде не могли обнаружить признаков огня, а между тем дым уже заметно начинал есть глаза. Главное внимание было сосредоточено на кипятильнике, но в том помещении, где он стоял, дыма как раз и не ощущалось. Сам кипятильник имел фундамент из двух рядов кирпичей, расположенных, в свою очередь, на бетонной палубе бани. Гореть тут было нечему. Больше всего дыма было в машине, но там печь была потушена еще накануне и никаких признаков огня не обнаруживалось.
Застучал мотор. Все помещение осветилось ярким электрическим светом. Сизое, едва видимое облачко дыма тянулось из машинного отделения и распространялось по всем жилым помещениям. Проследив эту струйку, мы убедились, что горит палуба как раз под кипятильником и над танками с нефтью, стоящими в машине. Зазор между последними и горящим подволоком был настолько мал, что туда никак не мог пролезть человек. Механики быстро поняли всю опасность положения и полную негодность при данных обстоятельствах пеногонных огнетушителей. Пока наверху ломали кипятильник, снизу палубу в месте ее тления поливали водой из масляной машинной спринцовки с длинным и тонким наконечником. Вслед за кипятильником в умывальнике был снят покрывавший палубу слой бетона, и тогда только стали окончательно ясны и место и причина пожара. Как раз под самым кипятильником в палубе успело уже прогореть сквозное отверстие диаметром до 15 сантиметров. Если бы не своевременная тревога, поднятая вахтенным, кипятильник, набитый двумя стами кило льда, провалился бы вместе с горящей топкой в машину на нефтяной бак.
– Смеху было бы много! – пробурчал боцман, осматривая место пожара. Возникновения его ожидать было трудно, но факт – упрямая вещь, и поэтому нам пришлось крепко призадуматься, и это же можно горячо порекомендовать и строителям деревянных судов. Новый кипятильник был установлен нами на том же месте, но дерево было изолировано, кроме слоя цемента, еще толстыми листами асбеста.









