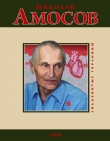Текст книги "Книга о счастье и несчастьях. Дневник с воспоминаниями и отступлениями. Книга первая."
Автор книги: Николай Амосов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 20 страниц)
Дневник. Пятница, вечер, 24 января
Жизнь опять загоняет в угол. Бросить все к черту, лечь на дно, чтобы нельзя запеленговать, выйти на пенсию, уйти в скит... Снова больная не проснулась. И не какая-нибудь, что оперируется по крайним показателям (она и с клапаном проживет недолго), а девочка с врожденным стенозом аорты, которая должна стать здоровой...
Кроме того, сам заболел. Слово неподходящее для меня. Четыре года не сморкнулся, не кашлянул, а тут заложило все, дышать не могу – насморк.
Дневник. Воскресенье, 26 января
Появилась надежда: проснется, оправится, отойдет. А эти истерические выкрики: «Зачем? В скит!» – так, дань эмоциям. Разве я не составил модели личности, позволяющие рассчитывать счастье? Чье-чье, а свое-то я считал не раз и не два. «Лечь на дно», или заняться писанием, или чистой наукой, или делать по три операции, или пытаться совместить то и другое. Получается последнее.
Лежал вчера на диване с носовым платком в кулаке, несчастный, сопливый... Смотрел на книги (у меня их около пятнадцати тысяч, большая квартира вся уставлена полками) и думал: сколько же тут информации, которую я насобирал в надежде, что появится время прочитать и переварить.
Нет, жаловаться на судьбу все-таки не стоит. Труды и страсти не проходят даром. В этом месяце пока на 38 операций с АИКом умер один больной. Умер тот Коля, что страдал на прошлой неделе. Из 12 больных, которым вшил протезы клапанов в этом месяце, 10 оперированы с третьей степенью риска. Как они выживают, самому непонятно... Счастье?
Неделя была такая: понедельник и вторник писал воспоминания. Спокойно писал, потому что ожидался только один очень тяжелый больной. Вышло все наоборот.
Среда: первая операция – тетрада Фалло, взрослый парень, уже мужчина, 23 года, средняя тяжесть. Операция шла нормально: запустили сердце разрядом тока в дефибрилляторе. Пошло. Но... мощность развивать не пожелало. Тут и началась нервотрепка.
Утром меня встретила перед кабинетом моложавая женщина, представилась: "Мать С.". Стала просить: "Сделайте получше". Как будто я делаю одним лучше, другим хуже. Главное, что резануло:
– Его дочечке, моей внучке, сегодня исполняется четыре года.
Мне еще тогда стало не по себе. А когда сердце стало останавливаться после пяти минут самостоятельной работы – совсем плохо: "сюрприз" на именины дочки... Много раз уже описывал это состояние взвешенности в воздухе, когда сердце работает только с помощью аппарата и сокращения слабеют на глазах. Так было и теперь. Целый час работали параллельно, вводили лекарства. Уже терял надежду. Но сердце разработалось. 126 минут перфузии.
Мать С. ожидала у лестницы внизу. Не узнал ее сначала – так посерела и поблекла за эти двенадцать часов. Успокоил; благодарила, руки целовала... "Рано еще, рано, мало ли что может случиться"... Боюсь всяких бурных излияний, а тем более преждевременных, слишком часты осложнения.
Ночь, как всегда, была плохая, но утром нормально отбегали с Чари (собакой) свою норму.
Операции. Первый больной предполагался трудный. Ему семнадцать лет, врожденный порок – сужение аортального клапана и незаращенный боталлов проток. Можно представить три варианта операции. Первый – двухэтапная – перевязать проток, а через один-два месяца исправить аортальный клапан. Второй – за один раз, но две операции: сначала перевязать проток через боковой разрез по типичной методике, затем сделать срединный разрез и прооперировать аортальный клапан с АИКом. Дольше, но вполне терпимо. Третий: через один срединный разрез добраться до боталлова протока, перевязать его и потом продолжать операцию на аортальном клапане. Вроде бы проще и быстрее, травма меньше, разрез один.
Но это только кажется. В хирургии важнейшее дело доступ – выбор такого разреза, который обеспечивал бы максимум удобства для выполнения основного этапа операции. Через срединный разрез боталлов проток никто не перевязывает. Это очень сложно и неудобно. И опасно, как показал мой же горький опыт вынужденной операции. Но раз пять в жизни мне приходилось перевязывать проток из срединного разреза. Обычно на него "нарывались", как у той больной, но, к счастью, обнаруживали еще до подключения АИКа. Действуя спокойно и методично, удавалось до него добраться и перевязать даже без больших трудностей. Возникло впечатление: "Мне все это нипочем!"
Поэтому я выбрал третий вариант...
Петя Игнатов распилил грудину, вскрыл перикард, я подошел, пощупал – да, есть дрожание на легочной артерии, свойственное этому пороку (черт бы его побрал!). Начал тихонько и осторожно разделять ткани, спускаясь по дуге аорты. Дошел до протока, он оказался большим. Начал выделять... (Всегда считал себя мастером анатомичного выделения, без хвастовства, имею свои приемы.) Когда дело подходило к концу, проток порвался – показалась хорошая струя крови из аорты...
Вот оно! Тут мне и погибнуть...
Прижал кровоточащее место пальцем, он закрыл все поле, уже дальше выделить ничего нельзя, очень глубоко.
Остается одно: держать левой рукой разрыв, а ассистенты и моя правая рука должны подключить АИК. Затем нужно охладить больного и изнутри легочной артерии попытаться зашить устье протока. Совсем не так просто и не так быстро.
А отверстие в протоке под пальцем расползается, и уже кончик фаланги провалился в его просвет. Вот-вот порвется совсем, хлынет кровь – и все, уже не спасти. Палец должен быть надежным. ("Дурак, самонадеянный идиот!" – Эти слова я кричал не про себя. На всю операционную.)
Петя долго возился с артерией (а может, мне показалось-долго). Палец начал затекать, потерял чувствительность, постепенно онемела вся кисть.
– Скорее! Ну, скорее же!
Сменить руку я боялся – проток еле держится, хлынет – и не спасти...
Но вот подключили машину. Теперь уже не катастрофа, если и прорвется... Сменил руку, левой сделал гимнастику – сжимал и разжимал кулак. В это время работал АИК – нужно охладить больного до двадцати пяти градусов, тогда можно вообще остановить машину на десять-двадцать минут и зашивать спокойно...
Кисть постепенно отошла, чувствительность вернулась, температура больного снизилась даже до двадцати двух градусов. Уменьшили производительность машины до одного литра в минуту, давление понизилось до 25 миллиметров ртутного столба. Тогда я отпустил палец – при таком давлении кровотечения вообще не было. Наложил на ткани швы с прокладками из тефлонового войлока. Потом рассек легочную артерию, из протока текла спокойная струйка крови. Ввел этот самый зонд, раздул пузырек и закупорил проток. Не течет совсем. Наложил швы, удалил баллончик, затянул. Вот так просто. (У той больной тоже так нужно было сделать. Не догадался!)
Вся последующая операция прошла нормально. Но два часа перфузии, сильное охлаждение – проснется ли? Тревога осталась на весь следующий день.
Он проснулся и хлопот не доставил.
Теперь закажу другу и недругу: нельзя так делать. (Утром в пятницу рассказал о своей самонадеянности на конференции.)
Дневник. Воскресенье, 8 февраля. День
Есть все-таки счастье, есть!
Только что пришел из клиники. Должен записать, а то уйдет это ощущение. В пятницу и субботу уже все трепетало, но не хотел спугнуть. Сейчас, кажется, можно говорить.
В среду было три операции, клапаны, как всегда. Прошли нормально.
Мужчине вшили два клапана, женщине один.
Когда начинали третью, за окном уже было темновато. Она-то и была самая трудная. Женщина – сорок один год, держится бодро. Но это только внешне. Тринадцать лет назад ее уже оперировали, расширяли митральный и аортальный клапаны, без АИКа. Уже не работает пять лет. Есть дети, муж... Поражение трех клапанов.
Долго откладывал операцию, риск слишком велик. Она просила, но не настаивала. Мужа увидел только в день операции, до этого с ним разговаривали без меня. Он уже примирился с опасностью.
(Подумайте, как страшно: пятьдесят или семьдесят шансов из ста за то, что ваш близкий не вернется живым из операционной. Всякий раз, как мне приходится говорить такое родственникам, мороз подирает по коже и я ставлю себя на их место. До чего же это жутко – сидеть в вестибюле и ждать, пока скажут: "Жива" или "Умерла"...)
Сама операция шла не так уж трудно. Все диагнозы подтвердились.
Из операционной вышел около девяти вечера. Коля еще зашивал рану... Первые больные были в порядке.
В вестибюле встретил муж:
– Как?
Сказал лишь то, что есть: "Пока не знаю".
Очень проголодался, заходил к нянечкам в реанимацию за хлебом. Они поохали, посожалели и отрезали горбушку...
В десять часов больная была уже в посленаркозной комнате. Состояние плохое. Давление около 70, моча еле капает, признаков сознания нет. (Почти нет, на громкий окрик чуть дергает бровями – сомнительно.) Везти дальше невозможно, переход между операционной и реанимацией длинный.
Снова разговор с мужем. Он уже смотрит настороженно и недоверчиво, и я чувствую себя виноватым. Так всегда: объяснишь, расскажешь, отказываешься, тебя уговаривают, а потом стоишь как обманщик.
Через полчаса снова иду в операционный корпус. Алеша дал сосудосуживающее (мезатон), и кровяное давление повысилось до 90. Капает моча. Сознание не прояснилось. Велел через двадцать минут везти в реанимацию, пока держится давление. Сам пошел туда. Пока смотрел оперированных, минуты быстро прошли. Вдруг бежит Алеша:
– Остановка сердца! Готовьте дефибриллятор...
Вот и все. Ничего не дрогнуло внутри, только будто воздух выпустили из шара, так спалась душа: если у такой больной остановка, уже не запустить.
Едут... Ассистенты-хирурги везут кровать, анестезиолог на ходу массирует сердце, его помощник проводит искусственное дыхание портативным дыхательным аппаратом.
Скрипят колеса кровати. (Никогда не смажут!)
Привезли. Под матрац подсунули широкую доску, чтобы не прогибалась сетка. Присоединились к стационарному дыхательному аппарату, к монитору, налаживают капельницу. Один непрерывно массирует сердце простым таким приемом: левая ладонь на середине груди, на нее – правая ладонь, и вместе обеими руками дают сильные толчки на грудь, как раз напротив сердца. При этом оно поджимается к позвоночнику, и из желудочков кровь выталкивается в аорту и легочную артерию. Можно даже прощупать пульс на сонных или бедренных артериях. Тяжелая работа, через пять минут нужна смена, отходят потные. Иногда это длится часами. Страшно, если человек в сознании, бывает, он даже открывает глаза, а жизнь его – вся в этих толчках. Остановись на двадцать секунд, зрачки расширяются, смерть настигает... Перерыв минут пять еще не смертелен, но очень опасен, кровообращение под массажем не всегда эффективно.
Вот и сейчас – массирует Валера Литвиненко, его сменяет Роман. Через каждые три-четыре минуты делают остановку, смотрят на осциллограф.
– Нет сокращений, но фибрилляция живая... Фибрилляция – это беспорядочные волны на экране, соответствуют таким же беспорядочным волнам на сердце.
Непрерывно капают раствор соды, чтобы нейтрализовать кислые продукты обмена, периодически вводят лекарства – для возбуждения сердца или, наоборот, чтобы снять чрезмерную активность. Почти в каждую остановку – дефибрилляция: прикладывают к груди. Две пластины с изолированными ручками и дают разряд тока высокого напряжения.
– Всем отойти! Давай!
Больная дергается всем телом.
Впиваются глазами в осциллограф, пока там появится зайчик.
– Пошло? Нет? Продолжайте массаж! Все четко, без шума. На соседних кроватях больные, оперированные сегодня, уже в сознании, их нельзя пугать. Правда, задернута пластиковая занавеска, не видно, но все слышно.
Стою и не вмешиваюсь, все правильно делают. Но как это мучительно наблюдать... Пойдет? Не пойдет? Если пойдет – то потянет ли? Запустить сердце удается почти всегда, но добиться устойчивой работы, чтобы снова не возникала фибрилляция, чтобы держало давление, удается не чаще, чем у каждого третьего. Многие из этих потом не просыпаются. Плохое кровообращение при массаже наслаивается на последствие искусственного кровообращения, развивается отек мозга. Спасти удается одного из пяти.
– Отойти всем! Давай разряд!
– Пошло.
Да, пошло. Вот на осциллографе типичная ЭКГ, хотя и с измененными зубцами... Затаили дыхание, ждем.
– Сорвалось! Массируй...
– Оля, готовь адреналин в сердце...
Сестра набирает адреналин, разводит его физраствором до десяти кубиков. Останавливается массаж, и Андрей колет длинную иглу слева от грудины, рассчитывая попасть в сердце. Воткнул, потянул шприц, показалась кровь, надавил на поршень – и лекарство пошло прямо в полость желудочка.
– Массаж!
Через две минуты перерыв, дефибрилляция...
Не помню уже, на какой раз сердце пошло. Эти полчаса показались вечностью...
– Идет устойчиво... Пульс есть! Ритм правильный... Наконец все вздохнули. Валерий вытирает ладонью лоб – ему больше всех досталось массажа...
Сижу возле больной еще полчаса. Сердце работает устойчиво, давление около 80, начала капать моча. Взяли анализы... О сознании никто не спрашивает. Массаж, кажется, был эффективный, зрачки расширялись несильно, Но она и до остановки сердца не просыпалась. Нет, не нужно обманываться. Только крепкие больные могут перенести такое... Нет надежды.
– Я ухожу, ребята, до свидания. Звонить не надо. Внизу ждет муж. Лучше бы он ушел.
– К сожалению, должен вас огорчить. При перевозке в палату возникла остановка сердца. Хотя удалось запустить, но теперь надежды совсем мало.
Смотрит отчужденно, не спрашивает подробностей. И то хорошо.
– Где нам завтра забирать?
Вот, вот: "Забирать". Труп, конечно, что еще. Все правильно поняли и, небось, проклинают меня ("Не сумел, а обещал").
В кабинете тихо играла музыка, не выключил, думал, быстро вернусь. На столе приготовлена кучка бюллетеней на завтра. Интерес к ним пропал – какая разница, как меня оценят ребята. Чем хуже, тем лучше. Будет еще один довод, чтобы уйти. И не стоять раздавленным перед взглядами родственников, не прятать от них глаза.
Позвонил домой, что выхожу.
Бегом под гору... К полуночи добрался. Домашние не спали, но разговоров не заводили – и так все видно.
Обед. Бессонница.
Утро пятницы обычное. И зачем я вожусь с этим бегом? На улице холодно, слякотно... Не побежал бы, если бы не Чари. Маленькая отдушника тепла. На мой звонок вечером она визжит за дверями, вхожу – прыгает, лижет щеки, потом отходит и начинает тихо, отрывисто лаять. Выговор: "Почему поздно?"
В вестибюле не спрашиваю. Зачем проявлять нетерпение? Что есть, то есть.
Когда вхожу в зал, сразу смотрю на свой большой стол. Пусто. Истории болезни нет. Жива?! Небось дежурный еще не принес. В подсознании все время брезжила надежда: "А вдруг?" Сознание останавливало: "Вдруг не бывает".
Но вот Валера докладывает:
– Женщина А. Митрально-аортальное протезирование, коррекция трехстворки... Остановка сердца... Реанимация... К утру проснулась. (Вот счастье!) С шести часов на самостоятельном дыханьи. Трубку не удалял, ждал вас, можно хоть сейчас...
– Иди, удаляй, экстубируй! Спасибо...
Мигаю, чтобы слеза не капнула, такой стал слабый...
Теперь другая жизнь!
Было два отчета: Алеша Циганий (профессор Циганий, только что получил подтверждение из ВАК!) – за анестезиологическое отделение и Миша Атаманюк (доктор медицинских наук Михаил Юрьевич Атаманюк, но ВАК еще не утвердил, надеемся) – за отделение реанимации.
Довольно хорошо отчитались, объективно. В общем, отделения хорошие. Анестезиологи – народ особый, требуют подхода. На них большой спрос: специальность нужная, но не престижная. Больные еще не поняли, что их жизнь зависит от анестезиолога не меньше, чем от хирурга. Не то, чтобы цветы, редко когда скажут спасибо. Наши врачи котируются высоко, мест – сколько хочешь кругом, поднимутся и уйдут в любой момент, хоть и платим им по полторы ставки. За последние годы много ругани слышали от меня. Алеша с трудом удерживает свои кадры, дает темы для диссертации. И все-таки бегут. Поэтому – ругайся, шеф, да оглядывайся. Нет, не буду хулить, ребята хорошие. Или только сегодня?
Реаниматоры выделились из анестезиологов не так давно, но уже стали самостоятельными специалистами. Уже широкая публика знает слово "реанимация" – отделение, где борются за жизнь умирающих. Доля тяжелая и тоже не престижная. Пациентов, которых спасут, переводят долечиваться в другие отделения, и они забывают, кому обязаны, что задержались на этом свете. (Я теперь знаю это даже "изнутри": дочь работает третий год в инфарктной реанимации, в кардиологической клинике.)
Реаниматоры – народ скромный, много женщин. Прорех в их образовании сколько хочешь. Без претензий редкая конференция проходит. Но работают честно.
Ловлю себя на мысли о помощниках: вполне хорошие ребята, питаю к ним теплые чувства. И, уж несомненно, уважаю большинство из них... Странно? На человеческую природу у меня довольно трезвый взгляд, когда чужие и люди вообще. А вот конкретные и не очень близкие – как будто хорошие. Каждого из них вижу нет, не насквозь, но достаточно глубоко: недостатки, эгоистические качества. Ко мне, однако, они все повернуты хорошими сторонами. Не было и нет склок в клинике, о чем часто слышу из других мест. Работа такая? Некогда заниматься пустяками? Или стеснительно перед лицом смерти?
В заключение решили, что анестезиологическое отделение нужно оценить на "хорошо", а реанимацию пока на тройку. Много еще недостатков, не освоено как следует ведение маленьких детишек, хромает методика искусственного дыхания. Наука плохо поставлена. Но Миша старается, всем нравится своей простотой, честностью и самокритичностью. Он у нас парторг и тоже на месте. Принципиальный. Не в пример некоторым другим.
– Теперь, товарищи, проведем голосование. Мирослав раздаст бюллетени, ящики – отдельно для младших и старших – у Ани в приемной. Постарайтесь соблюсти объективность. (Понимай, например, ко мне. Вы даже не знаете, черти, как мне важны ваши оценки...)
Очень беспокоился, когда пошел на этот шаг. Последние полгода много ругался, резко, грубо. Вполне достаточно материала для обид. Мне-то кажется, что всегда было справедливо, когда подмечал, что ошибся, извинялся, но у каждого свое мнение. Самолюбие, биологическое самоутверждение всегда смещает оценки, преувеличивает чужие грехи и уменьшает свои.
Мое заявление вызвало веселье. Как же, так редка возможность сказать ближнему (и, главное, высшему!), что он – дерьмо. Ничем не рискуя. В бюллетень, как и раньше, внесены все заведующие отделениями и, кроме того, врио главного врача Мирослав.
Разошлись, и пятница покатилась нормально.
На обходе в реанимации действительно наша А. была в полном порядке. Трубку Витя Кривенький удалил сразу после доклада, больная пришла в себя и могла разговаривать.
О, эти бледные, через силу улыбки в первое утро после операции. Многое за них отдашь.
Шепчет сухими губами:
– Перешагнула уже я? Как, Николай Михайлович?
– Да, да. Почти.
Воздержаться бы от этого "почти".
В три часа вытряхнул урны и ушел домой. Просил Аню, чтобы посидела подольше – в воскресенье заберу остальные бумажки...
С трепетом, иначе не скажешь, раскладывал и пересчитывал бюллетени, сразу, как пришел домой, не пообедав.
Из сорока двух только один признал меня несоответствующим "по личным и деловым качествам".
Правда, еще человек двадцать не успели проголосовать, их листочки заберем потом. Но не будет же среди них много минусов.
Счастливейшим днем была для меня та пятница... Что больше? Доверие ребят? Ожившая больная? Все-таки та женщина – больше. Так горько было ее терять.
Но если бы они проголосовали против, плохо было бы. Не вижу, в какую сторону нужно себя менять. Это я прикидывал, когда собирался проводить голосование. Во всем, что делаю в клинике, – к больным и сотрудникам, – нет никакого корыстного интереса. Неужели нет? Ты копни из подсознания, копни. Копал, не нашел. Может быть, эгоизм лежит еще глубже?
Да, к больным отношение изменить не могу, просто нечего менять. Но с врачами можно бы поделикатнее. Так же, по существу, но без грубостей. (Без этих словечек: "идиот", "бездарность". Правда, такое говорю только при стрессах, при операциях. А как же быть, если нормальные слова не понимают, если не вкладывают всей души? Нет, не будем оправдываться, плохо ведешь себя, Амосов. Ты даже не пробовал деликатного, но твердого обращения, какое, например, было у Петра Андреевича Куприянова...)
Наверное, уже нельзя измениться. Впрочем, подумаем.
Был в клинике, сделал обход в реанимации – больные и "именинница" в порядке. Выбрал из ящиков остальные бюллетени и быстро пересмотрел. Еще один товарищ дал мне минус по личным качествам. Итого – два из шестидесяти двух. В прошлые годы было по пять-шесть.
Совсем неплохо: вотум доверия, право руководить клиникой.
Конечно, я быстро прикинул оценки у других заведующих отделами. Они разные, разглашать не могу. Однако нет таких плохих, чтобы требовали решительных действий.
Пока печатал все это, удовольствие погасло. Устал, что ли? Десять страниц одним духом... Или выскажешь – чувство – и нет его?
Да, еще немного: вчера у дочки был день рождения. 25 лет – важное событие.
В молодости и зрелости никакого пристрастия к детям не имел, скорее, наоборот, раздражался. Возможно, потому, что вырос один. В первом браке не было детей, и во втором не торопились. Поженились на войне. Прожили спокойно двенадцать лет, так нет – Лиде захотелось дочку. Вынь да положь. Ей было уже тридцать пять, училась на врача, хотя имела диплом педагога. Беременность протекала тяжело, она вела себя героически. Когда время приблизилось, развилась эклампсия (поражение почек и гипертония). Профессор Александр Юдимович Лурье сказал, что надо вызывать роды досрочно. Возникли всякие трудности. Утром нужно было решать: или делать кесарево с риском получить перитонит, или потерять ребенка. Она не колебалась: "С любым риском, чтобы была дочка". Операцию Александр Юдимович сделал блестяще за двадцать минут. Дитя сначала не дышало, его хлопали и обливали, хирург ругался, потом пискнуло. Мать (операцию делали под местной анестезией) все спрашивала, как там. Когда живот зашили, меня позвали посмотреть.
Этот момент никогда не забуду.
Лежало нечто маленькое (1800 граммов), красненькое и делало странные движения губами, будто облизывалось. Тут у меня внутри как бы открылся какой-то кран, источник. С этого началось самое большое чувство, которое испытал. Чисто биологическое, конечно. Память о нем уже начала тускнеть, но знаю, что дочка дала мне столько приятного, сколько не получал ни от чего другого. Лучше помолчу, чтобы не впасть в сантименты. К сожалению, по мере ее взросления чувства менялись. Но и теперь осталось понимание ее существа, хотя и неполное одобрение. Впрочем, жаловаться грех – хорошая дочка.