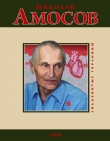Текст книги "Книга о счастье и несчастьях. Дневник с воспоминаниями и отступлениями. Книга первая."
Автор книги: Николай Амосов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 20 страниц)
Николай Михайлович Амосов.
Книга о счастье и несчастьях. Книга первая.
(Дневник с воспоминаниями и отступлениями)
Книга первая.
Тема смерти сильнее темы любви.
Я начинаю эту новую книгу о своей жизни в четыре утра. Давно кручусь в постели, принял снотворное – бесполезно, не уснуть.
Повод, что лишает сна, – обычный: плохо с больной после вчерашней операции. С трудом удерживаюсь, чтобы не позвонить в клинику, знаю, нельзя без конца держать дежурных в реанимации. А еще боюсь: скажут – "умерла".
Итак, вот она: сельская учительница, тридцати лет, уже полгода не может работать. Потеряла надежду.
– Опасно, очень. Надо вшивать два искусственных клапана.
Губы поджаты, вся напряжена. Решилась бороться с судьбой.
– Делайте. Чувствую, если отложить, уже не вынесу. Надеюсь на вас.
Она на меня надеется... Если бы я сам был уверен.
– Вызывайте родных. Операция через три дня, в четверг.
Знаю о ее жизни, сколько необходимо для решения. Не больше. Нельзя прикасаться к душе до операции. Пусть остаются в отдалении и ее дети, и муж, и больной отец, и класс ребятишек, что покинула после зимних каникул, когда уж не смогла работать. Это все потом... если... Если бы!
Сейчас для меня хватит истории болезни: "Недостаточность аортального клапана, сужение и недостаточность митрального, его большое обызвествление. Плотная печень почти до пупка, несмотря на мочегонные и три месяца лечения в терапевтическом отделении. Одышка, даже в покое". А она бодрится:
– Я еще крепкая, вы не бойтесь; Еще стираю сама, правда, уже только сидя.
На рентгеновском снимке: сердце сильно, увеличено, слева его тень почти достигает ребер. Специальное исследование подтвердило диагноз и указало на низкие резервы сердечной мышцы. Но еще допустимые для операции.
Это все в прошлом. Пишу, чтобы отвлечься. Стучат непрерывно в голове разные "почему?". Почему высокое венозное давление, почему нет мочи, почему не просыпается... Лариса (дежурная в реанимации) говорит: "Сердечная слабость". Но почему?' Всегда это меня мучает: почему до операции сердце как-то справлялось, имея пороки трех клапанов, а теперь, когда они устранены, – слабость?
Не надо притворяться. Ты же знаешь, что не смог наладить физиологических исследований, способных ответить на "почему". Есть примеры в других клиниках, у них результаты лучше...
Пять часов. Скоро вставать.
Операция прошла хорошо. Вся бригада была на высоте: ассистенты делали то, что нужно, не меньше и не больше. Это важно, чтобы не больше. Операционная сестра Любочка Веселовская помогала отточено четко. (Мне всегда приятно чувствовать ее своим правым локтем.) Только анестезиолог не внушал доверия – очень самоуверен. На АИКе – Витя Максименко, знает свое дело, диссертацию пишет...
Кроме тех двух пороков, что ждали, оказался еще третий – сужение и недостаточность трехстворчатого клапана. Он исправляется легко. (Именно я придумал метод. Отличный. Это для самоутверждения говорю.) Заменили протезами два клапана – аортальный и митральный. Клапаны с обшитым седлом, чтобы не образовывались тромбы, – тоже мое изобретение. Машина, АИК (аппарат искусственного кровообращения), работала сто пять минут – немного.
Все сделали без малейших погрешностей. Так почему же плохо закончилось?
Ассистенты зашивали рану, когда уходил. Венозное давление – 120, моча начала капать... А когда пришел через час в реанимацию проверить, оказалось, не вывезли еще. Артериальное давление низкое, венозное высокое, мочи нет, признаков просыпания нет... Самонадеянный анестезиолог таки подвел: не позвал... Делать все за всех сам не в состоянии. А жесткая мысль стегает: "Не доверяешь – сиди около больного. Или не оперируй..." Эти внутренние диалоги измучили меня. Все время спорят двойники...
Сейчас встают и встают картины вчерашнего дня.
Утром, перед тем как взять больную в операционную, пригласил родных. Жестокая реальность: больной умирает, а родственники остаются. Они должны знать то, чего нельзя сказать самому больному, нельзя его убивать правдой.
(...Если бы родные отказались от операции, как было бы сейчас хорошо. Спал бы ночь и пошел в клинику веселый...)
Хирурги любят делать сложные операции, даже рискованные. В этом прелесть профессии. В разговорах с больными и родственниками могут подсознательно подтолкнуть их на решение в пользу операции. Я всю жизнь боюсь этого и смотрю за собой строго: только в интересах больного. Нет, нет, не грешен. (Ты уверен? Да.)
Но разговоры перед операцией всегда тягостны.
Вошли трое. Впереди сухая пожилая женщина в старомодном жакете с медалью Героя Труда, за ней – двое мужчин, по лицам и одежде – работают в поле.
– Я тетя. А это муж больной и брат...
Смотрят с недоверием, и мне нехорошо. "Возьмите ее и оставьте меня в покое". Но сколько она проживет без операции, по-честному?
Да, нужно заменить два клапана. Без этого проживет, возможно, года два, при хороших условиях. Но будет все хуже, а операция станет невозможна. (Да, невозможна.)
После операции, если все благополучно, будет чувствовать себя... скажем, вполне удовлетворительно и даже работать сможет. К сожалению, операция очень опасна. (Объясняю, почему.)
На лицах растерянность. А чего ждать еще? Ты ведь и сам не уверен. Нет, не то слово: я вполне уверен, не допущу ошибок, но есть другие участники и природа...
Мне уже жалко родных. Что они могут решить, если ничего не знают? Только полное доверие к врачу, " не запятнанное сомнениями в его порядочности. Бывают и такие реплики: "Вам бы только практиковаться..." Это значит – получать удовольствие от операции. (Нет, не у меня.) Поэтому не сказал слова, которые уже были на языке: "Сомневаетесь, лучше возьмите ее домой".
Давно изучаю природу человека: есть гипотезы, есть наблюдения, есть литература. (Возможно, напишу об этом.) Не заблуждаюсь, не идеализирую. Но люди, которые привозят своих родных на смертельно опасные операции, вызывают у меня острую жалость. И еще стыд. Стыд за свою профессию, за себя, что не могу не только спасти всех, но даже точно рассчитать, можно или нет оперировать. Каждый четвертый умирает при протезировании клапанов, при тетраде Фалло (сужение входа в легочную артерию, а также дефект межжелудочковой перегородки) – разве это допустимо?
Все это настолько мучительно, что вот уже пятнадцать лет собираюсь бросить хирургию и целиком переключиться на кибернетику.
– Вот, я вам все сказал... Смотрите сами... – Мужчина, тот, что помоложе, хочет что-то сказать. Неужели опять будут добиваться гарантий?
– Вы знаете... У нас ведь еще горе... Позавчера умер отец... Поехали сюда, а покойник на столе. Сердце.
Вот тебе на! Сегодня у вас может быть второй. Очень может быть. Как же они, несчастные, это перенесут?
Первое движение:
– Отменим!
– Нет, нет, не надо! Мы ей не сказали... Если узнает, то уже и не решится... И что же тогда? Помирать?
Может, и лучше, если не решится... Как оперировать при таких обстоятельствах? Но и они правы. Отменить, сказать – тяжело. Не говорить – долго ли утаишь? Кроме того, она уже настроилась... Конечно, лучше оперировать сейчас. Но мне...
– Хорошо. Если вы так решаете – будем оперировать. До трех часов никаких известий не ждите, а потом, пожалуйста, кто-нибудь будьте здесь. Все может быть... К сожалению...
Нет во мне умения говорить жалостливые слова, бодрить. А кто пожалеет меня? Они ведь почти уверены в успехе. Люди вообще настроены на оптимизм. Или так уже верят нам? "Раз берется, значит, знает", – наверное, думают.
Они ушли, а я все сидел без всяких мыслей минут десять, подавленный.
Потом ходил по клинике, зашел в реанимацию – проведал больную, что оперировал позавчера. Тоже было не мед, старая толстая женщина с тяжелым пороком.
Слава богу, она ничего. Даже веселая. Иначе... А что "иначе"? Не снимешь же больную со стола, когда, наверное, уже сделан кожный разрез? Не скажешь: "Не будем оперировать. Нервы не позволяют".
Вошел в операционную – операция уже шла.
– Ребята, пожалуйста, будьте осторожны.
Рассказал обстоятельства. Промолчали. Что тут скажешь? "Клянемся"?
Родственники обступили, когда выходил из операционной. Рассказал им об операции, что было три порока, вшил два клапана, что все прошло как будто ничего.
– Спасибо, спасибо...
– Это вы подождите. Много еще опасностей впереди. Еще не проснулась.
Дальнейшее уже написал. Да и время вставать – шесть часов. Одеваться, бегать, делать гимнастику. Туалет, еда... Жизнь продолжается.
В тот же день вечером.
Чуда не произошло. Бог меня не любит. И тех несчастных тоже. Утром, когда писал, где-то в глубине – маленькая свечечка надежды: "А вдруг проснулась?" Такое бывало.
В вестибюле, когда проходил в кабинет, видел врачей из реанимации – не спрашивал: "Как там?" Зачем? Сейчас расскажут на конференции. Не нужно суетиться. Смерть не любит суеты.
Обычная утренняя конференция. Сегодня не будет операций – пятница, день рефератов, докладов, обходы, мои и заведующих, клинические разборы.
Хирурги доложили о вчерашних своих операциях. Коротко, сухо, критично. Так заведено.
И я о своей рассказал, с привходящими обстоятельствами. Упрекнул анестезиолога, но не очень – нет уверенности, что он сплоховал.
Доклад дежурного был излишне оптимистичен: будто бы артериальное давление повысилось, и венозное снизилось, и моча пошла. Только вот признаков сознания нет. (Может, еще не все потеряно?)
Когда пришел после конференции в палату; сразу увидел: худо.
Лицо отечное, бледное. (А волосы, волосы, оказывается, ярко-рыжие, редкого на Украине цвета...)
Наташа Воробьева, старшая сегодня в реанимационном зале, сообщает:
– Давление удерживается только на больших дозах лекарств, мочи с восьми утра нет, анализы очень плохие. Мозговая кома.
Нет у меня в запасе чудодейственных средств. Огромный опыт говорит: все! Искусственное дыхание и лекарства, может быть, протянут агонию еще на несколько часов. Это тоже нужно. Легче, когда надежды у родных угасают постепенно.
Неужели им сразу хоронить двоих?
Хотелось бросить все и идти домой. Но не пошел. Побрел в отделение к Якову Абрамовичу, (Яше, иногда заочно даже Яшке), чтобы выбрать больных для операций на следующую неделю. Отделение формально называется "реабилитация", поскольку предназначено для долечивания оперированных и восстановления их трудоспособности. Здесь делают эту работу в меру сил, имеют пригородный санаторий (физкультура и даже психотерапия). 'Но основной профиль – лечение больных, поступающих повторно с декомпенсацией после ранее сделанных операций. Вроде бы это терапевтическое отделение нашей клиники, но половина нуждается в повторных операциях. Так и собираются здесь самые тяжелые больные.
Есть в отделении два хирурга – Коля Доценко и Сережа Диденко. Они делают "закрытые" комиссуротомии (расширение сращенных створок митрального клапана), а я протезирую клапаны. Конечно, это самые сложные операции.
Больных на операцию выбрал с тяжелым сердцем.
Уходил из клиники через двор. Родственники в кабинет не приходили, наверное, лежащие врачи все рассказали. Спасибо им.
Больная умерла в ночь на субботу. Было вскрытие. Патологоанатом показал сердце в понедельник на утренней конференции. Все было сделано правильно. Причина: сердечная недостаточность, плохая сердечная мышца. Вес сердца втрое превышал нормальный. Можешь успокоиться. Виновата только болезнь.
Есть у меня дневник. Не так, чтобы регулярно, а отдельные дни записаны. Большей частью несчастные. Мало записей. За последние тринадцать лет набралось всего полторы общие тетради. Заглянул в него после этой смерти – и страх меня обуял: ничего не меняется. Приведу одну только запись – со счастливым концом. Без исправления стиля:
30.XI.68, пятница. За вчера. Операция: женщина, лет 35, повторно. 1-й раз – 3 года назад митральный + трехстворчатый стеноз, комиссуротомии. Рецидив. Теперь предполагали исправлять два клапана. Кнышов открывал грудь. Прочные спайки, слева, где был раньше разрез, отделить от легкого не удалось. Правое предсердие очень напряжено. Начато искусственное кровообращение. Разрез правого предсердия. Осмотр: стеноз и недостаточность трехстворчатого клапана. Разрез межпредсердной перегородки: левое предсердие небольшое, митральный клапан почти не виден. Ощупью. Отверстие – 3 на 1,5 сантиметра. Кальциноз резчайший. Страх: как вшивать протез клапана? Начал удалять по кусочкам створки с кальцием. Минут через 30 слышу возню около АИКа. Леонард: "Уменьшайте производительность, посылайте за кровью". "Н.М. – вшивайте только один клапан!" Спешить не мог: при искусственном кровообращении скорость всегда на пределе. Иссек, провел швы через клапанное кольцо (остатки его с кальцием еще). Стал сажать клапан. Посадил, стал завязывать узлы. Когда кончил – вижу: оплетка (манжета) оторвалась от каркаса. Нужно перешивать другой. Кошмар! Вшивал другой. Около АИКа все время возня. Уже знаю, что порвалась трубка насоса. Сделал пластику трехстворчатого клапана. Конец. Оставили АИК – вытекло 4,5 литра крови. Дыра (щель) в трубке насоса – 15 миллиметров. Производительность снижали до 1,3 литра против 3.
И – ничего! Проснулась, к ночи все нормализовалось. Сегодня: билирубин 8, гемоглобин упал с 80 до 40 процентов. Использовали 17 ампул крови, сестры и родственники давали свою, чтобы свежая.
Но сколько все пережили! Розана – особенно. Сегодня отошла, улыбается. Уверяет: каждый раз осматривает трубки. Поди знай?
В 17 часов в тот же день заседали у министра по поводу дополнительных штатов для пересадки сердца. Представитель от Кириллина, товарищ из аппарата.
Есть надежда, что дадут. Я готов на все, лишь бы получить штаты для дела. Товарищ просил, чтобы пересадка сердца в бумагах по возможности не упоминалась. У министра угощали кофе и бутербродами с красной икрой. Я не дождался приглашения – схватил и съел кусок. Голоден к вечеру как волк. Кончилось в 19.30.
2.XII. Понедельник. В ночь на сегодня больной (Люба ее зовут) было плохо. Вызывали, ходил. Мокрота. Интубировали, держали трубку до 5 утра. Днем смотрел: слабая, голос хриплый. Трахеобронхит. Сделали "влажную комнату". Не знаю. Оказывается: страстно хотела операции, чтобы жить.
Был депутатский прием сегодня. Квартиры. Много несчастных. Трудное для меня это дело – приемы, каждый понедельник.
Потом Лена Николаевна Леон и я составляли проект штатов – получилось очень много – 30 человек. Не дадут столько. Все меня толкают: "Запрашивайте больше, все равно урежут". Не нравится такое завышение, но сдался.
Завтра тетрада Фалло после анастомоза (соустье между легочной артерией и аортой), повторная операция. Боюсь. Принять снотворное.
Так он выглядит, мой дневник. Самовыражение. Писал, когда хирургия допекала.
И это длится всю жизнь. Почти всю, с тех пор как стал хирургом, – свыше сорока лет. Правда, вначале было довольно спокойно: год в аспирантуре, год ординатором в Череповце. А потом война, ведущий хирург полевого госпиталя, потом областной хирург в Брянске и с 52-го года – эта самая клиника. От войны остались записи, через четверть века они изданы в "Записках военного хирурга". Там всего полно. Нет, не обстрелов, бомбежек, немецких атак или голода, а тех же операций, смертей, горечи ошибок и беспомощности. Летом 62-го после одного несчастного дня я написал "Мысли и сердце". (Тогда мы только начинали искусственное кровообращение.) Обе книги не годятся для развлечения... Эта – тоже.
Возможно, постороннему покажутся однообразными эти "случаи" кровотечений, закупорок бронхов, сердечных слабостей, мозговых эмболии, внезапных фибрилляций сердца, отказов АИКа, поломок дыхательных аппаратов, инфарктов, кровоизлияний в мозг, пневмоний и просто внезапных необъяснимых смертей. Тягостных разговоров с родственниками. Однообразие? Нет-нет. Нет! Для меня все случаи разные. Одинаково только одно: чувство вины при смертельных исходах.
Свыше шестисот умерших после операций, подобных приведенной. Две-три тысячи часов напряжения. Ночи до и после. Дни осложнений от операции до смерти. Это все – мое. А горе их – матерей, жен, отцов. Горе, в котором я присутствую. Во сколько раз оно больше? Оно же не скрасилось спасенными жизнями других больных и счастьем других матерей.
Начало августа. Жара, отпуск. Не настоящий, уже много лет не беру отпуск "одним куском". Неделю оперирую, неделю сижу дома, что-нибудь пишу. На курорты не езжу. Только дважды был в санаториях: в 48-м и 67-м.
Тоска меня донимает в длинный отпуск.
Самое время сделать перерыв: последние две недели были хорошими. Поэтому никто не лежит в реанимации или с нагноением.
До чего же легко, приятно, когда не умирают! Каждую неделю делал по четыре операции, и все сложные. Миша Зикьковский в отпуске, поэтому выбор детей с врожденными пороками. Мои молодые доктора наук, заведующие отделениями сильно завистливые на операции, а власть использовать не хочется. Но использую, когда нужно. Пока.
Все-таки непередаваемое ощущение могущества у хирурга, когда он делает сложную операцию при болезни абсолютно смертельной... Прямо бог!
Мальчонка, прозрачный, тощий заморыш, восьми лет, весит двадцать девять килограммов, сердце очень большое, декомпенсация. Диагноз: "Полный аномальный дренаж легочных вен". У него все легочные вены собираются в отдельный коллектор и впадают в верхнюю полую вену вместо левого предсердия. Левое сердце, а, следовательно, и все тело, получает совсем мало крови через отверстие в межпредсердной перегородке. Поэтому мальчик и не растет. Нужно сделать сложную реконструкцию. При этом нигде не создать препятствий, и прекращать искусственное кровообращение так, чтобы не перегрузить ослабленный от бездействия левый желудочек... И чтобы воздух не остался в полостях сердца и не попал в мозг. И чтобы недолго машина работала, иначе повреждаются белки плазмы и тромбоциты и кровь не свертывается...
Ладно, не будем увлекаться деталями. Приятно было, когда он открыл глаза и выполнил инструкции: "Пошевели пальчиками правой руки! Левой! Подвигай правой ножкой, левой... Теперь спи!"
И матери сказать приятно: "Пока все нормально". Пока... Но еще много впереди. (Сидела сжавшаяся, маленькая, худенькая, немолодая уже, седая.)
Еще приятнее, когда вечером сказали: "Сознание полное, гемодинамика (кровообращение) и анализы в порядке". А утром на обходе увидел его уже без трубки, уже просит кефира...
Мне так хочется перечислить все эти восемь операций с техническими подробностями и чувствами, что тогда испытывал, но устою.
(Не нужно, старик, задаваться. Ничего экстраординарного не было. Обычные клапаны, обычные тетрады, триады и пластики межжелудочковых перегородок. Не простые, что для ассистентов, но и не высший пилотаж повторных многоклапанных протезирований на умирающих... Не надо!)
Шестьдесят семь – серьезная цифра для сердечного хирурга. Знаю всего несколько имен в мире. Поэтому все время смотрю за собой. "Как?" Не вижу разницы с тем, что было двадцать и тридцать лет назад. Думаю, что работаю даже лучше. Отбросим "лучше", хватит и "не хуже". Беда в том, что никто тебе не скажет правды, да и не может. В оценке любого технического мастерства присутствует психологическая установка – как "должно быть": плохо должно быть у молодого и неопытного и у старого – у него уже руки дрожат. Так оценивают'. Поэтому приходится искать свои критерии. Объективные и независимые, чтобы без предвзятости. Они есть: частота технических ошибок, быстрота и конечные результаты. Все в зависимости от сложности операций и тяжести больных. У нас в клинике налажен строгий учет по всем показателям. В списках операций на каждый день проставляется степень риска – от тяжести больного. Название указывает на ее сложность, длительность искусственного кровообращения – на быстроту, кровопотеря или осложнения – на ошибки. В случаях смерти заполняется специальная карточка, где детализируются ошибки участников – результат обсуждения на конференции после вскрытия. В конце года подводятся общие и персональные итоги. Они обсуждаются публично. Видите, как все четко. За исключением одного: диктатуры. Руководитель крупной хирургической клиники – всегда диктатор. Если он размазня, то и клиники нет. Единоначалие и дисциплина, – как на войне.
Поэтому я могу объективно критиковать подчиненных и выставлять им всякие баллы. Если мой тон категоричен, то никто и не возразит. Пошепчутся, понегодуют – и все. И о смерти своего больного могу сказать: болезнь или помощники виноваты. Но беда в том, что я вполне могу остаться в убеждении, что все правильно, а я такой хороший. Природа человеческая коварна. Важно не пропустить опасной границы.
Поэтому, кроме честной самокритики (критики снизу ожидать нельзя), заведен у меня еще один метод контроля.
Он называется примитивно. "Голосование". Прямое, тайное и равное.
Суть вот в чем. Аня, мой секретарь, печатает бюллетени. В столбце перечислены заведующие отделениями и лабораториями, всего двенадцать. Нужно оценить их соответствие с должностью, "по личным качествам" и "по рабочим". Против каждой фамилии голосующий может поставить оценку, "да" (значит "плюс"), "нет" ("минус") и "ноль" ("не знаю", "не могу оценить"). На утренней конференции без предупреждения раздают бюллетени всем врачам и научным сотрудникам, их у нас около семидесяти. Объясняю правила процедуры.
– Тайна гарантируется. Результаты объявляться не будут. Каждый заинтересованный может подойти ко мне и спросить, как его оценили. Если хочет.
Проголосовать нужно в течение дня, обдумывать не спеша. Ящик, заклеенный пластырем, стоит в приемной.
Каждый раз я с трепетом перебираю листочки и считаю свои плюсы, минусы и нули... И первый, и второй, и третий годы.
До сих пор каждый раз вздыхал с облегчением: пронесло!
В самом деле, у меня устойчивые хорошие показатели. По деловым качествам – два-три минуса, по личным – пять-семь. Пять или десять процентов осуждающих или даже ненавидящих – это совсем немного. Учтите мое диктаторское положение: требовать без всяких скидок и не всегда деликатно. (Очень рекомендую голосование всем руководителям. Надежная обратная связь. И безопасная: можно умолчать о результатах.)
А прошлый, 1979 год, прошел совсем прилично. Впервые в жизни у меня не было ни одной смертельной хирургической ошибки. Не было кровотечений, прорезывания швов, неправильно подобранных клапанов, требовавших перешивания, и прочее.
Такое длинное получилось отступление. Ничего не сделаешь. Операции на сердце – это тебе не общее руководство.
Красные гладиолусы стоят на каминной доске. (Камин, правда, электрический.) В пятницу приходили молодые супруги – "клапанщики". У мужа – два клапана, у жены – митральный. Уже шесть лет прошло. Познакомились в клинике, женились после санатория, ребенку четыре года. Приезжали на проверку. Не скажу, что выглядят блестяще. Тощие. У него печень прощупывается – нет полной компенсации. Живут бедно. Работает только жена, но родители помогают.
Смотрел на рентгене. У парня сердце большое, ненадежное, у нее – лучше.
– Хотим еще ребенка... Можно?
Такие вопросы слышу часто. Они меня смущают и даже раздражают. Люди очень легкомысленны.
– Неужели вам мало одного? Вот случится эмболия или что-нибудь с клапаном... Вы же знаете, что это бывает. Кто вырастит сына или дочку?
– Николай Михайлович! Не бойтесь за нас, все хорошо... А если что... у Юры папа и мама молодые.
– Нет, не советую. Просто нельзя! Смущается.
– А если уже?.. Что же – аборт?
– Так бы и говорили... Да, аборт.
Опечалены. Не уверен, что послушаются. Просили путевки в санаторий. Хорошие ребята, нужно поддержать. Фотографию подарили, с мальчиком.
Нет у меня покоя в душе за них и за ребенка. А тут еще второго хотят... Надо бы сказать: "Дураки!", но не поворачивается язык, как вспомню их открытые лица... В год умирают 3 процента из числа живущих с клапанами. Еще у 4 процентов возникают эмболии в мозг. Все это им известно. "Клапанщики" – как особое братство, общаются, встречаются, переписываются. При таких условиях каждый день – подарок судьбы...
Лет пятнадцать назад я вел весь амбулаторный прием. Принимал по понедельникам до ста человек. Новые и повторные – все проходили через меня, был прямой контакт с массой больных – со страдающими, обреченными, полными горя и страха. Но рядом те, что проходили проверку: выросшие дети, вернувшиеся на работу мужчины, женщины, показывающие карточки детей, рожденных после операции... Это сильно помогало переносить неудачи.
Теперь клиника разрослась неимоверно. Более двух тысяч операций в год. Через поликлинику идут почти тридцать тысяч. Я уже давно не веду прием, забрался на вершину пирамиды из ординаторов, научных сотрудников, заведующих отделениями... Мало кто ко мне пробивается. Не потому, что отказываю, а сложился миф: "Сам академик". Стесняются. А жаль. Мало положительных эмоций.
Умом я знаю, сосчитано, что сам сделал около семи тысяч операций (без войны). Из них тысячи четыре на сердце, три с половиной – с АИКом, с искусственным кровообращением, самые сложные из общего числа почти в 30 000, выполненных в клинике всеми хирургами. Это целый небольшой городок людей, которые работают, радуются жизни, детям, а были бы давно покойниками. Это, без всяких литературных штучек, примерно 28000 жизней, на которые я имею некоторые права. (Да, права, потому что все хирурги обучены мной, все оперируют по моим методикам, некоторые уже во втором поколении...) Мы даже подсчитали экономический эффект работы клиники: сколько спасенные нами люди дают в национальный доход страны. Получилось очень много – около шести миллионов в год. Затраты на саму клинику – около двух.
Довольно. У меня отпуск. Неделю я могу не думать о клинике, о хирургии, о своей работе.
А что делать? О чем думать?
Буду писать книгу, что была начата в четыре утра три недели назад. Буду сидеть по восемь часов и стучать на машинке, потому что не могу не делать этого. Потребность, которую нельзя разрядить на ближних через беседы: стыдно навязываться, им неинтересно. А тут машинка и бумага. Бессловесные.
Это будет книга о себе и о других, о жизни, хирургии и науке, о прошлом и будущем... Будет правда, только правда, но не вся правда. Всю пока нельзя доверить даже бумаге: я еще оперирую лучше молодого и собираюсь долго жить. Естественно, с людьми. Самовыражение через бумагу может дойти до них, и обратная связь убавит мой скромный уровень душевного комфорта – УДК. Поэтому кое-что я отложу до следующей (последней?) книги, когда обратная связь уже не сможет меня догнать.
(Друг мой, ты пишешь такими дешевыми сентенциями, что просто стыдно. Давай не лукавить: самовыражение – это конечно, но ведь подумываешь и напечатать ее, эту книгу?)
Подумываю. Уже испорчен вниманием общества, отравлен известностью. Но не совсем. Даже без надежды – все равно бы писал.
Определим содержание. На случай, если будут читатели, чтобы знали наперед и не ожидали того, чего нет: романтики.
Воспоминания.
Родные и особенно друзья. Увы, почти все умерли. Пантеон. Любовь? Чуть-чуть, давняя и в самых безопасных пределах.
Путешествия. Собаки. Книги.
События. Смерти. Сопротивление старости. И целый набор наук, все больше с позиций дилетанта. Кибернетика. Психология. Интеллект естественный и искусственный. Немножко об обществе, в пределах разумного.
Больше всего о человеке. Это тот предмет, который занимает меня всю жизнь.
И еще что-нибудь другое.
Впрочем, плана никакого нет – все будет вперемешку. Трудно удержаться, чтобы не заносило, да и нужно ли?
Жаль, что не чувствую в себе литературного таланта. По-моему, он выражается в способности образно видеть детали и находить слова для мыслей и чувств. Главным образом чувств, оригинальные мысли приходят так редко. Насчет чувств и слов особенно меня трогают поэты. Ну что ж. Чего у меня нет, того нет. Притязания скромны: не блеск, а информация.
Итак, начнем.
Но сначала нужно познакомиться с "объектом", то есть клиникой.
У нас три дома. Новый шестиэтажный корпус, построен пять лет назад; старый, реконструированный четырехэтажный – служит уже четверть века, и есть еще старая операционная – ей десять лет.
Опишу коротко дислокацию, структуру и перечислю тех, кто будет часто встречаться в записках.
Новый дом. Шестой этаж. Приобретенные пороки сердца и блокады. Заведующий – доктор медицинских наук Леонид Лукич Ситар. (Ему нет еще сорока, для меня – Леня.)
Пятый этаж. Приобретенные пороки и коронарная болезнь. Заведующий – Геннадий Васильевич Кнышев, доктор наук. Он же самый главный у нас начальник – заместитель директора. (Моя должность – неофициальная, "руководитель".) Заместитель – Вася Урсуленко. Четвертый этаж. Отделение врожденных пороков сердца, старший возраст. Заведует Михаил Францевич Зиньковский (Миша), доктор наук, пришел в клинику еще студентом, больше двадцати лет назад. Помощники его – Сережа Декуха и Петя Игнатов, оба кандидаты, "старшие научники".
Третий этаж. Маленькие дети с врожденными пороками сердца. Самый молодой заведующий – кандидат наук Александр Степанович Валько. Старшим у него Толя Терещенко. В их же ведении находятся больные с гнойными осложнениями, лежат в отдельном отсеке. Главный доктор над ними – Анна Васильевна Малахова. Она работает со мной с 43-го, с полевого госпиталя. (Несчастная, сколько лет меня терпит!)
Второй этаж. Реанимация, средоточие наших бед, страстей и радостей. Здесь лежат больные после операций – от двух дней и дольше, в зависимости от тяжести течения и осложнений. (Тут я бываю каждый день, и не по разу.) Заведует им Миша Атаманюк, прошлый год защитил докторскую диссертацию, хирург. Секретарь нашей парторганизации. Помощники у него по обязанностям не очень четко делятся на старших и младших. Но все же: кандидаты – Саша Веднев и Наташа Воробьева, будущие кандидаты – Света Петрова, Витя Кривенький, Андрей Говенко. Врачи – Люба, Лариса, Володя...
На этом же этаже, в отдельном крыле, – кабинеты и комнаты для врачей двух важных служб – анестезиологии и искусственного кровообращения. Наш главный анестезиолог – профессор Циганий Алексей Александрович (для меня пока еще Алеша). Его главный помощник – Олег Малиновский, кандидат наук. Анестезиологов у нас много – доходит до двадцати.
Лаборатория искусственного кровообращения. Возглавляет ее Витя Максименко, молодой врач, кандидат в кандидаты. В штате лаборатории есть заслуженные работники, к примеру, Розана Давыдовна Габович (просто Розана). Работает со мной уже больше двадцати пяти лет, или Дина Моисеевна Эппель на АИКе – восемнадцать лет.
На первом этаже в главном здании – лаборатории, диагностические кабинеты. Есть старые кадры – Нелли Дмитриевна, Фаина Африкановна, Валя Гурандо. Здесь же кибернетика с вычислительными машинами. Главный – Озар Петрович Минцер, тоже доктор наук. Еще конференц-зал, приемный покой...