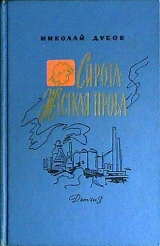
Текст книги "Жесткая проба"
Автор книги: Николай Дубов
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
11
Больше всего понимания и сочувствия Алексей надеялся найти у Вадима Васильевича, но тот, выслушав Алексея, пожал плечами.
– Гущин – не первый и не последний. Легкая слава многих соблазняет.
– Дело не в Витьке. Он же не сам объявил себя передовиком...
– А тут, милый друг Алексис, начинает действовать могучая сила – спекулянты чужой славой. Не имея собственных заслуг, они чужую пустяковину раздуют до сверхгероического, потому как отблеск этой славы падет на них и они смогут сказать: под нашим руководством, мы воспитали... Это все та же муха, которая пахала, и пашет она всё так же – словесами...
– Но ведь то вранье! С враньем ведь надо бороться, – сказал Алексей.
– Кланялся тебе дальний родственник...
– Какой? У меня нет родственников... Дядя Троша? Так он не родственник.
– Нет, не дядя Троша... Благородный идальго Дон-Кихот Ламанчский...
– Вам хорошо смеяться... А что мне делать?
– Не знаю, не знаю... Случай с Гущиным – нормальная, рядовая показуха. Если уж тебе так хочется с ней сражаться, попробуй обратиться к печати – сходи в редакцию газеты. А проще всего сделать, как тебе советовали: плюнуть и забыть. Впрочем, я уже старый барсук, не слушай меня, поступай как знаешь...
Возвращаясь в цех, Алексей смотрел под ноги и думал. Может, в самом деле плюнуть, и все? Что ему, действительно больше всех нужно? Но он знал, что плюнуть и забыть не сможет.
Дело в конце концов не в Викторе. Пускай он будет героем, Алексей первый будет рад. Но пусть он будет настоящим героем, а не... показухой! Ведь если мириться с одной такой, маленькой, появятся и другие, больше... У них в цехе, в других цехах, а там и по заводу, по другим заводам... Показуха в маленьком поведет за собой всё большую и большую. Как лавина... Алексей отчетливо увидел несущуюся лавину и вдруг испуганно отшатнулся – земля под ногами задрожала, в уши ударил обвальный грохот... В стороне многопудовая «баба» копра рухнула на искромсанную башню танка, она смялась, сплющилась, лопнула на сгибах.
Семь лет назад окончилась война, но ещё шел и шел сюда, на шихтовый двор, стекался из «котлов» и «плацдармов» ржавый, выжженный огнем урожай войны: изувеченные лафеты, развороченные орудийные стволы, скрюченные балки и рельсы, растерявшие траки, продырявленные, навсегда остановившиеся танки... И здесь копёр мял, крушил и окончательно уничтожал их останки.
Алексей постоял, посмотрел. «Баба» поднялась вверх и снова с громом рухнула.
Земля возвращала, выталкивала из себя враждебное жизни мертвое железо. Море не возвращало ничего. Где-то, быть может недалеко от города, глухой черной ночью последний раз взлетел на штормовую волну катер и в грохоте, пламени минного разрыва исчез навсегда. В дым и пыль, в ничто превратилась его команда и с ней моторист Иван Горбачев... Море поглотило всё в самой равнодушной и необъятной из братских могил. Над ней не стоят наспех, по-походному сделанные обелиски с побуревшими от времени и ржавчины когда-то красными звездами.
У моря нет памяти, на нем не остается шрамов. И то и другое удел людей. Не потрескавшийся старый ремень с позеленевшим якорем на пряжке, который Алексей до сих пор бережно хранил, связывал его с отцом. Эта связь так велика, что её нельзя выразить словами...
Люди врали и обманывали раньше, должно быть, всегда. Наверно, будут врать и потом... Если они не могут без этого, пусть врут в своём, мелком и личном. Но не в общем, не в большом. Не могут, не должны, не смеют!
В редакции заводской многотиражки «За металл» рабочий день кончился. В кабинете редактора уборщица, с грохотом передвигая стулья, подметала, в большой комнате сидел только Алов. Перед ним лежала зеленая папка. Алексей, увидев, что опоздал, попятился к выходу, но Алов поднял голову.
– А, Горбачев, привет! Входи, входи, не стесняйся.
К Горбачеву Алов относился хорошо. Статью о молодежном общежитии – Алов называл её очерком, – написанную со слов Горбачева, на «летучке» хвалили. Даже сам редактор сказал, что статья подходящая, «ставящая вопрос».
– Как жизнь? Как там у вас в общежитии?
– Ничего.
– Да проходи, чего ты стесняешься? Ты по делу или так?
– Поговорить хотел... Я – потом.
– Почему потом? Давай поговорим.
Алексей не хотел говорить с Аловым. Опять напишет ерунду, как в прошлый раз...
...Прошлый раз Алов застал Алексея в общежитии одного, ребята ушли во Дворец культуры. В приоткрытую дверь было слышно, как, шаркая, ходит по коридору тетя Даша, громко вздыхает и на что-то жалуется сама себе. Алексей устал после работы – это было в те первые недели, когда он один остался у плиты, – идти никуда не хотелось, книги под рукой не было, и он валялся на койке просто так: глядя в потолок, заново переживал незначительные, но тогда казавшиеся очень важными происшествия дня.
В комнату вошел длинноволосый желтоглазый парень, бегло огляделся и сел.
– Привет, – сказал он. – Я сотрудник заводской многотиражки Юрий Алов. Вы здесь один? А где остальные?
Алексей приподнялся, сел на койку.
– Ушли.
– Тогда побеседуем с вами... Как тебя зовут? Кем работаешь? – Алексей сказал. – Ну, как вы тут живете? Меня, собственно говоря, интересует жизнь в общежитии, так-скать, быт, культура и прочее...
Алексей рассказал всё начистоту, желтоглазый старательно записывал, потом сказал, чтобы Алексей следил за газетой, и ушел.
Через неделю Виктор положил перед ним на плиту номер газеты и прихлопнул ладонью:
– Во как тебя расписали...
Статья начиналась так:
«У входа в молодежное общежитие нас встретил высокий юноша с напористым, энергичным выражением лица. Это был недавний воспитанник трудовых резервов, теперь разметчик ремонтно-механического цеха А. Горбачев. Мы разговорились.
В задушевной беседе юный представитель рабочего класса поведал нам о своем житье-бытье, о том, как проводит наша молодежь время в общежитии, как неустанно работает над собой, повышает свой культурный уровень...»
Дальше, будто бы от имени Алексея, в статье говорилось, что в общежитии скучно, не проводятся беседы и лекции, нечем культурно развлечься: нет шашек и шахмат. В заключение автор добавлял от себя, что «АХО и завкому профсоюза не мешало бы проявлять больше заботы и теплоты о молодом поколении рабочего класса».
В общем, всё было правильно, но говорил Алексей совсем не то и не так, и ему было неловко, как-то даже стыдно читать те слова, которые Алов приписал ему.
Поначалу статья возымела действие. Дня через три комендант, он же завхоз Яков Лукич, выдал тете Даше занавески на окна, а сам принес и торжественно положил на стол складную шахматную доску, в которой побрякивали фигуры.
– Вот, – сказал. – Под вашу ответственность. В случае чего – пишите куда хотите... писатели сморкатые.
– Так это ж не мы, Як Лукич, – сказал Костя Поляков, – это из газеты... А он ещё, между прочим, писал, чтобы проявить побольше теплоты. Как бы уголька, Як Лукич, подкинуть, а?
– У меня не Донбасс, а норма – два ведра в сутки. Не расхлебянивайте дверь, вот и тепло будет.
Ещё через день прислали лектора. Яков Лукич собственноручно открыл запертый всегда красный уголок. Долго ожидали, пока соберутся. Лектор стоял в коридоре и курил, отмахивая рукой дым ото рта. Собралось человек двадцать, почти одни девушки. Ребята заранее сбежали во Дворец культуры: там тоже была лекция, но после неё обещали показать кинофильм, и все надеялись, что будет четвертая серия «Тарзана».
– Что ж, начнем, – сказал лектор и прошел к столу. – Тема моей лекции – «Было ли начало и будет ли конец мира». Итак, приступим...
Он вынул тетрадку, поднес к глазам и начал читать.
Девушки томились. Их совершенно не интересовало начало мира, и по молодости они были твердо убеждены, что никакого конца его быть не может. Они собирались идти на танцы, а тут позвали на лекцию, отказаться было неудобно, а уйти посреди лекции ещё неудобнее. Они томились и шушукались.
В уголке подремывала тетя Даша. Слушать лекцию её не звали, но она должна была запереть уголок, когда всё кончится. Можно было бы попросить девчат, но они могли забыть, и тогда Яков Лукич, который каждое утро обходил пятиэтажку и лез во всякую щелку, долго бы срамил её, а потом повесил бы бумажку с «на вид». Бумажка пустяковая, а там кто её знает... Нет уж, лучше подальше от всяких бумажек! Лучше уж дождаться и самой запереть. Кроме портрета Сталина, стола и скамеек, в красном уголке ничего не было, никто бы этого не украл, а всё-таки береженого, говорят, и бог бережет...
Алов забежал в общежитие, удовлетворенно покивал, увидев занавески и шахматы, записал, какая была лекция. Потом в газете появилась заметка «По следам наших выступлений», в которой говорилось, что культурно-бытовое обслуживание в общежитии резко улучшилось, налаживается культурно-массовая воспитательная работа.
Лекций больше не было, и о них никто не тосковал. Мишка Горев нечаянно прожег папиросой дырку в занавеске. Яков Лукич заметил и приказал тете Даше убрать занавески в кладовую.
– Я – лицо материально ответственное, – в несчетный раз сказал он, – моё дело, чтобы вещь была в целости и сохранности... А на вас разве напасешься?
Никакой материальной ответственности он не нес; если вещь изнашивалась или ломалась, она актировалась и списывалась. Но Яков Лукич не мог видеть равнодушно никакой порчи или ущерба, и так как вещи лучше всего сохранялись в кладовой, он предпочитал оттуда их не выпускать. Обходились так? Ну и дальше обойдутся.
А потом запропастился черный король. Ребята слепили нового из хлеба и даже покрасили его, но Яков Лукич и тут углядел.
– Это что? – спросил он, тыкая пальцем.
– Король, Як Лукич...
– Самоделошный? А где казенный король?
– Закатился куда-то.
– Ага! – зловеще протянул Яков Лукич. – Закатился? Ну, всё! Королей я сам не делаю, короли денег стоят, – сгреб шахматные фигуры и унес.
Тем всё и кончилось, если не считать того, что ещё долгое время ребята донимали Алексея цитатами из статьи. Особенно изощрялся Костя Поляков.
– Слушай-ка, представитель молодого пополнения, поведай нам – нет ли у тебя трешки? А то, понимаешь, шибко охота поработать над собой, а на чекушку не хватает...
Или иногда, облокотившись о стол, он долго внимательно разглядывал Алексея и очень серьезно просил:
– Алеша, у меня к тебе большая просьба: сделай, пожалуйста, энергичное выражение лица... Только понапористей!
Алексей полушутя, полусерьезно тузил и Костю и других, но они только ржали, как жеребцы, и продолжали его поддразнивать, пока им самим не надоело...
...– Так в чем дело, молодой человек? – спросил Алов и спрятал зеленую папку в стол.
Алексей замялся. Этот Алов и теперь мог написать какую-нибудь чепуху... Но, в конце концов, он ведь написал тогда правду? Толку не было, верно. Но сейчас какой, собственно, нужен толк? Напишет правду – и всё. А больше ничего и не нужно. Все, и Витька, конечно, тоже, поймут, что это показуха и очковтирательство...
Слушая Алексея, Алов прикидывал. Конечно, можно бы сделать заметку о дутых передовиках. Тут Горбачев прав, такие есть... Но, во-первых, редактор ругался уже не один раз: «Хватит, понимаешь, этой критики! Надо поднимать дух, воспитывать на положительных примерах, а не критиканством заниматься!..» А во-вторых, в столе лежала зеленая папка. На обложке её каллиграфически была выведена надпись – «Опережая время» и подзаголовок – «Опыт передовика производства В. Гущина». Все листы в папке были ещё девственно чисты, но на них незримо было записано его, Юрия Алова, будущее: деньги, слава и, кто знает, может быть, Киев или даже Москва... И всё может обратиться в ничто из-за этого парня, на которого он не пожалел тогда в очерке своих лучших образов и мыслей...
– Так, так, молодой человек, – сказал Алов, выслушав Алексея. – Хорошо, что ты пришел ко мне... Сам я этого вопроса решить не могу, мы посоветуемся с редактором... А пока – желаю успеха!
Как только дверь за Алексеем закрылась, Алов снял телефонную трубку.
12
Алексей пришел раньше назначенного часа. Он всегда приходил раньше. Не потому, что боялся опоздать. Чтобы без помехи подумать. О ней он думает постоянно. Она во всём. В том, что он думает, говорит, делает. Если бы не было её, всё было бы иначе. Как? Неизвестно. Только совсем иначе. Но она есть. И самое важное, что она – есть. Всё другое тоже важно, но не так, по-особому. А она – всячески. Значит, вот это и есть любовь?
Почему он полюбил именно её? И именно теперь. Не теперь, уже давно – больше года, но все-таки... Раньше ведь не любил. Раньше она ему просто не нравилась. Была просто себе девчонка. Некрасивая девчонка. Угловатая, голенастая, рот большой... И как мальчишка. Сдачи могла дать кому угодно, ничего не боялась. Бояться-то она и сейчас ничего не боится. Только совсем переменилась. Очень красивая стала? Если разобраться, ничего особенного. Глаза? Они и тогда были большущие. И волосы так же поднимались волнистой шапкой. Ну, выше стала, выросла – дело же не в росте. Каким-то непонятным образом угловатость превратилась в стройность и... стремительность. Это что-то такое в лице, в глазах. Они будто всё время летят. Распахнуты навстречу всему. И летят...
Когда-то ему казалось, что лучше Аллы никого нет и быть не может. Смешно. Он её встретил как-то. Она его не узнала или притворилась, что не узнает. Он узнал сразу, хотя узнать нелегко. Дородная, просто толстая женщина. А когда-то была тоненькая, как тростинка. Лицо такое же красивое, пожалуй, ещё красивее. А дальше все поплыло, расползлось вширь, сквозь полупрозрачную блузку видны нависшие складки тела, как тесто, вылезающее из квашни. Кира говорила – она всегда всё знает обо всех, – что Алла техникума не кончила, вышла замуж. За преподавателя того же техникума. Должно быть, он и вел её тогда под руку. Щуплый, маленький. Похоже, что не вел, а держался за неё. Как маленькая лодка за баржой. А она не шла – плыла, толстая, самодовольная тетка...
Глядя на неё, он думал, что вот сейчас начнется то замирание сердца, которое он испытывал когда-то, издали следя взглядом за Аллой. Никакого замирания не было, сердце билось спокойно и ровно. Почему же раньше его бросало в жар, если она обращалась к нему? Потому что тогда она была тоненькая, а сейчас толстая? Какие мы всё-таки в детстве дураки. Не понимаем даже того, что видим. Она ведь и тогда была заносчивая и очень довольная собой девочка. И занята только собой. Но он тогда этого не понимал. Смотрел и смотрел на неё, как на икону, и все в ней казалось хорошим. Даже прекрасным. Он не видел её три года. И время начисто стерло давние волнения. Три года. Совсем другой мир, другая жизнь...
Может, так будет и с Наташей? Пройдет время, и он будет думать о ней совсем иначе? Нет! С Наташей – навсегда. С Наташей пришла любовь. Большая и настоящая. Та самая, ради которой совершают подвиги и делают преступления, о которой написано столько книг... Любовь, которая не умирает. Умирают люди, но не любовь. Тысячи лет назад жили люди, целые народы, которых теперь даже вовсе нет на земле. И у них была любовь. Была и есть. Всегда и всюду. И сейчас, может, тысячи, сотни тысяч людей вот так же, как он, сидят и ждут, что придет она...
И у всех это одинаково? Как было тысячу лет назад и будет тысячу лет спустя? И все говорят одно и то же, делают то же самое? И то, что происходит у Мишки Горева, к которому приходит Клавка, и ребята говорят вещи, от которых Клавка краснеет так, будто сейчас сгорит, а Мишка глупо и самодовольно ухмыляется, – это тоже любовь? Или то, на что намекает Витька, рассказывая о какой-то Нюське, тоже любовь? Тогда она была и у толстой, как афишная тумба, тети Лиды и злобного жулика дяди Троши? И у него будет так же и то же самое, что у них?
Нет! Совсем не то и не так, совсем иначе! А почему? Что он, такой особенный?.. Нет, он не особенный – обыкновенный. Но у него всё будет иначе. Не было, нет и не будет одинаково ни у кого. Это не может быть одинаково. Говорят, в мире нет двух одинаковых людей. Значит, не может быть и одинаковой любви. Любовь – это только слово, которым называют то, что бывает у людей. Но у всех и у каждого это бывает иначе, по-своему. И у него будет совсем иначе... Вот только трудно всё это сказать, назвать словами. Он читал порядочно книг и знает все слова, какие говорят о любви. Но эти слова не годятся. Они глухо брякают, как черепки. Они мёртвые. Потому что они – чужие. Чужими словами нельзя передать и объяснить своё. А какие же его? Где взять свои слова, чтобы объяснить Наташе всё? Он не может их найти. И потому молчит. То есть говорит будничное о будничном и молчит о главном. Но больше молчать нельзя. Наташа уезжает. Он должен сказать, и всё. Как скажет, так и скажет, а там пусть что будет, то и будет. Она поймёт. Всё поймёт.
...Вот стучат её каблучки. Её ещё не видно, но он знает, что это её каблучки. Спешит. Она всегда спешит. Она не бывает вялой и равнодушной. Просто не умеет. Как струна – тронь, и она зазвенит... Нет, не только если тронуть. Она сама отзывается на всё.
– Опоздала?
– Не знаю. Нет... Всё равно ты уже была тут. И мы разговаривали.
Наташа улыбнулась.
– О чём?
«Сказать? Вот сейчас взять и сказать всё... Как я её люблю, какая она совсем ни на кого не похожая. И как я её люблю... люблю...»
– Почему ты так смотришь? Что-нибудь случилось? Или тебе не нравится платье?
– Нет. Платье нормальное.
«Платье нормальное. Это ты ненормальный. Ты просто трусишь. Проходишь и промолчишь весь вечер, потом опять будешь кусать кулаки...»
Наташа была печально-ласкова. Это не было направлено на Алексея или на что-нибудь определенное. До отъезда оставалось три дня. На четвертый она сядет в поезд и уедет отсюда навсегда. То есть не совсем навсегда – будет приезжать на каникулы, потом, со временем, в отпуск. Но она уже будет другая, и здесь всё станет другим. Может, здесь всё и останется таким же, но она-то переменится, и ей будет казаться, что переменилось всё и здесь. И сейчас, прощаясь, она смотрела на всё с ласковой грустью и неясным ощущением вины – она уезжала, а все оставалось. Но ведь она не виновата: должна же она учиться дальше, потом работать и вообще жить... С этим ничего не поделаешь, так устроена жизнь. Рано или поздно приходит время и нужно уходить, уезжать и оставлять то, с чем сжился, сроднился, что дорого и на всю жизнь незабываемо, но не может и не должно удерживать человека на одном месте.
Вот пришла и её пора прощаться с детством и отрочеством. Ей не на что жаловаться – они были радостными. Правда, не было отца. Он погиб в самом начале войны, и Наташа его почти не помнит. А мама всегда была с ней, они ни разу не разлучались. Теперь мама останется одна. Она бодрится, делает вид, что ничего особенного, а сама волнуется, переживает... Ничего, пять лет – это ведь такой короткий срок! А потом Наташа кончит, устроится, заберет маму к себе, и они уже никогда не расстанутся...
Как бы хорошо всё забрать с собой, чтобы ни с чем не разлучаться, чтобы не было этой жалостливой печали... Глупости какие приходят в голову! Что забрать? Дома, улицы, знакомых, воздух, море?.. Надо только обойти всё-всё, побывать всюду, на всё посмотреть и запомнить навсегда, какое оно есть...
Ноги уже просто не ходят... Где только сегодня не были! Всюду, где гуляла Наташа, уже став девушкой, или бегала, когда была голенастой девчонкой. Обошли чуть не все улицы, и сквер, и сад. Особенно сад. Заглянули во все закоулки. Наташа посидела или хоть мимоходом прикоснулась ко всем скамейкам, на которых сидела когда-то. Каждый раз, когда они гуляли с Алешей вдвоем, где бы они ни были, под конец оба, не сговариваясь, поворачивали и шли к морю. И только потом уже он провожал её к дому.
– Пойдем к морю, – сказала Наташа. – Надо же мне прощаться, а то три дня всего осталось...
Ссутулившиеся фанерные «грибки» сторожили мутно белеющий на песке бумажный сор.
Наташа порылась в сумочке.
– У тебя мелочь есть? Ну хоть десять копеек...
Алексей извлек из кармана всё, что было.
– Нет, медяки не годятся. Это, знаешь, есть такое поверье: если бросишь в море серебряную монету – обязательно вернешься к нему...
– Они все равно не серебряные – никелевые.
– Считается, как серебряные.
– На вот рубль или трешку. Сильнее подействует.
– Никак не подействует! И нечего смеяться. Сама знаю, что суеверие. А всё-таки...
– Что – всё-таки? Их же дочиста мальчишки выбирают. Курортники нашвыряют, а ребята подбирают. Я сам нырял, когда в детдоме был.
– Ну и пускай подбирают. Это же после...
Вот и Алеша остаётся... А она так к нему привязалась. Почти, можно сказать, полюбила... Ну, это глупости, конечно! Но он – хороший. Не навязывается никогда, не пристает с глупостями, как другие... И с ним ей всегда хорошо. Он, правда, молчаливый. Ну и уж лучше, чем как другие, без конца говорят, говорят, тужатся острить, форсят, задаются... А он, что называется, верный человек. Вот ходит с ней, куда бы она ни пошла. И устал, наверно, он же целый день работал, а скажи она...
– Пойдем? – предложила Наташа, протянув руку к лунной дорожке, дробящейся у берега в серебряные осколки.
– Пошли, – сказал Алексей и приподнялся.
– Сиди! – засмеялась Наташа. – Почему ты такой?
– Какой?
– Ты будешь сейчас бодаться?
С детских лет у Алексея сохранилась привычка в минуты волнения и задумчивости смотреть бычком, исподлобья.
– Я вспомнил. Мы ведь с тобой здесь в первый раз встретились... Помнишь? Когда были ещё маленькими. Ты тогда мерила осадки, а Витька тебя дразнил, и ты его чуть не стукнула.
– И правда! – вскочила Наташа.
Они сидели на обрыве берега возле детской водной станции. Калитка была заперта, за низкой оградой ни души. Они перелезли через ограду, подошли к домику. Он показался теперь маленьким, значительно меньшим, чем был тогда. Песок, как и тогда, перепахан босыми пятками будущих моряков. Уже чужими, не их пятками... В отдалении покачивался на якоре «Моряк», черные смоленые борта его мяли, утаптывали лунную дорожку.
Далеко справа в холодном свете рефлекторов смутно виднелись решетчатые хоботы, костлявые руки кранов, мористее горели два красных огня, указывающих вход в порт.
Алексей смотрел на эти огни, решал и не решался. Больше откладывать нельзя.
Наташа проследила его взгляд.
– Куда ты смотришь?
Алексей решился.
– На маячки... Здесь они маленькие. Я когда мальчишкой жил в Махинджаури, ещё с дядькой, там, если дождь или туман, был слышен маяк. Он будто звал. Вот так. «О-у-у-у!..» Я думал, корабли так и ходят – от маяка к маяку... Потом оказалось, и люди так. Обязательно у человека есть кто-то, кто для него, как маяк, светится, показывает дорогу. А потом другой, может быть, третий. Так человек и идет – от маяка к маяку. Вот у меня, например, Алексей Ерофеевич подобрал меня тогда, привез сюда. Знаешь, какой это человек? А потом – Людмила Сергеевна, директор детдома, потом Вадим Васильевич... Потом... Потом – стала ты...
– Тоже нашел маяк! – засмеялась Наташа. – Я ещё даже не светлячок. Это как раз глупости... А вообще это очень верно! У меня тоже. Вот Викентий Павлович. Я ему знаешь как обязана? Если б не он, я бы ничего не понимала, ничего не знала про море. Я ведь по его совету решила стать ихтиологом, чтобы рыбу разводить. А то ведь вон оно, как пустыня...
Луну закрыли облака, сразу потемнело. Море колыхало у берега слабые отсветы городских огней и где-то совсем неподалеку уходило в глухую мглу, в которой не было ни звезд, ни огней, ни моря, ни неба. Наташа зябко поежилась.
– Его ведь и в самом деле в пустыню превратили. Оно же было самое богатое. В нем рыбу ловить, как в огороде репу рвать – тащи, и всё. Только в огороде репу сажают, а здесь все выловили – и конец. Одна тюлька осталась. А с ней всю молодь, всех мальков вылавливают. Мы ходили протестовать. – Наташа невесело усмехнулась. – Делегацией от кружка. Помнишь, Викентий Павлович организовал?.. Пришли к начальнику рыбкомбината. Он нас минуту послушал и прогнал. «У меня, говорит, государственные дела, а вы тут лезете с детскими выдумками...» У самого морда – во! И по морде этой видно, что он ничего не понял и понимать не желает. Такому что? Лишь бы план выполнить, отрапортовать, чтобы похвалили... Не понимаю я этого. Ведь его же поставили хозяином! А он не хозяин, а проживала...
– Приживала?
– Нет, проживала! – упрямо тряхнула Наташа головой. – Проживает всё дотла, а больше ничего не знает и не умеет.
Наташа помолчала.
– Я иногда подумаю – мне даже жутко становится... Вот говорят: мы наследники всего, всего... И всё при нас должно стать лучше, красивее, богаче. Правда? И как же мы должны жить, чтобы по правде стать наследниками. Ты представляешь? Вот мы уже взрослые, у нас будут дети... нет, не у меня лично, а вообще... А мы станем старые. И они, дети, спросят нас: «Как вы жили? Что нам оставили? Ага, они проживали, губили... А вы куда смотрели?» Нет! – пристукнула Наташа кулаком по колену. – Надо с этим бороться! Чтобы не было проживал, не было вранья...
– Я уже наборолся, – сказал Алексей. – Схлопотал выговор.
– За что?
Наташа слушала и старательно подгребала носком туфли, ровняла песчаный холмик, потом решительно наступила на него и раздавила.
– Знаешь, Леша? Только ты не сердись... Но, по-моему, это и в самом деле хулиганство. Это всё равно как если б ты его побил. Ну, ты не побил, обидел. Что толку? У вас же есть организации...
– Предцехкома первый на меня орал. Кто же будет против Витьки выступать, если они сами его раздували?
– А ты один так думаешь про Виктора?
– Да почти все между собой говорят.
– Надо сделать так, чтобы сказали вслух, а не между собой.
– Как?
– Не знаю. Добивайся.
Вот и снова прошел вечер, снова он говорил о будничном и не смог о главном. Попробовал, и ничего не получилось. Завтра! Уж завтра, что бы ни было, он скажет...







