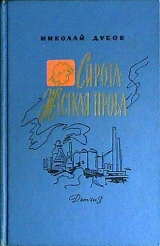
Текст книги "Жесткая проба"
Автор книги: Николай Дубов
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
15
Именно Петриченко после войны разыскал и вытащил Иванычева из туркменского совхоза, и Иванычев снова стал председателем горсовета.
Теперь это был уже другой район, с промышленными предприятиями и центром, не городишком, как прежде, а настоящим городом. Горсовет занимал большое здание, а самую большую комнату в нем – кабинет Иванычева. Здесь уже было всё честь по чести: большой полированный стол и другой, длинный, для заседаний, ковровая дорожка, делающая шаги неслышными, сифон с газированной водой, два телефона, кнопка звонка для вызова секретарши. Секретарша сидела в приемной и строго охраняла двойную дверь, обитую войлоком и клеенкой.
Здесь в Иванычеве и произошла та разительная перемена, которая в далекое и смутное прошлое отодвинула худого, скромного, не очень сытого, но веселого и общительного паренька, приехавшего из села в город за специальностью.
Город, промышленные предприятия быстро восстанавливались, бюджет горсовета был большой, работы много. Теперь, если бы Иванычев и хотел, он не мог поспеть всюду, уследить за всем самолично. В этом и не было нужды, В аппарате горсовета было несколько десятков человек, а на объектах сотни. Когда-то Иванычев, подвижный, поджарый коммунхозовец, на своих двоих обходил все нужные места, сам писал справки, докладные, отчеты. Теперь ему делать это было некогда и за него делали другие. Все ответственные речи, а большинство речей было ответственных, он уже не произносил, а читал. Подготавливали и писали эти речи другие. Ему было некогда.
В подчинении у Иванычева были инженеры, рабочие, всякого рода специалисты. Он не был ни тем, ни другим, ни третьим. Он не знал и не умел делать того, что знали и умели делать инженеры, рабочие и специалисты. Его делом, его профессией было руководить. Предполагалось, что он знает и умеет что-то такое, чего не знали и не умели они.
Иванычев должен был давать указания и проверять их исполнение. Он сидел у телефонов, звонил, спрашивал: «Ну, как там у вас?» – и разносил. Звонили ему. Случалось, его ругали последними словами, и он научился ругать подчиненных этими словами. Его вызывали на заседания и совещания, он вызывал других на заседания и совещания. Заседания возникали самосильно, непроизвольно, как только вопрос выходил за мелкие границы обыденного, повседневного и кто-то должен был взять на себя ответственность за его разрешение. И так как каждый опасался брать на себя эту ответственность, вопрос переносился на заседание. Вопросов скапливалась пропасть, все были важны, неотложны, и их обсуждали часами, чтобы выявить и подчеркнуть важность и неотложность их разрешения.
Проводя заседания, Иванычев вставлял в речи выступающих одобрительные или неодобрительные слова, подобающие случаю реплики. Таким образом, становилось очевидно, что он ведет, направляет прения по нужному, правильному руслу. Потом он «суммировал» сказанное другими в заключительной речи и давал установки.
Для этого у него был свой язык, особый лексикон, набор длинных, неудобопроизносимых фраз и оборотов. Они придавали его речи, как ему казалось, торжественный и особый, руководящий характер. Он никогда не говорил «сейчас» или «теперь», но только – «в данный момент», «на данном этапе», не «положение», а «ситуация», не «дело», а «мероприятие», не «у нас есть», а «у нас имеется». С приятелями он разговаривал иначе. Для этого был особый жаргон: вместо «ладно» – «лады», вместо «до свиданья» – «ну держи», то есть возьми руку для рукопожатия...
Работы было много. Приемные часы пришлось строго ограничить, но он был так занят, что большей частью приемы не могли состояться и посетителей принимали заместители Иванычева. В кабинете он сидел до глубокой ночи. Не то чтобы в этом была действительная необходимость, но Иванычев знал, что Петриченко тоже сидит у себя, может в любую минуту позвонить, потребовать какие-либо сведения или справку, а его не окажется и получится неудобно: тот работает, а Иванычев отдыхает. И он сидел «на подхвате». И так как сам он не мог дать нужных сведений и справок, то у него тоже сидели «на подхвате» нужные люди.
У него появились живот, машина, одутловатость и взгляд поверх голов, устремленный будто бы туда, куда не могут посмотреть другие. Машина вначале причиняла немало огорчений. Это был «ХБВ». Расшифровывалось это – «хотел быть «виллисом». Так злоязычные шоферы окрестили первую, неудачную модель горьковского вездехода. Потом «ХБВ» заменили «Москвичом», самолюбие Иванычева перестало страдать, хотя влезать в «Москвич» было нелегко. Он носил теперь просторные костюмы и обязательно украинскую вышитую сорочку. Не потому, что ему нравилась народная вышивка. Такую рубашку носил Петриченко, и к ней не нужен был галстук, с которым Иванычев так и не научился управляться.
Петриченко иногда отчитывал Иванычева, закидывал насчет живота:
– Зажирел, обюрократился... Вон сундук какой отрастил!
Но это была полушутка, а «сундук», хотя и поменьше, был у самого Петриченки. Иванычев отшучивался, как умел:
– От сидячей жизни, Степан Захарович. Сами знаете. Сидим до победного конца.
– Ты ешь поменьше. Да пешком ходи. Может, хоть тогда про мостовые вспомнишь, а то и люди и машины калечатся...
На ремонт мостовых не было ассигнований, а замечание насчет еды – несправедливо. Покушать Иванычев действительно любил плотно, основательно. Но разве это преступление? И что он, не заслужил?
При каждом удобном случае он призывал всех, особенно подчиненных, учиться, повышать знания, работать над собой. Себя он причислял к тем, кому учиться нет нужды, так как они сами учат и, значит, знают то, чего не знают другие. Когда-то в молодости он посещал политшколу, изучал в ней «Краткий курс». Каждый год его изучали заново, но, дойдя до четвертой главы, останавливались. Иванычев, так и не перевалив за четвертую главу, оставил политшколу – его выдвинули, и для учебы времени не оставалось. Потом времени не стало вовсе. Книги читать было некогда. Регулярно Иванычев просматривал только «Крокодил». Юмористические изображения бюрократов, дармоедов и плохих руководителей ему нравились, он считал, что так их и надо продергивать, «с песочком». Ему и в голову не приходило, что это – о нем самом.
Иванычев искренне верил в то, что он хороший член партии, настоящий коммунист, преданный работник, не жалеющий сил и здоровья для скорейшего завершения строительства коммунизма. О том, что движение к коммунизму происходит без него, что доли его в очевидных успехах строительства нет ни малейшей, он не догадывался. Его считали опытным работником. И он сам считал себя таким. А раз так, всё, чем он обладал, принадлежало ему заслуженно, по праву, и расставаться с этим у него не было ни малейшего желания. Поэтому скорее безотчетно, инстинктивно, чем сознательно, он делал всё, чтобы нынешнее его положение не стало хуже, а по возможности даже лучше. Для этого нужно, чтобы им были довольны, чтобы вышестоящие товарищи отчетливо видели: причина всех достижений, всех успехов – он, а во всех недостатках и упущениях виноваты другие. Так он и делал...
Погубил проклятый забор. Началось, собственно, не с забора, но он оказался последним барьером, через который Иванычев не перепрыгнул, а свалился.
Квартира в центре города была хорошая, как говорится, грех жаловаться. Но Фрося тосковала на асфальтированной площадке двора, где не росло ни одной зеленой былки. Ни детям побегать, ни самой вздохнуть. А был бы свой домик, хоть какой, там бы и огородик можно, чтобы не бегать за каждым перышком лука в магазин. Разве ж там лук? Тряпка, а не лук... И курочек бы хоть парочку! Кабанчика завести...
По правде говоря, не только Фросе, но и самому Иванычеву было не по себе в жактовском доме. Что ни говори – не своё. Вокруг народ, шум. Ну и свеженькое со своего огорода – тоже неплохо.
Иванычев подумал, поколебался, потом доверительно посоветовался с самым ловким и надежным из своих прорабов. Тот изъявил полную готовность соответствовать. К весне дом в четыре комнаты был готов.
Фрося расцвела. На участке, несколько большем, чем положено, – никто же не станет проверять, перемеривать! – появились куры, потом загоготали гуси и, наконец, шумно вздыхая, начала жевать бесконечную жвачку чистопородная Пеструшка.
Петриченко узнал о живности и хмуро сказал:
– Обрастаешь? Смотри не увлекайся...
Так как прямого указания ликвидировать живность не было, встревожившийся Иванычев успокоился.
Всё бы хорошо, но низенький, реденький заборчик из отходов не мог удержать кур на «положенной» территории, они бродили по чужим огородам, цыплята пропадали, то ли сожранные соседскими котами, то ли подбитые из рогаток мальчишками. А самое главное – всё было на виду, открыто чужим взглядам. Что это за жизнь на юру? Начнутся завистливые сплетни, пересуды... Нужно было принимать срочные меры.
Торопливость и погубила. Вместо того чтобы выждать удобной ситуации, Иванычев дал указание завезти со стройплощадки жилдома достаточное количество шлакоблоков и поставить забор вокруг своего участка. Работа на строительстве жилдома задержалась всего на какой-то месяц, но нашлись злопыхатели, написали кляузы и в область, и в Киев, и даже в Москву. Все письма вернулись обратно на расследование, но замять дело было уже невозможно, даже если бы Петриченко встал на защиту. А Петриченко и не подумал защищать Иванычева. Его без лишнего шума, но бесповоротно освободили от обязанностей председателя горсовета.
На бюро было нехорошо. Даже очень нехорошо. Все понимали, что Иванычев обречен, и говорили начистоту, без стеснения. Он зазнался и зажрался, обюрократился, окружил себя подхалимами, с рабочими разговаривал по-хамски, за что и заслужил кличку «мордоплюй»... Иванычев сидел багровый, непрерывно вытирал пот, который тут же проступал снова, и, обмирая, гадал – исключат или не исключат? Ему дали слово. Говорить просто так, не по бумажке, он давно разучился, в голове вертелись какие-то обрывки «руководящих» фраз, но произносить их сейчас было нелепо и бесполезно. Задыхаясь, он пролепетал, что заседание, то есть обсуждение, явилось для него большой школой, то есть серьезным уроком, что он на данном этапе полностью осознал... Больше ничего подобного не будет иметь места, то есть никогда не повторится, он оправдает доверие... заслужит... засучив рукава, исправит допущенные недочеты, то есть ошибки... что он и впредь...
Он старался поймать хоть чей-нибудь взгляд, чтобы найти хоть тень надежды на защиту и поддержку, но членам бюро было неловко, неприятно смотреть на его перекошенное страхом, залитое потом лицо, и они упорно отворачивались, смотрели в стол.
Его не исключили, объявили строгий выговор с предупреждением. Две недели Иванычев просидел дома, переживая незаслуженную, по его убеждению, обиду в ждал, когда его позовут. Его не звали. Он попробовал помогать Фросе по хозяйству. Но это была тяжелая и грязная работа, занимался он ею только в детстве, когда жил в селе, и давно отвык. После нескольких взмахов лопатой он обливался потом, начинало ломить поясницу, колоть в боку. Он бросал лопату и уходил в холодок. Куры озабоченно сновали по двору, купались на солнцепеке в пыли, в сарайчике вздыхала Пеструшка, сердито гоготали гусаки. Гусаки его раздражали. Ему казалось, что они его передразнивают: ходят солидно, неторопливо, как какие-нибудь руководящие птичьи работники, смотря на всех свысока и начальнически покрикивают, «ставят на место» подчиненную им птичью мелочь...
Иванычев не находил себе места. Он привык быть всегда на людях, ездить на машине, звонить по телефону, пошучивать с приятелями, разносить подчиненных за упущения... Теперь вокруг были только куры, проклятые гусаки, расплывшаяся Фрося, притихшие дочери. «Москвич» стал недостижим: Толя, его верный, надежный Толя, возил ныне заместителя Иванычева. Бывшего заместителя... Телефон висел на прежнем месте, но молчал, будто его отрезали. Орать теперь можно было только на безответную Фросю за пересоленный борщ да на дочерей, чтобы не путались под ногами. Он орал, но от этого не становилось легче...
Он долго собирался с духом и наконец позвонил Петриченко.
– Привет, Степан Захарович! Беспокоит Иванычев...
– Слушаю.
Голос Петриченки был холоден и сух.
– Так как же будет со мной, Степан Захарович?
– Разговор не для телефона. Придешь – поговорим.
Иванычев шел пешком через весь город, изнывал от жары и проклинал себя, что построил дом в расчете на машину, далеко от центра. Ему казалось, что все узнают его, пересмеиваются за его спиной, показывают пальцами. Он багровел и шел не оборачиваясь.
Впервые он не мог войти к Петриченко без спроса, запросто, а должен был сидеть и ждать, пока секретарь-машинистка Шурочка скажет: «Пройдите!» И она тоже – прежде улыбалась, а теперь нос воротит, даже не смотрит в его сторону...
Петриченко принял его официально и сразу дал понять, что о назначении на какой-либо серьезный пост в городе не могло быть и речи.
– Поезжай в обком, в отдел кадров, – сказал Петриченко.
В обкоме Ивалычеву предложили ехать в распоряжение горкома сюда, в этот город. Город большой, крупные заводы, в кадрах всегда нужда, горком подыщет ему какую-нибудь соответствующую работу.
Надломленный снятием, взысканием, вконец истомленный неизвестностью, ожиданием и хождениями в отдел кадров, Иванычев согласился.
Секретарь горкома принял его без всякого энтузиазма. Из личного дела он уже знал всё, что произошло с Иванычевым на прежнем месте.
– На заводе «Орджоникидзесталь» нужен человек для массовой работы в профсоюзе. Направим вас туда, посмотрим.
– Но ведь это мне не по специальности!
– А какая у вас специальность? – недобро усмехаясь, спросил секретарь.
Иванычев замялся.
– Коммунисты не торгуются, товарищ Иванычев, а идут, куда их посылает партия. Вам это особенно следует помнить! Присмотритесь к условиям, поработаете, проявите себя, потом, может, найдем вам другое применение.
Так Иванычев попал в завком профсоюза на «Орджоникидзестали», а вскоре стал председателем цехкома механического цеха. Председатель был не освобожденным, но Иванычева сделали как бы освобожденным, проведя по штату нормировщиком.
Завод его ошеломил и придавил своей огромностью, грохотом, ревом, сверканием, мельканием всяких машин, пламенем мартенов, льющейся стали, чугуна, живыми змеями раскаленного проката, всевозможными опасностями, подстерегающими на каждом шагу. До сих пор Иванычев бывал только на пивоваренном и сахарном заводах. Там было совсем по-другому. Тихо и мирно. На пивоваренном стояли бродильные чаны, машины, небольшие и нешумные, разливали пиво в бутылки и затыкали их пробками. А на сахарном ещё лучше – ничего не шумит, не двигается, стоят автоклавы, в них варится сироп, всё закрыто, а потом сыплется готовый сахарный песок...
Хорошо ещё, что его направили в механический. Здесь всё-таки тише и спокойнее. Правда, и здесь всюду что-то крутилось, двигалось, от станков вилась разноцветная стружка, брызгали раскаленные металлические опилки, над головой то и дело, гудя и завывая, мостовой кран переносил с места на место какую-нибудь тяжеленную вещь непонятного назначения... Вдруг сорвется – и на голову! Или от станка оторвется какая-нибудь штука, которая вертится с бешеной скоростью... А что же, станки не ломаются?..
Иванычев, стараясь не показывать этого, ходил по цеху опасливо, держась середины пролета, подальше от всяких вертящихся, двигающихся чертовщин. И вообще старался ходить поменьше. Его дело – работа с людьми. Это он знает и умеет. Люди, правда, здесь какие-то такие, не совсем... Никак их не вызовешь на откровенный разговор, по душам. Подойдешь, спросишь: «Ну, как дела?» Отвечают: «Ничего», «Дела, как сажа бела» или ещё что-нибудь двусмысленное, с подковыром. На вопрос ответят, и всё. Ну ничего, он авторитет завоюет, поставит себя. Главное – опереться на передовых, лучших людей. Поддерживать их. И они поддержат, будут опорой...
История с «молнией» возмутила Иванычева до глубины души. Правильно начальник влепил этому мальчишке Горбачеву выговор! Иванычев предпочел бы, чтобы дело не приобрело широкой огласки, не вышло за пределы цеха. Произошло это в его цехе, таким образом, ответственность за это нёс в какой-то степени Иванычев, это бросало на него тень... Статья в газете переменила ситуацию. Значит, он недооценил, недопонял это дело. Печать всегда правильно сигнализирует. Надо вокруг этого дела мобилизовать массы...
Когда же к Иванычеву пришел Гаевский и они, запершись в конторке, обсудили его всесторонне, он понял, насколько серьезно стоит вопрос. Со всем, что говорил Гаевский, Иванычев был полностью согласен и только кивал, подтверждая:
– Это – верно!.. Совершенно правильно!
16
Забежав к Вадиму Васильевичу после работы, Алексей снова не застал его. Сотрудник БРИЗа сказал, что Калмыкова ещё до гудка по телефону вызвали в отдел кадров. Дома в общежитии был только Костя Поляков. Сегодня у него был выходной. Стоя в одних трусах, он усердно и неумело наглаживал брюки одолженным у девчат утюгом.
– Ну, как в цеху?
– Всё в порядке, – ответил Алексей, гадая, знает или не знает Костя о статье в газете.
– Тут приходил один, про тебя расспрашивал...
– Кто?
– Какой-то из отдела кадров.
– Худой, крысиные такие глазки?
– Ага... Ты его знаешь?
– Знал раньше... Так что?
– Я тебя так обрисовал – хоть к ордену... Это всё из-за того дела с чемоданом?
– Наверно, – небрежно ответил Алексей.
Небрежность была напускная. Настойчивость, с какой Гаевский кружил вокруг него, вызвала неприятное беспокойство. Виктор, дядя Вася, теперь общежитие... Зачем он петляет вокруг Алексея, выспрашивает всех? Чего он добивается, что ищет?
...Наташа была занята сборами. Столько нужно перебрать, проверить, перегладить, уложить – просто ужас! Она металась от одной вещи к другой, пыталась делать всё сразу, ужасалась, смеялась, вспоминала что-нибудь забытое, но абсолютно – абсолютно! – необходимое, панически бросалась разыскивать и тут же теряла что-нибудь другое.
– Да что ты, десять чемоданов повезешь? Кто всё то тащить будет?
– Мамочка, здесь же все абсолютно необходимое! И тут Алеша поможет... Ты меня провожать придешь?
– Само собой.
– Вот! А там – в камеру хранения...
– Ну ладно, иди гладь, уложу я сама, а то ты только мнешь всё и путаешь.
Алексей собирался рассказать ей всё – и о чемодане дяди Троши, и о допросе, и о статье в газете, – но Наташа так была поглощена предстоящим отъездом, так мало интересовало её всё остальное, что он подумал, поколебался и промолчал. В конце концов, какое это имело значение? Сейчас представляется важным, а потом пройдёт время, и ему самому всё покажется пустяками. Незачем её расстраивать.
– Помнишь Гаевского, пионервожатого, который тогда меня за «Футурум» хотел выгнать?
– Помню. Противный такой...
– Да... Я его сегодня встретил. Тоже теперь на заводе работает. В отделе кадров.
– А что? Он что-нибудь снова?.. – встревоженно заглянула ему в лицо Наташа.
– Нет, ничего...
– Хотя... Это ведь была такая ерунда, – успокаиваясь, сказала Наташа. – И столько времени прошло. Он, наверно, и забыл про всё...
Ручка чемодана оказалась оторванной, один замок не работал. Алексей начал чинить. Мать Наташи то входила, то выходила. Наташа гладила и разговаривала. Алексей молчал. Он мог говорить только о главном, но говорить о главном было нельзя.
Гаевский ничего не забывал. Особенно если это имело принципиальное значение. А принципиальное значение имело всё. Вещей маловажных нет, каждая мелочь может оказаться далеко не мелочью...
Умение видеть за каждой мелочью важное Гаевский выработал во время войны. То ли по внешней хилости, то ли потому, что бросалась в глаза его подчеркнутая исполнительность и аккуратность, в запасном полку Гаевского сделали писарем. Пополнения приходили, обучались и уходили на фронт. Штаб полка и писарь при нём оставались. Полк, один из многих, готовил новые силы и, значит, ковал победу. В этом деле не могло быть ничего маловажного, каждый пустяк имел значение. И у Гаевского всё было в ажуре. Иногда – из госпиталя или направленные на переформирование – в полк попадали фронтовики. Они не скрывали своего презрения к «окопавшимся в тылу». Сначала это его задевало, потом он убедил себя в том, что если его оставили в запасном, значит, он полезен. И потом, сами фронтовики говорят, что на фронте лучше. А он не жалуется. Служит, где поставили и как положено. А враги могут оказаться и в тылу, тут тоже надо быть начеку. Не зря развенчаны всюду плакаты: «Не болтай! Враг подслушивает» Боец со строгим лицом прижимал палец к губам, а сзади нависала синяя тень огромного подслушивающего уха... Сам Гаевский не болтал и привык следить, чтобы другие тоже не болтали. Война окончилась, Гаевский вернулся в родной городок. Служба писарем в запасном полку не давала материала для хвастливых, картинных историй, которыми направо и налево сыпали возвращавшиеся фронтовики. Гаевский отмалчивался, а на расспросы отвечал коротко, значительно, но туманно. У слушателей складывалось впечатление, что он был на службе настолько важной, что говорить о ней нельзя, и проникались к нему уважением. Единственную свою медаль «За победу над Германией» Гаевский не надевал, носил только планку. О том, что планка не орденская, а медальная и медали, которую имеют все, побывавшие в армии, на гражданке знал далеко не каждый...
Гаевский устроился в районное отделение милиции на должность секретаря. Это было не совсем то, к чему стремился Гаевский, но он был уверен, что найдет случай проявить себя, его оценят по-настоящему, переведут в оперативные работники. Так бы, наверно, и было, но произошла история с Григорием Маляровым...
Поздно вечером возле деповского клуба произошла драка. По пьяному делу кончилась она плохо: когда подоспели оперативники, один лежал в луже крови и был без сознания. Потрясенные, испуганные таким исходом участники драки без всякого сопротивления были доставлены в камеру. Пострадавший через сутки умер, и уже налицо была не драка в пьяном виде, а убийство. Среди арестованных Гаевский знал только Григория Малярова. Маляров был единственным земляком, которого случай свел с Гаевским в запасном полку. Маляров попал в запасный из госпиталя, рвался на фронт и вскоре уехал туда. После войны Маляров вернулся с двумя орденами Славы и несколькими боевыми медалями, работать начал в депо слесарем. При встрече с Гаевским Маляров громко ори всех прохаживался насчет вояк, которые брали Берлин за две тысячи километров от Берлина... Гаевский ненавидел его смертной, но тихой и бессильной ненавистью – Маляров был скор не только на слово, но и на кулаки...
Теперь Меляров оказался замешанным в скверном деле. Гаевский не сомневался, что он был заводилой, а раз так, то и должен получить сполна... Вскоре пришло письмо, подписанное группой деповских рабочих. Авторы письма давали Малярову самую лучшую характеристику и свидетельствовали, что он в драке не участвовал, а бросился разнимать дерущихся, но было уже поздно. Некоторые из подписавшихся были этому очевидцами, просили их вызвать и допросить в качестве свидетелей. Гаевский положил письмо в самый нижний ящик стола.
Через два дня майор, начальник отделения, вызвал Гаевского.
– Где письмо рабочих? Почему не доложили?
Гаевский замялся. Он думал, что, не получив ответа, авторы письма присмиреют и поймут, что милиция сама знает, кого вызывать, кого не вызывать...
– Так это же, товарищ майор, подстроенное – одна шайка-лейка...
– Что? Председатель месткома, депутат горсовета, старые рабочие – шайка-лейка, по-вашему?
– Я не так хотел сказать... Я думал, письмо не должно влиять, чтобы следствие объективно...
– Думал? – закричал майор. – Ты думал, будешь тут подтасовывать, свои законы устанавливать?.. Немедленно сдавай дела Симоненке...
Когда Гаевский уходил из отделения милиции, в кармане его лежала выписка из приказа: «уволить за невозможностью дальнейшего использования». В последнюю минуту майор пожалел его: «Может, ещё поумнеет, зачем человеку портить жизнь?» – поэтому в приказе появилась такая формулировка, хотя должна была быть совсем иная. В городке пошли слухи о причинах, по которым его уволили из милиции, и Гаевский переехал сюда, в приморский город.
Город был большой, предприятий много, но устроиться он не мог: всюду требовались специалисты или квалифицированные рабочие, Гаевский не был специалистом и квалификации не имел никакой. В горкоме комсомола, куда он несколько раз обращался, в конце концов предложили ему поехать завхозом пионерского лагеря. Пионерский лагерь напомнил Гаевскому запасный полк, здесь также периодически менялся состав, а штаб, то есть начальник лагеря, вожатые и он, Гаевский, оставались. И здесь у него всё было в ажуре: всё переписано, учтено, всё в целости и сохранности. А если что-нибудь ломалось или портилось, Гаевский немедленно «актировал», а для себя, в особой рапортичке, отмечал, кто виновник и какое взыскание или наказание понес, если оно было предписано.
В середине лета одна из вожатых заболела. Начальник лагеря, очень довольный старательностью Гаевского, предложил ему временно исполнять обязанности вожатого Обязанности были несложными – не то завхоза при ребятах, не то сторожа: нужно было проводить экскурсии, вылазки, – но недалеко! – следить, чтобы из лагеря без надзора не отлучались, водить ребят купаться, но только в положенное время и на указанном месте, наблюдать, чтобы была дисциплина и вообще порядок, изредка проводить беседы, то есть читать какую-нибудь статью в газете и объяснять непонятное ребятам. Гаевский со всем этим справлялся, им были довольны, и, когда лагерь свернули, горком комсомола без всяких колебаний направил Гаевского старшим пионервожатым в школу.
Гаевскому стало трудно. Сторожить ребят больше было незачем, они жили дома, в школу приходили только учиться, здесь и должен был Гаевский вести с ними работу. Какую именно и как её вести – он не знал. Он стал делать то, что умел: проводить собрания, вести счет проступкам, выявлять виновных и наказывать в положенных пределах. Гаевский пытался найти с пионерами общий язык – языка такого не было, особенно с ребятами постарше. Он говорил что-нибудь смешное – они не смеялись и смотрели так, что ему становилось не по себе. Он говорил серьезное и очень-очень важное, именно тогда они почему-то начинали пересмеиваться или просто громко фыркать, и ему приходилось строго одергивать их, кричать, чтобы они затихли.
Самым мучительным были вопросы. Их нельзя было ни предугадать, ни предусмотреть. Они выскакивали внезапно, вдруг, и такие, что десять академиков не ответят. И тут – ни посоветоваться, ни подработать материал: десятки глаз смотрят и ждут ответа сейчас, немедленно. И лучше было не пытаться ответить даже на то, что знаешь, – тотчас выпрыгивали всё новые и новые вопросы, им не было конца, от них не было спасения. Всё время Гаевскому приходилось быть настороже, начеку: каждую минуту его могли спросить о том, чего он не знал, потребовать, чтобы он сделал то, чего не умел. На лице его непроизвольно закрепилось озабоченное выражение. Потом оказалось, что эго удобно: он всегда занят чем-то важным, озабочен, и к нему всё меньше приставали с вопросами – он был выше, ему не до того...
И всё-таки Гаевский мучился, пока не сделал своим наушником Юрку Трыхно. Благодаря Юрке он знал теперь, что ребята затеяли или сделали, и это знание давало ему власть над ними: они не понимали источника его знания, удивлялись и проникались если не уважением, то опаской.
Всё было хорошо, пока Юрка не принес Гаевскому потерянной Горбачевым шифрованной записки. Гаевский сразу понял, что это дело не шуточное, не обычные ребячьи выдумки. Шутка сказать – тайная организация! А кто за ней стоит? Кто её направляет?
Если бы не вмешался секретарь горкома Гущин, он бы тогда это дело раскопал до конца! Он тогда написал куда следует, только там не обратили внимания на его сигнал, а Гущин настоял, чтобы Гаевского сняли с должности пионервожатого. В горкоме комсомола Гаевского тоже пожалели – «зачем портить жизнь парню?» – уволили по собственному желанию и помогли устроиться в отдел кадров «Орджоникидзестали».
Гаевского приняли, поставили под начало старшего инспектора Софьи Ивановны, женщины суровой, с седыми волосами и большеносым строгим лицом. Гаевский схватывал всё на лету, и задолго до истечения испытательного срока Софье Ивановне и начальнику отдела кадров стало ясно, что отдел приобрел ценного работника. Гаевский не щадил ни времени, ни себя – он нашел наконец дело но душе.
Теперь его уже не спрашивали, спрашивал он, и ему обязаны были отвечать. Если, случалось, спрашивали его, он многозначительно молчал или, чаще, просто смотрел мимо, за спину спрашивающего. И вопросы отпадали сами собой. Когда-то он выработал себе маску озабоченности, занятости делами, о которых другим знать не положено. Маска стала характером. Всем своим видом он давал понять, что о каждом знает всё, больше, чем знает каждый о себе, и ещё что-то такое, что могут знать только люди особо доверенные...
Работа в отделе найма и увольнения никаких специальных знаний не требовала. Люди сдавали направления, если они были, трудовые книжки, анкеты. Можно было складывать всё в личные дела и тем ограничиться. Для Гаевского это было не концом, а началом. Свои обязанности он видел не в том, чтобы доверять, а в том, чтобы проверять. И он проверял. Всё, что проходило через его руки. В огромном большинстве люди писали правду, но, случалось, ошибались, путали по забывчивости. Гаевский не верил в ошибки, он привык думать, что обманывают все. А если их не поймали, так только потому, что плохо проверяли. Как бы человек пи маскировался, он рано или поздно ошибется, выдаст себя – вот тогда его и можно взять на крючок, разоблачить... Людей безупречных, незапятнанных нет. У каждого в прошлом есть что-то, о чём он хотел бы умолчать, что хотел бы скрыть. Узнать скрываемое – значит взять его под жабры так, что уже ему не вырваться... Люди там ходят, работают, занимаются личными делами и думают, что они – главное. Главное было здесь, в шкафах и папках, пронумерованное и зафиксированное.
Гаевский не ограничивался служебной перепиской. Он внимательно следил за всем, что происходит на заводе, что о ком говорят, что пишет заводская многотиражка. И всё брал на заметку – когда-нибудь могло пригодиться.
Статья Алова насторожила его. Горбачева, главного виновника в той школьной истории, он не забыл. Может, однофамильцы? Он проверил личное дело, сходил в цех посмотреть. Это был тот самый Горбачев! Вырос, вытянулся, но тот же, никакой ошибки быть не может...








