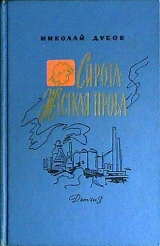
Текст книги "Жесткая проба"
Автор книги: Николай Дубов
Жанр:
Детские остросюжетные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
23
Тётка на самом деле была злой и вредной. Яша неплотно прикрыл дверь, и Алексей услышал, как она разоралась где-то внутри дома, должно быть, на кухне. Нарочно кричала громко, чтобы он тоже слышал.
– Знаю я ваше «только ночевать»! А прибирать кто за ним будет? Дух святой! Платить будет копейки, а я за ним ухаживай? Не нужны мне никакие поночевщики! Скажи спасибо, что тебя держу!.. Знаем мы таких спокойных! Сегодня спокойный, завтра пьяный придет, потом жену приведет!.. То-то он явился ни свет ни заря... А мне какое дело? Меня кто жалеет? Цельный божий день как белка в колесе... Пускай куда хочет, а здесь чтоб его больше не было!
Яша, вернувшись, смущенно развел руками:
– Понимаешь...
– Я слышал. Ладно, пойду.
– Подожди. Я поговорю с сотрудниками, может, у кого из них можно. Ты приходи в библиотеку часа в два. Я одолжу у кого-нибудь до получки. Вместе пообедаем и решим, как дальше. Придешь? Смотри, обязательно!
Яша, конечно, хороший парень. А толку – чуть. И не в том дело, что у него денег нет, жилья. Он поделится последним куском хлеба, отдаст рубашку и половину койки. Но не устоит рядом. Он просто хороший парень. Оказывается, как этого мало – быть просто хорошим парнем...
В библиотеку Алексей не пошел. Ни к чему. Пообедать бы не вредно – есть захотелось очень скоро, – но пришлось бы снова слушать то, что слушать он не хотел. Яша опять начал бы уговаривать отступиться, перетерпеть, уехать. Это проще всего. Но и хуже всего.
Сегодня воскресенье, коменданта в общежитии не будет. У ребят можно одолжить денег, но они, наверно, уже ушли на пляж. А если и дома, то придется опять разговаривать. Будут расспрашивать, выражать сочувствие и давать советы. Бесполезные. А бывают полезные? Все советы – слова. И слов с него хватит. Надо вернуться в общежитие попозже, когда все уже будут спать. Чтобы меньше было разговоров. А пока уйти куда-нибудь подальше, чтобы никого не встретить. Тридцать пять копеек. Даже на трамвае не разъездишься...
Алексей не спеша пошел вдоль линии «четверки». Высоко над пестрой сумятицей, крикливой толчеей базара плыли дымы завода. Темные домны и кауперы его возвышались вдали неприступными башнями.
У рыбачьей гавани Алексей остановился. Сколько раз собирался, ещё в ремесленном, когда будут каникулы, отпуск, прийти сюда и наняться недели на две. Не ради денег – посмотреть, побыть на море. Вот можно пойти сейчас. И не на две недели – навсегда. Не надо будет ни о чем думать, бороться, добиваться... Гавань словно вымело, выдуло ветром. У причала болтались на привязи только маленькие лодки. Они не в лад раскачивались, стукались друг о друга бортами.
Значит, все сейнера на путине – под Керчью, наверно, пошла хамса...
Давай, давай, топай! И дело совсем не в том, что нет сейнеров. Это как раз то, что советовали Калмыков и Яша. Отступиться, спрятаться. Не дождутся!
Узенькая душная улица Котовского перешла в Стрелку. Слева открылось море, до краев налитое солнечным блеском и ветром. Справа выглядывали из зелени добела раскаленные солнцем корпуса санаториев. На воротных каменных столбах одного из них лежали бетонные львы. Они были маленькие, жалкие, с овечьими мордами. Кто-то не поленился, влез на столбы и подрисовал им железным суриком усы. Мужественнее они от этого не стали. Вдали показался угрюмый массив элеватора, решетчатая путаница кранов, пароходных стрел и мачт. Там был порт, туда привез его Алексей Ерофеевич...
Чудно! Сейчас он прошел весь путь, который когда-то проделал вместе с Алексеем Ерофеевичем. И вообще последние дни... Сколько дней прошло, как он поссорился с Виктором? Всего десять. И все эти дни он непрерывно сталкивается с людьми, вещами, с которыми встречался, сталкивался раньше, будто шел по кругу. Всё возвращается на круги своя, сказал Калмыков... Он шел в настоящем, но странным образом под настоящим оказывалось прошлое. Доброе или злое, оно всплывало, обнаруживалось, напоминало о себе, и снова его нужно было принимать или отталкивать, радоваться ему или бороться с ним. Чепуха! Всё меняется, и ничто не возвращается. И не повторяется круг, как бы он ни казался похожим. Нет и не может быть в жизни никакого круга. Он сам переменился, и всё переменилось. Каждый по-своему. В каждом появилось новое, но и осталось прошлое. От этого никуда не денешься. И когда вылезает это прошлое в настоящем, тебе кажется, ты тоже вернулся назад. Но ты ушел вперед. А вот если ты перестанешь замечать и различать, тогда на самом деле ты остановился или вернулся...
Сквозь решетчатые ворота портовой ограды был виден стоящий у причала белогрудый теплоход. Он раскатисто загудел. Ничего голосок. Маленький, маленький, а голосина, как у большого. Это «Львов». Алексей видел его не раз, и каждый раз завидовал тем, кто уезжает на нём. Вот и сейчас дежурный морского вокзала повел через ворота хвост пассажиров, нагруженных чемоданами. Поедут в Сочи, потом в Батуми. Там всегда тепло, растут пальмы и, наверно, легко жить. Вот пристроиться сзади, и всё. Вахтер не заметит...
Хватит глупостей! Лучше бы подумал, что додать дальше... Нечего думать. Дождаться вечера и идти домой. Поесть бы только...
Давно перевалило за полдень. Бетонная ограда порта уже отбрасывала полосу тени. Алексей прошел к урезу воды, присел в тени, потом вытянулся на песке и закрыл глаза. Взъерошенное низовкой море негромко плескалось у самых ног, лопотало что-то своё, в стороне гулко шлепался волейбольный мяч, доносились голоса и смех...
Разбудила тишина. Ветер утих, море бесшумно облизывало разглаженный песок. Тени грибков и фанерных киосков уродливо исхудали и вытянулись. Последние купальщики брели на Стрелку к трамвайной остановке. Алексей остался один.
...«Горе одному», – говорил тогда у Голомозого человек с бегающими глазами, похожий на цыгана. Вот он остался один и уже хлебнул этого горя по завязку. И ещё нахлебается... Поесть бы. Солнце уже садится, скоро можно идти домой. У ребят что-нибудь найдется...
А может?.. Может, попробовать? Он ничего не теряет. Послушает, что скажут, а уйти всегда можно. В конце концов, какой у них расчет? Какая от него может быть польза баптистам? Может, и зря наговаривают на Голомозого. Что он ему – сват, брат? А первый подходит, обещает помочь. Слова всякие говорит? Так черт с ними, со словами, от него не убудет, если послушает. А вдруг и в самом деле помогут? Просто так, по-человечески.
В тупиковую улочку он пришел уже в сумерках. Вот и знакомый забор. Ворота заперты. Алексей осторожно постучал, прислушался. Из домика Голомозого доносилось унисонное пение и гнусавое подвывание фисгармонии. Он представил, как они все сидят там с постными рожами, набожно смотрят в потолок в разводах от плохо размешанной синьки и выводят сладкими голосами: «Как прекрасно будет там...» Ну и идите вы туда...
Алексей решительно зашатал назад, потом вернулся. Где-то здесь. Он говорил, соседи... Калитка палисадника у дома напротив голомозовского была приоткрыта. Алексей нерешительно потоптался, пошел по дорожке к дому. В стороне, в беседке, заросшей вьюнком, стояли широкий топчан и столик, на столике лежала растрепанная, вспухшая книга. В окнах дома уже горел свет. Алексей постучал в открытую дверь.
– Вам кого? – спросил старушечий голос.
– Василий Прохорович Губин здесь живет?
Старуха отступила в сторону, чтобы свет упал на Алексея, внимательно присмотрелась к нему.
– Больной он.
– Я знаю, я ненадолго.
– С завода, что ли? Ну ладно, иди... Прохорыч, к тебе тут пришел какой-то!
Василий Прохорович сидел за столом в теплой тужурке и наброшенном на плечи бабьем платке.
– А, объявился наконец, – нисколько не удивился он. – Передали, значит, тебе?
– Ничего не передавали, я сам.
– Ну, сам так и сам... – ещё лучше. Садись. Есть хочешь? Не ври – хочешь. Мать!.. – В дверях появилась давешняя старуха. – Ну-ка, тащи сюда свой борщ и ещё чего там осталось, подкорми этого вояку... Давай, давай, без стеснений.
Алексей набросился на еду. Василий Прохорович молча наблюдал за ним, покряхтывая, кутался в платок.
– Заморил червячка? Теперь рассказывай. Про то, что тебя уволили, знаю. Потом что было?.. Угу... Ну ладно. Жить покуда будешь у меня. Места не пролежишь... Ты со мной в пререкания не вступай, я человек больной – так изругаю, своих не узнаешь... Хочешь – в комнате, а хочешь – в саду, с внуком. Места хватит. Мать, ты постели ему там чего-нибудь... И давай самовар. Ну, теперь пей чай, а я буду лечиться...
Жена Василия Прохоровича налила Алексею чаю, перед мужем поставила большую эмалированную кружку, вазочку с малиновым вареньем и четвертинку водки. Василий Прохорович вылил половину водки в кружку, положил несколько ложек варенья, налил настоя и долил кружку доверху крутым кипятком.
Алексей смотрел на него во все глаза.
– Дядя Вася, и ты это будешь пить?
– Обязательно! Лекарства мне не помогают, а это – до костей прошибет...
– Я думаю!
– Некоторые говорят, с перцем надо, с тем, сем... Пробовал – чепуха. А эта штука безотказная. Как динамит. Встанешь, будто на тебе черти горох молотили, но – здоров. А мне к завтрему выздороветь надо. Завтра партсобрание. Тебе бы вот пойти! Открытое.
– У меня пропуск отобрали. На завод не пустят.
– Не пустят, – согласился Василий Прохорович. – Ты пей, пей, а то долго нам рассусоливать некогда, я сейчас под одеяло потеть пойду...
Алексей пил чай, Василий Прохорович большими глотками прихлебывал свою динамитную смесь.
– Стало быть, не выдержал, – сказал Василий Прохорович.
– Чего?
– Пробы. Ты когда на завод поступал, пробу держал? Ну вот, ту сдал, получил разряд. А эту не сдал. Та проба – не главная. Обучить можно любого, коли у него руки – не крюки, а голова – не куль соломы. И что ж, думаешь, разряд получил – он уже рабочий, можно бить себя в грудь: «Я – рабочий класс»? А он никакой не класс, а шиш на ровном месте. Классом-то ещё стать надо. Не в рассуждении квалификации. А в рассуждении понимания, что будь у тебя семь пядей во лбу, всё одно сам-один ты ничего не значишь. Класс – это не один, а все, и действовать должны в одну точку, а не кто во что горазд...
– Как говорят: «Гуртом и батьку бить легче»?
– Ну, это погудка куркульская... Нам делить нечего, и батьку колошматить незачем. А вот коли ты делать что хочешь – оглянись, каково это другим будет, может, ты и не самый умный. А может, умник, и тебя все поддержат...
– Каждый раз собрания дожидаться? Вы небось не ждали, когда Иванычева от станка турнули, как он начал подгонять вас?
– Сравнял. То – ты, а то – я. Разница! А Иванычев? Что ж, Иванычев... Он из тех дураков, которым закажи богу молиться, они и лбы расшибут. Беда только, что разбивают не свои – чужие... Думают, передовики вроде капустной рассады – где ни посади, так там враз и кочан... А я тебе не говорю, что без собрания не смей пикнуть... Пикать-то вот не надо! Ты уж ежели рот открыл, говори так, чтобы все услышали. А не только твой Витька.
– Так я и говорил, дело совсем не в Витьке...
– И в Витьке тоже. Парня с толку сбивают. За ним и другие могут сбиться. Вы ведь как овцы, думалка у вас короткая... Тебя, если б лучше думал, с завода бы не выгнали.
– Думаете, я испугался!
– Кабы испугался, что о тебе и думать! Какая б тебе тогда была цена?.. Ну ладно, ты, кажись, и так себя больно высоко ценишь. А сам тычешься, как кутенок, вслепую... Иди-ка лучше спать!
Звезды заглядывали в дверной проём беседки. Из недалекого порта доносились окрики буксиров, гудение крановых моторов, лязг грейферов.
В отдалении на подходе к порту протяжно затрубил пароход, вызывая лоцмана. Боится идти сам, чтобы не быть, как кутенок...
Хороший старик дядя Вася! Говорил только очень путано. Может, ему и самому не очень ясно, что он хотел сказать? А в чём-то прав...
Пробой на разряд началась работа. Перед тобой положили наряд, указали поковку. Делай. Чем скорее и лучше сделаешь, тем выше будет оценка. Ты очень волновался, проба – это крайне важно. Самое важное! Ты сделал хорошо и быстро. Сдал пробу. И тебе дали третий разряд. Ты думал, что это конец, стал полноправным разметчиком, «рабочим классом»... Оказалось, это – только начало. Каждая новая работа тоже была пробой, хотя уже не называлась так. И оказалось, что ты сдавал пробы и раньше. Много раз. И сдаешь теперь. Чуть ли не каждый день или несколько раз на день. Это – что ты сказал и сделал, как ты подумал и сказал, и сделал ли ты так, как подумал, или иначе и, значит, соврал. И такие пробы сдавали все люди вокруг и на каждом шагу – видные или невидные для тебя, понятные или непонятные тебе пробы, но они были, и поэтому перед тобой возникали новые – от того, как другие люди выдерживали пробы, ты должен был менять свое отношение к ним или сохранять его. И это тоже было пробой для тебя и для других...
И так у всех и всегда? Выходит, жизнь – это пробы, непрерывный экзамен? С детства и до самой смерти учить уроки и отвечать заданное? Нет, заучивать заданное, отвечать заученное – в этом нет пробы. Это умеет попугай. Еще лучше – магнитофон. Жить – значит делать. То, во что веришь. И не отступать.
Еле слышно зашуршал песок дорожки, на пороге беседки появилась мальчишеская фигура. Мальчик постоял, присматриваясь, потом заметил, что Алексей пошевелился, шагнул вперед. Он потихоньку лег, потом повернулся на живот, подпер кулаками подбородок.
– А ты Горбачев, я знаю, – сказал он сиплым от неумеренного купанья голосом.
– Горбачев. А ты?
– Санька. Я тебя в пятиэтажку бегал искать.
– Зачем?
– Дед посылал. К нему Маркин приходил. Знаешь, старик такой? Про тебя рассказывал. Ну, дед и послал, чтобы кровь из носа – найти.
– Меня не было.
– Ага... Я хлопцам передал.
Санька замолчал. Алексей пытался рассмотреть его получше, но в ночном полумраке смутно виднелись только белки глаз, выгоревший чубчик полубокса и широкие ноздри очень курносого носа.
– А я про тебя все знаю, – сказал Санька, помолчав. – Дед с Маркиным говорил, так я всё слышал.
– Ну и что?
– Ничего... Хочешь яблок? Обожди, я счас.
Санька соскочил с топчана, убежал. Где-то неподалеку залаяла собака, потом затихла. Санька пришел минут через двадцать, запыхавшийся, с оттопыренной пазухой. Яблоки глухо застучали по столешнице, покатились по земле.
– На, – сказал Санька. – Мировая антоновка. Я самые крупные рвал.
– Яблоки мировые, – подтвердил Алексей. – А что так долго?
– Так я к соседу лазил. У нас тут напротив штунда живет. Голомозый. Я – к нему.
– Чужие слаще?
– Не, у нас такие самые. Я – принципиально. Думает, если у него собака, так его будут бояться... А меня все собаки любят. Я с любой договорюсь. Факт! – Санька с хрустом надкусил яблоко и замер. – Ты чего?
Алексей хохотал.
– Чего ты, псих, что ли?
– Это я так... – всё ещё смеясь, сказал Алексей. – А если дед узнает?
– Ну, известно чего – ухи нарвёт, – обиженно сказал Санька.
– Да ты не бойся, я не расскажу...
...Может, и он, как Санька, залез «не в свой сад», в чужое дело, и его принципиальность не лучше Санькиной? И он «перевоспитывает» Витьку, как Санька Голомозого? Чушь! «Чужое дело» – это у посторонних. А он не посторонний. Всему.
– Ты рыбу ловить любишь? Пошли завтра бычков наловим? А? Бабка утром нажарит. Дед их здорово любит... Только до света надо. Ты сам просыпаться умеешь?
– Кажется, умею.
– А я нет... Ну, гляди не проспи!
24
Дома во всех подробностях знали об успехах Виктора. Пройти на завод, полюбоваться вымпелом, портретом сына на цеховой Доске почета мать не могла, но о том, как его фотографировали, что написано под фотографией, без устали рассказывала соседкам. Газету Виктор принес домой и сам прочитал заметку Алова матери. Прочитал он её не всю, остановился на призыве следовать его, Виктора Гущина, примеру. Читать об Алексее, а потом объяснять не хотелось. Просто противно. Газету он спрятал в ящик стола... Утаить не удалось. На следующий день мать за обедом спросила:
– Что это, Витя, дружок твой не показывается?
Милка стрельнула в брата глазами и наклонилась над тарелкой.
– А зачем он тут нужен? – хмуро сказал Виктор.
– Ну как же – то водой не разольешь, чуть не каждый день, а теперь как отрезало.
– Они, мама, поссорились, – сказала Милка. – Об этом даже в газете писали.
– А тебе какое дело? Ты что, у меня в столе шаришь? Лучше бы за собой следила. Вон вся вывеска исцарапанная!
Милка покраснела, прикрыла кулаком царапину на щеке и наклонилась над тарелкой, чтобы скрыть слезы незаслуженной обиды, но предательская капля шлепнулась прямо в борщ.
– Ничего я не шарю. Мне Мишка сказал, потому что Сережа дома рассказывал, а потом взял у Сережи газету и показал... Думаешь, только у тебя газета есть?
Об этом Виктор забыл. Семья Сергея Ломанова по-прежнему жила рядом, Милка по-прежнему дружила с братишкой Сергея. С раннего утра и до поздней ночи, пока мамы не загоняли их по домам спать, они не расставались больше чем на полчаса, и, если одному случалось уйти, другой мыкался как неприкаянный и через несколько минут отправлялся разыскивать ушедшего. Они играли вместе, всюду ходили вместе, вместе переживали события в семьях, во дворе, в их квартале и все отголоски большой жизни взрослых, которые доходили до них. Соседки, посмеиваясь, называли их «неразлучниками» и, пригорюнившись, добавляли: «Кабы взрослые так-то могли да умели...»
И вот эти неразлучники едва не расстались «навеки», как сказала Милка, и, более того, подрались, что прежде с первого дня их знакомства не случалось никогда. Причиной была злополучная статья Алова в заводской газете.
Спозаранку у них было намечено испытание «реактивного торпедного катера». Выброшенную кем-то жестяную лодочку с продырявленным боком и облезлой краской Мишка подобрал на соседней улице. Сергей запаял дыру, покрасил заново, и лодка получилась что надо, совсем как торпедный катер, хотя скорее напоминала катер пожарный: за отсутствием шаровой, серой, краски Сергей покрасил ее в ярко-красный цвет. Вот только двигателя у неё никакого не было. Сергей сказал, что теперь, наверно, надо ставить реактивный, чтобы скорость давала как полагается, но от просьб сделать такой отмахнулся, сказал, что ему некогда заниматься игрушками, пора на работу и пускай они сами мозгуют, не маленькие. Милка и Мишка долго мозговали, пока не вспомнили о Викторовой ракете, которая должна была без пересадки долететь до Луны, но далее бурьяна на пустыре не залетела. Виктор в качестве горючего для своей ракеты употреблял фотопленку, а пленки дома хватало – Сергей иногда занимался фотографией и отдавал Мишке всю засвеченную или неудавшуюся пленку. Мишка делал из нее «пшикалки» – поджигал и смотрел, как они, шипя и воняя гребенкой, сгорают. Теперь для неё нашлось настоящее применение. Прикрутив рулончик пленки к корме лодки, они отправились испытывать. Железная бочка под водосточной трубой тщетно дожидалась дождей, но Сергей каждый день для поливки огорода наполнял её доверху водой, которую приходилось носить ведрами от колонки. Вот тут-то, наклонившись над бочкой и опуская в воду свой корабль, Мишка, должно быть, вспомнил все обстоятельства, участников неудачного запуска Викторовой ракеты и произнес роковую фразу:
– А кореш твоего братана, оказывается, гад?
– Кто гад? – удивилась Милка. – Леша?
– А кто же еще? Он самый, Горбачев.
– Ты что, это самое? – Милка приставила палец к виску и выразительно повертела.
– Ничего не это самое, а факт. На братана твоего накапал. Тоже друг называется!
– Ты опять врешь, опять выдумываешь? Не смей на него наговаривать! – закричала Милка.
Она давно знала за Мишкой слабость: заговорив о чём-нибудь, он увлекался, начинал привирать, а потом и попросту врать без зазрения совести. Он не врал нарочно, чтобы обмануть, но так увлекался, что остановиться уже не мог, его несло туда, куда влекло неудержимое воображение. Если это касалось пустяков – куда ни шло, но наговаривать на Лешу Горбачева?! Друг брата занимал в жизни Милки место если не такое большое, как брат, то, во всяком случае, огромное. Он, как и Виктор, был самым-самым недосягаемым образцом, которым всё проверялось. Он даже в чем-то был лучше Вити, потому что никогда не ругал её, не прогонял от себя, всегда с ней разговаривал и даже помогал, если нужно. Она не разделяла их и не сравнивала. Они были всегда вместе, всегда дружили. Леша спас Витю, когда тот чуть не утонул, и вообще... Если бы Мишка стал наговаривать на неё – ладно, но на Витю или Лешу?!
– А я не наговариваю, всё знают.
– Что знают? Сейчас же перестань врать, а то мы навеки поссоримся и вообще...
– Ага, испугалась, что про него правду скажут!
– Я?
– Ты.
Вместо ответа Милка, не размахиваясь, изо всех сил сунула сжатый кулак вперед и угодила ему прямо в нос. Мишка сморщился, поморгал и тут же ответил ударом на удар, но драться он не умел, а Милка отклонилась, поэтому кулак Мишкин скользнул по скуле, а ноготь расцарапал щеку. Милка размахнулась, чтобы ударить уже по-настоящему, но не ударила, а в страхе уставилась на него. Мишка почувствовал на губе теплое, мазнул рукой под носом – она была в крови.
– Ты так, да? Ну ладно!
Черпая ладошкой, он начал смывать кровь, но она натекала снова и снова. Тогда он перестал смывать, наклонился над бочкой, и капли крови зашлепали в воду. Вода быстро стала ярко-красной, как неопробованный катер, который в стычке опрокинулся и лежал теперь на дне бочки.
Милка с ужасом смотрела на капли, падающие из Мишкиного носа, на окрашенную кровью воду и в отчаянии закричала:
– Сейчас же перестань! Слышишь!
– Что, я её нарочно теку? Она сама текёт. Сама ударила, а теперь тоже...
Верхняя губа и нос у него мгновенно вспухли, и говорил Мишка гундосо, пришепетывая.
– Ложись на спину! А то так и будет течь, вся кровь вытечет...
– Ну и пускай!
Боли он уже не чувствовал, а так как нос расквашивал уже не первый раз, то знал, что кровь в конце концов останавливается, и потому не боялся. Он видел, что Милка страшно перепугана, терзается угрызениями совести, и злорадно упивался её терзаниями – пускай знает, в другой раз не будет!
– Да что это, в самом деле! – как взрослая, сказала Милка и попробовала оттащить его от бочки.
Но Мишка вцепился в края, отпихивал Милку боком и даже пытался лягнуть ногой.
– Уходи! Не лезь! Нечего теперь...
Тогда Милка применила прием нечестный, но единственно безотказный – сунула ему пальцы под мышки. Мишка не выносил щекотки и, дико гигикнув, отлетел от бочки.
– Ложись, а то хуже будет!
Укрощенный Мишка лег, Милка сорвала с головы бант, намочив в бочке, положила ему на нос и села рядом.
– Ух, так бы и дала ещё раза! – в сердцах сказала она. – Ещё и ломаешься... Скажешь, я ещё виновата, да?
– А кто же? – прогундосил Мишка.
– Ты! Зачем ты меня дразнил, врал про Лешу?
– Ничего я не врал, Серега рассказывал. У него и газета есть, там про все напечатано.
– Опять врешь?
– Да я хоть сейчас принесу...
– Лежи!
Кровь остановилась. Мишка умылся, проскользнул в дом. прикрывая от матери распухший фиолетовый нос, и принес газету.
Всё оказалось правдой. Это было чудовищно, неправдоподобно, не могло быть правдой, и всё-таки это было правдой, раз об этом писали в газете. Милка притихла и съежилась, будто невесомый лист бумаги, усеянный черными строчками, придавил её, как многопудовая глыба.
– Теперь я понимаю, почему он так переживает, – сказала Милка. – Он последнее время прямо какой-то не такой...
– Кто? – спросил Мишка.
– Витя.
– Ха! Тут запереживаешь.
Милка тоже начала ужасно переживать. Она понимала, что если Витя об этом молчит, значит, должна молчать и она. Она молчала, но ластилась к брату и всячески показывала, как она его любит и готова сделать всё, что он захочет, Виктор не обращал на неё внимания, а если и замечал, то прогонял или говорил что-нибудь такое обидное, что в другое время она бы ни за что ему не простила, но теперь прощала всё. Вот и сейчас он её обругал и обидел, а она же хотела объяснить маме, какой Горбачев плохой и как он обидел Витю.
Мать внимательно посмотрела на Милку, насупленного Виктора и спросила:
– Из-за чего же вы поссорились?
– Он против меня выступал, будто я не передовик.
– Но ведь это неправда!
– Конечно, неправда.
– Так ты бы ему объяснил, вы же друзья.
– Никакой он мне не друг! Ему и без меня объяснят, дадут по первое число...
Он не ожидал, что «число» окажется таким... Тревога появилась, когда в цех пришел Гаевский и начал расспрашивать. Уж кому-кому, а Гаевскому Виктор не собирался играть на руку... Нет, он ничего такого за Горбачевым не знает. Ничего такого за ним нет и не было. Дружил с ним, с одной девушкой – она уезжает в институт, – ещё с одним инженером из БРИЗа Калмыковым...
Выступление Гаевского в кабинете начальника цеха привело Виктора в смятение. Что он только говорит?! Это же всё чепуха, выдумки!.. Нужно встать и сказать, что это всё вранье, нечего человеку пришивать всякие дела. Он свой парень, и все это знают! Вот только ему свинью подложил...
Виктор не встал и ничего не сказал. У него горели уши, он не мог посмотреть Алексею в глаза, ерзал на стуле и молчал. В конце концов, ничего страшного. Пусть знает! А то много воображать стал... Проберут как полагается, и всё. Что ему могут сделать? А он в другой раз не будет...
Когда появился приказ об увольнении Горбачева, Виктор заметался. Это уже черт знает что! Что он такого сделал? Ну – написал, ну – говорил... Так за это увольнять? Это всё гад Гаевский подстроил, напришивал всякой ерунды и отомстил... Конечно, он мстил за «Футурум» тоже... Смятение Виктора достигло предела. Ведь «Футурум»-то придумал он сам! А когда началась история с запиской и он боялся, Лешка молчал, как могила, никого не выдал... Ну хорошо, всё это чепуха, но они-то не знают, они думают, что там и в самом деле что-то такое... Если бы тогда Виктор встал и сказал, всё бы стало ясно. А он промолчал. Лешка не предал, а он его предал. Выходит, он самый настоящий подлец?!
Виктор побежал к Иванычеву. Тот выслушал его с каменным лицом, доводы Виктора не произвели на него никакого впечатления.
– Детали меня не интересуют. Важно существо вопроса. Дискредитировал? Дискредитировал. Опорочивал? Опорочивал. Значит, таким элементам на заводе не место.
– Так это же из-за меня! Я не хочу, чтобы его увольняли, он ничего такого не сделал, чтобы увольнять!
– А по нашему мнению, сделал. И получил по заслугам. Понятно?
– Да на черта мне рекорды и всякие «молнии», если из-за них человека увольняют?!
– Ты что, – рассердился Иванычев, – думаешь, рекорд – твое личное дело? Ты сам по себе – нуль без палочки. Понятно? Общественность тебе создает условия, поддерживает, а ты рыпаешься?.. В общем, с этим вопросом кончено, иди работай!
Витковский попросту не стал Виктора слушать. Работа валилась из рук. Ему казалось, что на него посматривают косо.
Все знали, что он и Алексей – друзья, все знали, что Алексея уволили из-за него, и все знали, что он палец о палец не ударил, чтобы помочь другу...
В общежитии Алексей не ночевал, к Калмыкову не приходил. Где он мог быть, куда уйти?! Дома Виктор не находил себя места. Дал подзатыльник ни в чем не повинной Милке, нагрубил матери. Теперь он презирал и ненавидел не Алексея, а себя. Только бы его найти! Поживет пока у них, а там Виктор добьется, он до самого Шершнева дойдет, а докажет...
Он вернулся домой поздно ночью, придавленный усталостью и презрением к себе. Алексея он не нашел.
В понедельник Виктор остановил станок за десять минут до конца смены, убрал всё, умылся, повесил свой табель, как только Голомозый открыл доску, и побежал в заводоуправление.
– Куда? – привскочила со стула седая секретарша, когда Виктор ухватился за ручку двери директорского кабинета.
– Мне к директору.
– Нельзя. Сегодня неприемный день. Приходите в четверг.
– Мне срочно.
– Всем срочно, и все ждут.
– Да вы понимаете: человека уволили!
– Директор этим не занимается. Идите в завком, в отдел кадров.
– Мне нужно к нему... Он наш знакомый! – пустил Виктор в ход последний довод.
– Молодой человек, у него весь завод – знакомые. Я вам сказала – приходите в четверг.
Виктор рванул дверь и, несмотря на негодующий вопль секретарши, вошел в кабинет. Секретарша вбежала следом, схватила его за руку.
– Михаил Харитонович! Я ничего не могу сделать, прямо хулиган какой-то, – негодующе сказала она.
– Кто там? А, Гущин... Ничего, Серафима Павловна, пустите его.
Шершнев сидел в глубине большого кабинета за столом.
– Что скажешь?
Голос у Шершнева был глухой, сиплый.
– У нас уволили разметчика Горбачева. И неправильно, незаконно!
– Почему неправильно?
– Из-за меня уволили. Потому что он против меня выступал. Это всё Гаевский, из отдела кадров, и Иванычев наговорили.
– Что же они наговорили?
– А черт те что!
– Говори без чертей и по порядку.
– Ну, будто он сознательно подрывает, вообще против передовиков и связался с барыгами...
– Что такое барыги?
– Ну, спекулянты... А он вовсе не связан. Там спекулянта одного посадили, так его вызывали свидетелем, вот и всё. И он не против передовиков, а только против меня выступал.
– Что же ты его защищаешь?
– Так он же мой товарищ, самый лучший друг! Я его ещё с пацанов знаю. Он честный парень – ремесленник, детдомовец... А на него наговорили, напришивали чего хочешь, уволили и сразу – из общежития... А ему жить негде! Куда он денется? И вообще неправильно!..
– А почему он против тебя выступал?
– Ну... он считает, что неправильно про меня «молнию» выпустили и на Доску почета...
– Почему?
– Вроде я – не передовик, липовый передовик...
– А ты – настоящий?
– Я перевыполняю норму. Даю больше двухсот.
– Но ведь Горбачев это знал?
– Знал... Он говорит, я перевыполняю только потому, что мне легкие детали дают, тракторные запчасти, из этого... из спецзаказа...
– А до спецзаказа ты норму перевыполнял?
Виктор молчал.
Пламя от ушей, которые горели с самого начала, разливалось по лицу.
– Раньше ты сколько давал?
– Ну... сто два, сто три...
– Так. Выходит, Горбачев прав, ты и в самом деле передовик только потому, что тебе дали на обработку легкие детали и на них неправильная норма?
Виктор молчал.
– Что ж, его так сразу и уволили?
– Нет... Вызвали на треугольник. Вот там Иванычев, Гаевский и стали на него наговаривать.
– А ты?
– Я думал, он осознает...
– Что осознает? Что ты – настоящий передовик? Или что, когда выдвигают липовых передовиков, надо молчать?.. Так говоришь, вы – товарищи? – Шершнев помолчал и со вздохом сказал: – Говнюк, брат, ты, а не товарищ!
Виктор обиженно вскинулся и тут же снова опустил голову.
– Товарищ о тебе сказал правду, а ты обиделся? На него начали клеветать, приписывать ему всякие дела, а ты молчал? Ты же знал, что все это неправда? Знал. И молчал. Своя рубашка ближе к телу, своя шкура дороже? Какой же ты после этого товарищ?







