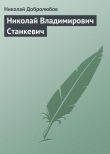Текст книги "Станкевич"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 22 страниц)
Вот что говорит Герцен: «…Взгляд Станкевича на художество, на поэзию и ее отношение к жизни вырос в статьях Белинского в ту новую мощную критику, в то новое воззрение на мир, на жизнь, которое поразило все мыслящее в России и заставило с ужасом отпрянуть от Белинского всех педантов и доктринеров. Белинского Станкевичу приходилось заарканивать; увлекающийся за все пределы талант его, страстный, беспощадный, злой от нетерпимости, оскорблял эстетически уравновешенную натуру Станкевича».
Тургенев, друг Станкевича и Белинского, надо полагать, тоже объективен в своих «Воспоминаниях о Белинском»: «Белинский был идеалист в лучшем смысле слова. В нем жили предания того московского кружка, который существовал в начале тридцатых годов и следы которого так заметны еще доныне. Этот кружок, находившийся под сильным влиянием германской философской мысли (замечательна постоянная связь между этой мыслью и Москвою), заслуживает особого историка. Вот откуда Белинский вынес те убеждения, которые не покидали его до самой смерти, тот идеал, которому он служил. Во имя этого идеала провозглашал Белинский художественное значение Пушкина и указывал на недостаток в нем гражданских начал; во имя этого идеала приветствовал он и лермонтовский протест, и гоголевскую сатиру; во имя этого же идеала сокрушал он старые авторитеты, наши так называемые славы, на которые он не имел ни возможности, ни охоты взглянуть с исторической точки зрения…»
В связи с этим небезынтересен взгляд Н. П. Барсукова и В. В. Майкова, авторов фундаментальной работы «Жизнь и труды Н. П. Погодина. Книга 4» (Погодин – профессор Московского университета, преподаватель Белинского и Станкевича. – Н. К.). Передавая отношение Погодина к деятельности московских кружков 1830-х годов, они отмечают: «В среде студентов тогдашнего Московского университета образовалась целая плеяда даровитых юношей… Главным образом замечательны были два кружка, которые составились тогда среди студентов и представляли два разных направления, бродивших в умах… Главою первого кружка был Герцен… Кружок этот увлекался общественными теориями под влиянием преданий двадцатых годов, политической литературы и событий в Западной Европе; знакомство с Сен-Симоном окончательно установило социальное направление его стремлений. Главою второго кружка сделался Николай Владимирович Станкевич. Люди, составлявшие этот кружок, воспитывались по философии, выслушанной у Павлова и Надеждина, и, увлеченные заманчивою перспективой решений глубочайших вопросов человеческой мысли, они отдались исканию этих решений, пренебрегая всем остальным как ничтожным в сравнении с этими всеобъемлющими вопросами… Но истинною главою этих двух студенческих кружков по своему нравственному достоинству и замечательному дарованию был Николай Владимирович Станкевич. Чем был Андрей Тургенев, друг Жуковского, Батюшкова, князя Вяземского, для поколения, предшествовавшего 1812 году; чем был Веневитинов для поколения, принадлежавшего 1825 году, таким стал Станкевич для молодых людей между 1835 и 1840 годами. Кружку Станкевича был много обязан своим развитием прославившийся впоследствии Белинский…»
Не обойтись в нашем повествовании и без лица заинтересованного, а именно Анненкова, первого биографа Станкевича. Написанная им в 1857 году история жизни Станкевича является не только первым опытом создания документальной биографии этой личности, но также и первым актом эстетической стилизации идейного облика идеалиста 30-х годов. Анненкова уже тогда упрекали за то, что он, нарисовав «идеального рыцаря» философского романтизма и прекрасный облик «Небесного Николая», якобы укреплял и распространял мысль о школярской зависимости Белинского от Станкевича и его кружка.
А между тем Анненков, собирая материалы о Станкевиче, опирался на его переписку и свидетельства современников: друзей, товарищей, родных, университетской профессуры, в том числе и на Белинского. К слову, Анненков являлся близким другом Белинского последних лет его жизни. Поэтому Анненков имел все основания говорить о том, что «мысль» и «чувство» Станкевича господствуют среди молодежи его времени, его философское развитие опережает всех друзей, которых он засаживает за философию. «Причина полного неотразимого влияния» заключалась «в возвышенной его природе, в способности нисколько не думать о себе, невольно увлекать всех за собой в область идеала». «Светлый образ Станкевича» являлся «представителем всего направления». Белинский уступал ему и по благородству характера, и по кругу знаний, и, наконец, по склонности к философии. «В круге Станкевича идеи германских мыслителей были в постоянном обращении: друзья его сходились для обсуждения их и взаимного обмена соображений, порожденных неутомимым чтением; из этого первоначального родника своей литературно-критической деятельности Белинский выносил строго обдуманные статьи. Белинский может назваться по преимуществу обобщителем идей», он всего лишь «досказывал» Станкевича.
Ему, Анненкову, принадлежит и эти слова: «…Замечательная личность из кружка Станкевича, хорошо знакомая современникам нашим: мы говорим о В. Г. Белинском. Она посвятила себя на борьбу со всем, что ей казалось обманом, лицемерием, косностью и неоправданным самодовольством в литературе и обществе. Наделенная пылким, огненным характером, она издержала на эту борьбу всю себя до плоти и крови своей и умерла, оставив после столько же преданной любви, сколько и ожесточенной ненависти. Но врожденное отвращение от всякой лжи, претензии и призрака, столь необходимое для литературной борьбы, известный критик наш воспитал и укрепил в сообществе человека, который отвергал их примером собственного существа и не щадил как в себе, так и в самых близких людях».
Наконец, для окончательного установления истины используем авторитетное мнение Добролюбова. И хотя оно достаточно объемно, приведем его полностью. Итак, он пишет:
«Мы не скажем, что Белинский заимствовал свои мнения до 1840 года у Станкевича: это было бы слишком много. Но, несомненно, что Станкевич деятельно участвовал в выработке тех суждений и взглядов, которые потом так ярко и благотворно выразились в критике Белинского. Мы не станем следить здесь за развитием общих философских положений, обсуждавшихся в кружке Станкевича и сделавшихся потом надолго благотворным источником критики Белинского. Здесь можно было бы найти много данных для определения значения Станкевича в кругу его друзей; но мы уклоняемся от рассмотрения этого вопроса – отчасти потому, что оно завлекло бы нас очень далеко, а главным образом потому, что это дело изложено уже гораздо подробнее и лучше, нежели как мы могли бы это сделать, в одной из статей о критике гоголевского периода литературы, помещавшихся в «Современнике» 1856 г. Мы обратим здесь внимание на явления более частные, касающиеся преимущественно тогдашних литературных явлений. В этом случае замечательно, что в письмах Станкевича встречаются большею частию раньше общие заметки мнения, которые потом, после небольшого промежутка времени, являются уже основательно и подробно развитыми в статьях Белинского. Видно, что Белинский был наиболее энергическим представителем этого кружка; а может быть, он имел и более материальной надобности высказывать в печати убеждения, выработанные им в обществе друзей, которые менялись своими идеями между собою. Во всяком случае, очевидно, что при образовании литературных взглядов и суждений в кружке друзей своих Станкевич никогда не был лицом пассивным и даже имел некоторое влияние. Степени и подробности этого влияния, конечно, нельзя определить тому, кто не был сам в кружке Станкевича; но что влияние было, свидетельствуют многие черты, сохранившиеся в переписке. Так, еще в 1833 году Станкевич высказывает в письмах свои мысли о театре и театральном искусстве, развитые потом Белинским на нескольких страницах «Литературных мечтаний», напечатанных в «Молве» в 1834 г. В том же году Станкевич высказывает свое мнение об игре Мочалова и Каратыгина, и оно же выражается в статьях Белинского в «Молве» 1835 года и даже позже в «Наблюдателе».
Во всех письмах Станкевича, начиная с 1834 года, постоянно выражается особое увлечение Гофманом; с тем же характером является это увлечение и у Белинского, особенно в статье о детских книгах в «Отечест. Записках» 1840 г., № 3. Тотчас по выходе первого № «Библиотеки для чтения» Станкевич писал (15 января 1834 г.) к Я. М. Н<еверо>ву:
Ты, верно, читал кое-что из № 1 «Б. д. чт.». Боже мой! что это? Так как это журнал литературный, то, прочитав безжизненное стихотворение Пушкина и чуть живое Жуковского, я, чтобы видеть направление его, взглянул в отделение критики. Кажется, это подвизается Сенк<овский>. Он спрашивает, напр., должно ли исторической драме нарушать свидетельства истории? Воображение действует, след., история должна быть нарушена. Какая польза от истории? История полезна одним только: она представляет пример характеров для подражания! А что толкуют о Кукольнике – беда! Великий Байрон, великий Кукольник! Если К. не так слаб душою, чтобы не обольститься лестью, то он должен негодовать; если он доволен – пропал поэтический талант, который я в нем допускал (стр. 83).
Не правда ли, что все эти мысли хорошо знакомы нам по критикам последующего времени? Даже фраза «великий Байрон, великий Кукольник!» неоднократно повторялась потом, в насмешку над слишком решительным критиком! Не будем продолжать начатую параллель мнений Станкевича и Белинского.
В конце 1834 г. Станкевич пишет о Тимофееве, что он не считает этого автора поэтом и даже вкуса не подозревает в нем после «мистерии», помещенной в «Библ, для чтения». В 1835 году Белинский со своей обычной неумолимостью высказал то же в «Молве», и вскоре Станкевич оправдывает критика, говоря в письме к Н<еверо>ву: «Мне кажется, что Белинский вовсе не был строг к Тим-ву, хотя иногда, по раздражительности характера, он бывает чересчур бранчив».
В марте 1835 г. Станкевич писал о Гоголе: «Прочел одну повесть из Гоголева «Миргород», – это прелесть («Старомодные помещики», так, кажется, она названа. Прочти! как здесь схвачено прекрасное чувство человеческое в пустой, ничтожной жизни!)». Именно на этой мысли основан разбор «Старосветских помещиков», помещенный Белинским в статье его «О русской повести и повестях г. Гоголя» в 7 и 8 (июньских) №№ «Телескопа».
В апреле 1835 года Станкевич извещает Не<веро>ва: «Надеждин, отъезжая за границу, отдает нам «Телескоп». Постараемся из него сделать полезный журнал, хотя для иногородних, прибавляет он. По крайней мере, будет отпор «Библиотеке» и странным критикам Ш<евырева>. Как он мелочен стал!»
В начале июня Станкевич уведомляет своего приятеля, что «Телескоп» уже передан Белинскому. «Я, – прибавляет он, – тратить времени на «Телескоп» не стану, но в каждое воскресенье мне остается два-три часа свободных, в которые я могу заняться. Кроме того, мы всегда будем обществом совещаться о журнале». Тут же говорится, что «Наблюдатель» плох и что Ш<евырев> обманул ожидания Станкевича и его друзей – и оказался педантом. Из этого видно, какое близкое, душевное участие принимал Станкевич в издании «Телескопа» Белинским, и нет сомнения, что он в самом деле много помогал ему своими советами. По крайней мере, на мнения его о Ш<евыреве> в «Московском наблюдателе» последовал отголосок в 9-й книжке «Телескопа», т. е. через два месяца, а в 5-й книжке следующего года помещена специальная статья Белинского: «О критике и литературных мнениях «Московского наблюдателя», где много досталось ученому профессору Шев<ыре>ву.
В ноябре 1835 г. Станкевич писал, что Бенедиктов не поэт, а фразер: «Что стих, то фигура, ходули беспрестанные. Бенедиктов блестит яркими, холодными фразами, звучными, но бессмысленными или натянутыми стихами. Набор слов самых звучных, образов самых ярких, сравнений самых странных, но души нет». Вслед за тем (в XI книжке «Телескопа») явилась статья Белинского о стихотворениях Бенедиктова, великолепно развившая то же самое мнение, которого критик наш до конца держался. По поводу этой статьи приятель Станкевич сообщил ему слухи о том, будто бы удары, наносимые рукою Белинского, направляемы были Станкевичем, и последний отвечал на это с обычной своей искренностью: «Не знаю, откуда эти чудные слухи заходят в Питер? Я ценсор Белинского? Напротив, я сам свои переводы, которых два или три в «Телескопе», подвергал ценсорству Белинского, в отношении русской грамоты, в которой он знаток, а в мнениях всегда готов с ним посоветоваться и очень часто последовать его советам. Конечно, его выходка неосторожна, но не более; он хотел напасть на способ составлять репутацию и оскорбил человеческую сторону Бенедиктова. Я ему это скажу».
В 1837 г. Станкевич уехал за границу, и литературные суждения в его письмах попадаются реже. Поэтому и мы здесь остановимся. Сделаем только еще выписку из одного письма Станкевича, заключающую в себе его мнение о народности. Вот что говорит он:
Кто имеет свой характер, тот отпечатывает его на всех своих действиях; создать характер, воспитать себя – можно только человеческими началами. Выдумывать или сочинять характер народа из его старых обычаев, старых действий, значит – хотеть продлить для него время детства: давайте ему общее, человеческое, и смотрите, что он способен принять, чего недостает ему? Вот это угадайте, а поддерживать старое натяжками, квасным патриотизмом никуда не годится.
Это самое мнение с удивительной близостью, даже к способу изложения, подробно и энергически развил Белинский в статьях своих от Руси до Петра, в «Отеч. Записках» 1841 г., т. е. через три года после письма Станкевича.
Мы не перебирали всех статей Белинского и всех мнений, в которых он сходился со своим другом. Мы называли только те статьи, которые мы могли припомнить и которые относятся к частным явлениям литературы. Но сходство частных суждений, по нашему мнению, еще ярче рисует связь, существующую между людьми, нежели согласие в общих истинах. Поэтому мы полагаем, что и представленных фактов довольно уже для того, чтобы отнять у всякого право сказать: между Белинским и Станкевичем не было взаимной зависимости друг от друга! Чтобы говорить это, надобно не знать деятельности Белинского до 1840 г., т. е. до смерти Станкевича».
Как видим, и Добролюбов беспристрастно оценил роль Станкевича в судьбе Белинского. А что же сам Белинский, что он думал о человеке, который поддерживал огонь на философском алтаре и давал ему возможность ни в чем не отстать от широкого умственного течения?
К чести нашего замечательного критика, он никогда не отрицал огромной роли Станкевича в своем развитии и до конца жизни хранил в своем сердце имя этого человека.
По меткому выражению Белинского, «на умственном руководительстве гипнотизированных им друзей стояла нежная, светлая и гуманная личность Станкевича с ее одинаково чуткой к мышлению и к творчеству, поэзии, искусству, натурой, одаренной способностью не подчинять, не властвовать, а вдохновлять, воспитывать, развивать, – не создавая лично, жить в мыслях и созданиях людей, им просветленных».
Вообще отношения между «Небесным Николаем» и «Неистовым Виссарионом» носили не только интеллектуальный, но и задушевный характер. Пожалуй, в то время не было для Белинского ближе друга, чем Станкевич. Белинский, всегда тянувшийся к личностям «гармоническим», обрел в Станкевиче нравственный тип, составляющий контраст и дополнение к его мятежно-бунтарской натуре.
Об искренности их отношений можно судить по той обширной переписке, которую они вели начиная с первых дней знакомства. Сохранившиеся многостраничные эпистолярные листки позволяют нам еще больше узнать о их большой дружбе и эпохе, в которой они жили и творили.
«Сиверион Григорьевич, ангел ты мой! – пишет ему Станкевич в одном из своих писем. – Ты на меня серчаешь за то, что я не писал к тебе: как быть? Одолели болести… Ты, верно, не получил письма моего из Пятигорска – иначе, наверное бы, отвечал. Каковы твои дела? Я перебираю «Телескоп» и ищу твоей беседы… вот, вот он – кулак, все сокрушающий! На этот раз он гвоздит пресловутого Кони… «Вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три». Славно – но в № 10 нет имени Виссариона!»
«Душенька Белинский! – обращается он в другом письме. – Как мне хочется с тобою увидеться и наговориться! Что каналья, что бестия! Ага, каналья! Тешься подлец, а мне…
Пора, пора, в рога трубят —
Псари в охотничьих уборах…»
Такими же дружескими чувствами пронизаны и письма Белинского Станкевичу. «Друг мой, Николенька!» – этими словами обычно начинал он свои послания. И дальше: «Наконец-то я собрался писать к тебе… Ах, Николай, Николай, когда я увижу тебя, мне это представляется чем-то невозможным, фантастическим. Не сердись на меня, что редко и мало пишу к тебе».
Белинскому тоже не терпелось вдоволь наговориться со своим другом. И хотя он писал редко, но зато много. Некоторые из его изданных писем Станкевичу написаны в один, а то и два авторских листа (примерно 80 тысяч знаков. – Н. К.). Впрочем, у Станкевича письма не меньше.
По сути, письма Станкевича и Белинского – это литературные произведения, в которых переплелись жанры статьи, рецензии, очерка, рассказа… Сегодня они дают нам возможность узнать то, что происходило в русской общественной и литературной жизни. Одновременно эти письма являются важным источником, имеющим огромное значение для изучения личности и творчества их авторов, эпохи, в которой они жили, людей, которые их окружали и входили с ними в прямое общение.
Но диалог через письма, хотя они и проникнуты лиризмом, философствованиями, непринужденностью стиля, острыми, подчас нескромными шутками, – это все-таки не живое общение. К тому же оно обусловлено определенными обстоятельствами, когда люди по тем или иным причинам вынуждены находиться далеко друг от друга.
Станкевич и Белинский, бывало, не виделись месяцами. А в 1837 году, с отъездом Станкевича за границу, расстались навсегда. И тем не менее много времени, а это не один год, друзья находились рядом. Они вместе ходили в театр, заглядывали в гости к Аксаковым, Боткиным, Беерам, М. С. Щепкину, Мельгунову… Там вели нескончаемые разговоры вокруг новой западной литературы и ее представителей – Гёте, Шиллера, Бальзака, Сю. Из русских авторов наибольший интерес вызывали Пушкин, Гоголь, Баратынский, Кукольник, Полевой.
Друзья часто посещали известный литературный салон Екатерины Левашовой, где бывали Пушкин, Чаадаев… Регулярны были также прогулки по Москве, в ходе которых они продолжали вести свои задушевные беседы на различные темы. Послушаем рассказ Станкевича об одной такой прогулке во время Пасхи:
«До 12-ти мы с Красовым не ложились… В половине 12-го мы вышли во двор и ходили с трубками, погода была тихая, прекрасная, небо ясно и усыпано звездами… Вдруг ударили колокола и вся Москва забалабонила. К нам пришел Белинский и увлек нас в Кремль. Мы подходили к Иверской и услышали пушки: Василий Блаженный вдруг озарится их молнией, и удар рассыпается по Кремлю. Пока дошли мы до места, стрелять уже перестали, но мы издали слышали музыку и пальбу – возвратились к заутрене к Козьме и Дамиану. Потом я целый день славил Христа…»
Случались их совместные поездки и за пределы Белокаменной. Часто, к примеру, бывали в Тверской губернии, где в Прямухине, неподалеку от Торжка, проживало большое семейство Бакуниных. Оно принадлежало к числу редких в те времена семейств, где жизнь не была похожа на обычные нравы помещичьего быта и где, напротив, были знакомы и ценимы умственные и эстетические интересы. Прибытие гостей неизменно оживляло жизнь в усадьбе. Завязывались споры, длящиеся часто до утра; дом превращался то в философский клуб, в котором царили Гердер, Шеллинг, Кант и Гегель, то в музыкальную гостиную, где главенствовали Моцарт, Шуберт, Бетховен…
В этой семье, включая пятерых братьев Михаила Бакунина, было еще четыре сестры – Варвара, Любовь, Татьяна и Александра. Образованные, прекрасно воспитанные, милые и неглупые молодые девушки придавали прямухинскому дому аромат изящества и интеллектуальности. За одной из сестер – Любовью ухаживал Станкевич, а Белинский был увлечен самой младшей – Александрой.
В амурных делах Станкевич был опытнее друга. Белинский в обществе прекрасных дам лишался дара речи и становился сам не свой, считая себя некрасивым и недостойным внимания барышень. Он мучился и паниковал. Но именно Станкевич помогал ему преодолевать робость перед женским полом.
Расставаясь, Станкевич и Белинский жили ожиданием встречи. И даже тогда, когда Станкевич уехал на лечение за границу, друзья мечтали скоро свидеться. Но надеждам не суждено было сбыться. Вдали от России первым уйдет из жизни «Небесный Николай». Ненадолго переживет своего друга и «Неистовый Виссарион». Однако до конца дней своих оба они хранили верность дружбе, которой всегда дорожили.
Панаев вспоминал, как у Белинского слезы дрожали на глазах, когда он рассказывал ему о Станкевиче и знакомил с его «нежною, тонкою, симпатическою личностию». «Станкевич был душою, жизнию нашего кружка, – прибавил Белинский в заключение, – теперь уже не то. Самое цветущее наше время прошло! Он своей личностию одушевлял и поддерживал нас. Бакунин как ни умен, но он не может заменить Станкевича…»
В рабочем кабинете Белинского висел акварельный портрет Станкевича. Он часто, глядя на него, мысленно разговаривал с другом. Буквально за несколько часов до смерти Белинский вновь бросил взгляд на портрет и тихо прошептал:
– Куда делась гениальная личность Станкевича?..
Потом, собравшись с силами, которые все больше его покидали, задумчиво сказал:
– Нам – мне, Боткину, Бакунину, Аксакову, Тургеневу – всем нам казалось невозможным, чтобы смерть осмелилась подойти к такой божественной личности. Подумайте о том, что был каждый из нас до встречи с ним. Нам посчастливилось…
Слова эти Белинский произнесет в мае 1848 года. А пока жизнь продолжалась…