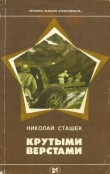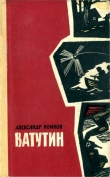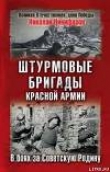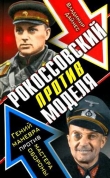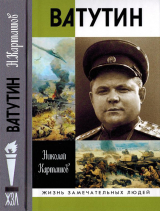
Текст книги "Ватутин"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Приводимая ниже таблица[17]17
Таблица составлена по материалам книги: Суверинов О. Ф. Трагедия РККА. 1937—1938. М., 1998 – с рядом более поздних дополнений.
[Закрыть] – красноречивое свидетельство того, сколько перед Великой Отечественной войной «врагов народа» было репрессировано и истреблено только среди высшего и старшего командирского состава.


1 Расстреляны, умерли под стражей, покончили с собой.
2 Коринженеры, коринтенданты, корврачи, корветврач, корвоенюристы.
3 Дивинженеры, инженер-флагманы 2-го ранга, дивинтенданты, диввоенврачи, диввоенюристы.
4 Бригинженеры, инженер-флагманы 3-го ранга, бригинтенданты, бригвоенврачи, бригветврачи, бригвоенюристы.
За этими цифрами стояли конкретные люди, многих из которых Ватутин хорошо знал, – сослуживцы, командиры, начальники, преподаватели... В Академии Генерального штаба, в которой он еще вчера овладевал оперативным искусством, в 1937—1938 годах были арестованы и оклеветаны уже упоминавшиеся в нашем повествовании видные ученые, создатели фундаментальных трудов, в том числе и военно-исторических, – Верховский, Свечин, Алафузо, Жигур и другие. Не минула эта горькая участь и начальника академии комдива Кучинского.
В Сибирском военном округе, откуда Ватутин прибыл на учебу в Москву, также прошли повальные аресты командиров и политработников. Как свидетельствуют документы, с 1 мая по 11 ноября 1937 года в округе были арестованы или осуждены по контрреволюционным преступлениям 479 военнослужащих. Больше всего «врагов трудового народа» и «шпионов» – 94 человека – работники НКВД выявили в 78-й стрелковой дивизии. 22 ноября 1937 года командующий войсками СибВО комкор М. А. Антонюк на заседании Военного совета при НКО СССР доложил К. Е. Ворошилову и всем собравшимся: «В Сибирском военном округе, как и в других округах, враги народа, шпионы, вредители крепко приложили свою руку, чтобы подорвать боеспособность войск. Нет ни одной отрасли работы, товарищ народный комиссар, где бы не было вредительства. Чем глубже копнешь, тем больше находишь и тем скорее изживаешь в практической работе это вредительство».
Виновными Антонюк назвал прежнее командование СибВО – уже арестованного комкора Я. П. Гайлита, который, как сказано выше, будучи командующим войсками округа, рекомендовал Ватутина для поступления в Академию Генерального штаба. К числу «врагов народа» Антонюк причислил заместителя начальника политуправления округа дивизионного комиссара Н. И. Подарина, военного комиссара 57-го стрелкового корпуса А. П. Прокофьева и других.
Аналогичная картина была и в Киевском военном округе: только в период с июня по ноябрь 1937 года там уволили 1894 человека, из них 861, то есть почти половина, были арестованы как участники антисоветского военного заговора. Эти и другие страшные факты приводили Ватутина в состояние растерянности. «Кому верить?», «Как могло такое случиться?», «Что вообще происходит?» – задавал он себе подобные вопросы. Они не давали ему покоя и в поезде, который вез его в Киев. Мысли обгоняли монотонный стук паровозных колес. «Почему же все-таки арестовали маршалов, командармов, комкоров?» Верил ли Ватутин в их вину? Сказать твердое «нет» он не мог – слишком непоколебима была его вера в правильность генеральной линии партии, её вождя товарища Сталина. Но сомнения все же были. И сейчас, вглядываясь в пролетавшие мимо вагонных окон редкие огоньки украинских сел и хуторов, он думал о людях, которых трудно было заподозрить в шпионаже, участии в заговорах или других злодеяниях. Душу грела надежда, что Сталин во всем разберется, правда восторжествует, а те, кто его ввел в заблуждение, будут строго наказаны.
Вскоре так оно и случится. В августе 1938 года при Управлении по начсоставу РККА была создана специальная комиссия для разбора жалоб уволенных командиров и политработников. Всего комиссией было рассмотрено около 30 тысяч жалоб, ходатайств, заявлений. В результате ее работы к началу 1940 года было восстановлено в РККА из уволенных в 1937 году 4661, из уволенных в 1938 году – 6333 и из уволенных в 1939 году – 184 человека. Кроме того, 2416 была заменена статья увольнения на более благоприятную. Работа комиссии продолжалась и далее, и на 1 мая 1940 года в ряды Красной армии был возвращен 12 461 уволенный командир и политработник. Однако большинство трагических ошибок уже невозможно было исправить. Они, эти «ошибки», будут повторяться и в последующие годы, вплоть до смерти Сталина.
В тяжелых раздумьях незаметно пролетела короткая июльская ночь. Первые лучи солнца брызнули в купе вагона. Сразу после железнодорожной станции Дарница, рядом с которой находились знаменитые полевые лагеря, Ватутин почти неотрывно смотрел в окно. Именно в этих местах в начале 1920-х годов, будучи слушателем Киевской высшей объединённой военной школы, он по-пластунски ползал по заднепровским низинам, поднимался в учебные атаки, постигая трудную науку побеждать. И вот новая встреча с Киевом, городом его краскомовской молодости.
Промелькнули высокие фермы моста через Днепр. Ярко засверкали на солнце выглядывавшие из буйной зелени золотые купола храмов и церквей Киево-Печерской лавры. Радостно прокричал гудок паровоза. Густой пар клубами вылетал из его трубы. Навстречу уже бежали вокзальные строения, перрон...
Глава 6. В КИЕВСКОМ ОСОБОМ...
Прямо с вокзала, куда за Ватутиным прислали машину и офицера, он прибыл в штаб и сразу, как того требует устав, представился командующему войсками Киевского военного округа командарму 2-го ранга Ивану Федоровичу Федько. Эта была их первая встреча, прежде армейские пути-дороги Федько и Ватутина не пересекались.
Высокий, крепко сложенный, с четырьмя орденами Красного Знамени на ладно сидящей форме, Федько выглядел старше своих сорока лет. Строгое крупное лицо, густая щетка усов добавляли ему годы. Хотя разница в возрасте между ним и Ватутиным составляла всего четыре года. За плечами Федько был большой послужной список. Выходец из крестьян, он тем не менее в Первую мировую войну дослужился до офицерского чина. В Гражданскую – командовал полком, дивизиями, группами войск, исполнял обязанности главнокомандующего революционными войсками Северного Кавказа... После Гражданской войны, в 1921 году, будучи командиром 187-й курсантской стрелковой бригады участвовал в подавлении мятежа моряков Кронштадта. В том же году, являясь командиром 1-го боевого участка, отличился в боях с восставшими крестьянами Тамбовской губернии. В дальнейшем Федько занимал различные командные должности, в том числе возглавлял штаб Северо-Кавказского военного округа, командовал войсками Приволжского военного округа... На Киевский военный округ он пришел с должности командующего Приморской группой войск ОКДВА[18]18
Отдельная Краснознамённая Дальневосточная армия.
[Закрыть], сменив командарма 1-го ранга И. Э. Якира. Безусловно, это был опытный, прошедший большую практическую школу военачальник, не без основания назначенный руководить крупнейшим военным округом страны.
– Я сам здесь без году неделя, – начал разговор Федько. – Полтора месяца назад как вступил в должность. Проблем, откровенно скажу, выше крыши, а самая главная – это отсутствие надежных и знающих дело кадров. К сожалению, многие командиры и начальники оказались «врагами народа», вредителями, шпионами. Как следствие органам военного управления, соединениям и частям округа нанесен серьезный урон, из-за чего идут сбои в организации управления войсками, наблюдается падение воинской дисциплины, снизился уровень боевой выучки и политико-морального состояния войск.
Федько рубил фразами хлестко, безапелляционно.
– Враги и их прихвостни еще сидят в частях и соединениях округа и делают свое грязное дело, – продолжал он. – Наша задача до конца выкорчевать всю эту нечисть и сволочь...
В такой непростой обстановке, когда всем, начиная от командующего, мерещились вокруг враги, шпионы и предатели, Ватутин приступил к исполнению своих обязанностей. Первое, что бросилось в глаза, – это тревога, растерянность, нервозность и подавленность на лицах подчиненных. А иначе и быть не могло: в штабе больше половины начальников отделов и их заместителей были арестованы. На некоторые вакантные места были назначены офицеры, зачастую даже не представлявшие, чем им нужно заниматься. Никто из них не знал, что с ними будет сегодня, завтра, в ближайшие недели и месяцы. Не знал этого и сам Ватутин, поскольку обстановка усугублялась атмосферой всеобщей подозрительности.
Подтверждение этому находим в воспоминаниях Героя Советского Союза генерала армии А. В. Горбатова, в 1937 году комбрига, командира 2-й кавалерийской дивизии Киевского военного округа: «То там, то тут стали арестовывать командиров, о которых мы никогда ничего плохого не слыхали. Из уст в уста шепотом передавались слухи – один нелепее другого – о каких-то заговорах и шпионских злодеяниях. Люди ходили понурые, подавленные, держались отчужденно...»
В этих условиях необходимо было вернуть людям веру, вселить в них уверенность и мобилизовать на решение стоящих задач. Так Ватутин и поступил. Во многом его стараниями работа штаба вошла в привычную колею. «Н. Ф. Ватутин не терпел формализма и волокиты, – пишет о том периоде Ю. Д. Захаров, автор биографического очерка «Генерал армии Н. Ф. Ватутин», изданного Военным издательством в 1985 году. – Любой вопрос, с которым к нему обращались, решал быстро и четко. В отношениях с подчиненными всегда сохранял спокойствие и корректность. И если видел, что кому-то что-либо не ясно, терпеливо объяснял, советовал, учил. Это еще больше поднимало его авторитет в глазах подчиненных».
В октябре 1937 года при активном участии Ватутина под Житомиром были проведены опытно-показательные маневры, в ходе которых отрабатывались вопросы управления войсками, наступательного боя, организации обороны, десантирования личного состава. Оценивая их результаты, командующий округом командарм 2-го ранга Федько отметил умелые действия танкистов, летчиков, парашютистов, артиллеристов. Не осталась незамеченной и работа штабов, которые обеспечили подготовку этих маневров.
График работы нового заместителя начальника штаба был достаточно плотным. Планирование и подготовка учений, командно-штабных тренировок, разработка приказов директив, разного рода совещания, выезды в войска, решение организационных вопросов – это и многое другое занимало значительную часть суток, не оставляя Ватутину практически времени ни для выходных, ни хотя бы для свободных вечеров.
Домой, а жила его семья в двухэтажном особняке для высшего комсостава на улице Розы Люксембург[19]19
До 1919 года эта улица именовалась Екатерининской, а в 1993 году улицу Розы Люксембург переименовали в Липскую. Это название она носит и сегодня.
[Закрыть], Ватутин возвращался обычно очень поздно. Войдя в квартиру, он, прежде всего, обнимал и целовал свою Танечку – Татьяна Романовна никогда не ложилась спать, не дождавшись мужа. Потом тихонько, на цыпочках шел к спящим детям – дочери и сыну, чтобы их увидеть и поцеловать. Ватутин очень любил семью, скучал по ней даже во время недолгих расставаний. Татьяна Романовна была его надежным тылом. Приготовив ужин и уложив детей спать, она всегда терпеливо ждала мужа. Это были, пожалуй, самые тревожные часы ожидания в её жизни, особенно в 1937—1938 годах. Тишина стояла настороженная. Если в гулком ночном подъезде слышалось множество торопливых шагов, значит, за кем-то пришли или кого-то повели... Борьба с «врагами народа» продолжалась.
Сохранилось постановление Военного совета Киевского военного округа «О состоянии кадров командного, начальствующего и политического состава округа», принятое 25 марта 1938 года. Вот выдержки из этого документа: «Враги народа, имевшие своей целью подготовку поражения РККА, на все руководящие должности подбирали свои кадры, выдвигали узкий круг людей на высшие должности, а растущих преданных партийных и не партийных большевиков “мариновали” на низовой работе. В результате этого в большинстве на руководящих должностях штаба округа, командиров, комиссаров, начштабов корпусов и дивизий, частично и полков, оказались враги народа и их приспешники. Поэтому Военный совет поставил задачей “выкорчевывание” врагов народа и подбор на руководящие должности преданных и растущих командиров. В итоге беспощадного “выкорчевывания” троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических элементов на 25 марта 1938 года проведено следующее обновление руководящего состава округа: командиров корпусов на 100%, командиров дивизий на 96%, командиров бригад на 55%, командиров полков на 64%, комендантов УРов на 100%, начальников штабов корпусов на 67%, начальников штабов дивизий на 72%, начальников штабов полков на 58%, начальников отделов штаба округа на 84%...»
В цифрах это «выкорчевывание и обновление» выглядит так: из девяти командиров корпусов девять, из 25 командиров дивизий – 24, из 135 командиров полков – 87, из девяти начальников штабов корпусов – шесть, из 25 начальников штабов дивизий – 18, из 135 начальников штабов полков – 76, из 24 начальников отделов штаба округа – 19. Всего было уволено из частей округа по политико-моральным причинам 2922 человека, из них арестовано органами НКВД 1066.
Кто-то из чересчур бдительных сослуживцев состряпал донос и на Ватутина. Вот рассказ дочери полководца Елены Николаевны Ватутиной:
«Ватутина чуть не поставили к стенке ещё в 1937 году, когда пошла волна репрессий. В конце 1937 года арестовали папиного предшественника на должности заместителя начальника штаба округа Василия Бутырского... Вскоре забрали и жену дяди Васи. Их двоих мальчиков приютили родственники. Через некоторое время жену Бутырского – тетю Нину выпустили. Мы еле узнали её, когда к нам в дверь тихонько поскреблась тощая седая старуха. А ведь была цветущей женщиной! Квартиру у неё отобрали. Она ютилась в подвале. Папа с мамой по вечерам, делая вид, что выгуливают собаку Тузика, подбрасывали ей в подвал сахар, продукты, деньги. Тузик же, почуяв приближение чужих, начинал рычать и лаять. Узнай энкаведисты, что Ватутин помогает жене врага народа, они тут же сплели бы ему лапти! Тем более что в 1937 году на него поступил донос, якобы он женат на дворянке, графской дочери. Целая комиссия ездила на родину отца, в Валуйки, проверять его подноготную до седьмого колена. И выяснила, что женился он на красивой, но бедной неграмотной девушке. Ей в загс не в чем было идти! Так кто-то сделал ей сандалии из деревянных дощечек с веревочками сверху. Папа сам научил маму читать и писать. Позже она превзошла его в культурном развитии и активно приобщала к театру, опере, хорошей литературе. Когда же проверка НКВД закончилась, папа, грозя кому-то кулаком, сказал маме: “Даже если бы ты была графиней, я все равно от тебя не отрекся бы!”».
Приведенное дочерью Ватутина свидетельство дополним небольшим уточнением. Говоря о Василии Бутырском, Елена Николаевна назвала его предшественником отца на должности заместителя начальника штаба. Это не совсем так. Комдив Василий Иванович Бутырский действительно был заместителем начальника штаба округа, но в 1935 году – за два года до назначения Ватутина на эту должность. Через год он возглавил штаб, а в марте 1937 года был направлен в служебную командировку в Испанию в качестве заместителя главного советника при Генеральном военном комиссариате. По возвращении из Испании, 20 декабря 1937 года Бутырского арестовали, в ноябре 1938 года расстреляли. Ватутин, о чём сказано выше, вступил в должность заместителя начальника штаба округа в июле 1937 года. До него эту должность занимал комбриг А. А. Лабас, которого арестовали 3 июля того же года. Начальником штаба в тот период являлся комдив И. В. Смородинов. Однако уточнение сути дела не меняет. Нам важен сам рассказ дочери Ватутина о событиях того страшного времени.
Сейчас трудно ответить на вопрос, почему Николай Федорович не попал под колеса той мощной репрессивной машины, которая беспощадно давила и уничтожала командные кадры Красной армии. Между тем он в любой момент тоже мог оказаться среди тех, кого объявили «враждебным элементом» или «врагом народа». Как известно, в камеры и подвалы НКВД люди часто попадали только за то, что встречались с тем или иным человеком, объявленным «врагом народа». Таких встреч, не говоря уже о годах совместной службы и учебы со многими «предателями дела революции» и «иностранными шпионами», у нашего героя было, как сказано выше, более чем предостаточно.
А может, Ватутин уцелел благодаря тому, что сам участвовал в кампании по «выкорчевыванию врагов народа»? Как считают некоторые историки, отдельные будущие полководцы и военачальники Великой Отечественной войны не попали под топор репрессий только благодаря тому, что сами строчили доносы. Если обратиться к аттестации Ватутина того периода, получается, что и его нельзя исключать из этого списка. Итак, читаем: «Товарищ Ватутин Н. Ф. идеологически устойчивый, морально выдержанный, бдителен, беззаветно предан делу партии Ленина—Сталина и социалистической Родине... Активно боролся с врагами народа и провел большую работу по ликвидации последствий вредительства. В партийно-политической работе принимает самое активное участие. Связан с массой, чутко относится к нуждам и запросам командного состава и красноармейцев. Правильно нацеливает и мобилизует парторганизацию и командный состав на выполнение поставленных задач».
В объективности характеристики сомневаться не приходится. Однако, что касается активной борьбы Ватутина «с врагами народа», то никаких подтверждений в архивах обнаружить не удалось. Приведенная же в аттестации фраза не более чем обязательный атрибут для такого рода документов. Аналогичные или подобные фразы можно встретить практически в каждой аттестации той эпохи. Так того требовал секретный приказ наркома обороны № 0174 от 16 сентября 1938 года, в соответствии с которым в обязательном порядке должна была даваться оценка «преданности партии Ленина—Сталина аттестуемого». Отдельно необходимо было отразить его участие в «очистке армии от неугодных, политически сомнительных, чуждых и враждебных элементов». Все эти требования при написании аттестации на нашего героя соблюдены.
Тогда почему Ватутину удалось избежать расстрельной статьи? Как вспоминала дочь, а она в свою очередь ссылалась на мать Татьяну Романовну, ему просто выпал счастливый жребий, благодаря которому он и не попал в кровавую мясорубку. Так в армии остался талантливый полководец, сыгравший ряд главных ролей на фронтах Великой Отечественной войны. Не случайно многие уцелевшие в те годы командиры и начальники регулярно получали новые назначения и быстро двигались по служебной лестнице. Ватутин не был исключением.
В ноябре 1938 года он был назначен начальником штаба Киевского особого военного округа. Его предшественника – комдива И. В. Смородинова перевели в Москву, где он занял должность заместителя начальника Генерального штаба РККА. Чуть раньше, в январе, повышение получил и командующий войсками округа командарм 2-го ранга Федько – его назначили 1-м заместителем наркома обороны СССР. Однако за взлетом последовало резкое падение: 7 июля Федько, к тому времени ставший командармом 1-го ранга, был арестован как «враг народа». Сначала он отказывался признать за собой какую-либо вину. Но опричники из НКВД вскоре добились своего: после жестоких избиений и пыток Федько сознался в том, что принимал участие в «военно-фашистском заговоре». 26 февраля 1939 года его приговорили к смертной казни и в тот же день расстреляли...
Дальнейшая служба Ватутина, его становление как начальника штаба проходили под началом уже нового командующего войсками округа – командарма 2-го ранга С. К. Тимошенко, с которым у Ватутина с первого дня знакомства сложились хорошие отношения. Семен Константинович принадлежал к славной когорте командиров, взращенных в сабельных атаках еще в годы Гражданской войны. По воспоминаниям современников, он являл собой тип человека, как бы созданного самой природой для военной службы: рост под два метра, крупные, словно литые, плечи и безупречная выправка, достойная кавалергарда. А военная форма на нем сидела так, будто он в жизни ничего не носил другого.
В Первую мировую войну Тимошенко воевал пулеметчиком в составе 4-й кавалерийской дивизии на Юго-Западном и Западном фронтах. За храбрость был удостоен трех Георгиевских крестов. На фронтах Гражданской войны Тимошенко командовал взводом, эскадроном, кавалерийской бригадой, а затем и дивизией. «В Гражданскую войну под Тимошенко было убито семнадцать лошадей», – уважительно говорил о нём Сталин. Был пять раз ранен. К прежним наградам Тимошенко добавились три ордена Красного Знамени и почетное революционное оружие. В дальнейшем он занимал высокие армейские должности, в том числе командовал корпусами, был заместителем командующего войсками Белорусского и Киевского военных округов, а затем последовательно командовал войсками Северо-Кавказского и Харьковского военных округов. Несмотря на занимаемые им высокие посты, Семен Константинович отличался простотой и общительностью, украинский акцент придавал его речи особую колоритность и задушевность, а потому его уважали и любили в войсках.
В военном отношении Тимошенко был подготовленный и разбирающийся в вопросах службы войск, тактики и оперативного искусства военачальник, что импонировало Ватутину. Для Тимошенко, в свою очередь, лучшей аттестацией Ватутина служили его отличные знания штабной работы, трудолюбие, хорошие организаторские способности, ясный ум, неторопливая обстоятельность, интеллигентность и выдержка.
Что на командующем Тимошенко, что на начальнике штаба Ватутине лежала огромная ответственность за положение дел в округе. Киевский особый военный округ (добавление «особый» округ получил 26 июля 1938 года) являлся приграничным, и это определяло его стратегическую значимость для обороны страны. На территории округа дислоцировалась наиболее крупная на Западном направлении группировка войск Красной армии. Перед войсками стояли задачи обороны огромной по протяженности государственной границы, в соответствии с которыми группировка должна была «не допустить вторжения как наземного, так и воздушного противника на территорию округа. Упорной обороной укреплений по линии госграницы прочно прикрыть отмобилизование, сосредоточение и развертывание войск округа. Противовоздушной обороной и действиями авиации обеспечить нормальную работу железных дорог и сосредоточение войск округа. Всеми видами разведки своевременно определить характер сосредоточения и группировку войск противника. Активными действиями авиации завоевать господство в воздухе и мощными ударами по основным группировкам войск, железнодорожным узлам и мостам нарушить и задержать сосредоточение и развертывание войск противника. Не допустить сбрасывания и высадки на территории округа воздушных десантов и диверсионных групп противника. При благоприятных условиях всем обороняющимся и резервам армий и округа быть готовыми по указанию Главного Командования к нанесению стремительных ударов для разгрома группировок противника, перенесения боевых действий на его территорию и захвата выгодных рубежей...»
По приказу народного комиссара обороны СССР в округе были сформированы четыре армейские группы – Житомирская, Винницкая, Одесская и кавалерийская. В первую были включены части, учреждения и заведения, расположенные в Житомирской, Киевской и Черниговской областях; во вторую – части, учреждения и заведения, находившиеся на территории Винницкой и Каменец-Подольской областей; в третью – части, учреждения и заведения, дислоцировавшиеся на территории Одесской, Николаевской областей и Молдавской АССР. Эти группы представляли собой крупные объединения армейского типа, имевшие в своём составе стрелковые дивизии, танковые бригады, артиллерийские, инженерные части и войска обеспечения. Четвёртая, кавалерийская, группа была создана как сильное подвижное соединение из двух кавалерийских корпусов (1-го и 2-го), танковых, артиллерийских, инженерных и других частей.
Основным органом руководства войсками был штаб округа, который организационно состоял из следующих отделов: оперативного; разведывательного; организационно-мобилизационного; военных сообщений; устройства тыла и снабжения; укомплектования и службы войск; укрепленных районов; топографического; финансовой и хозяйственной части; комендатуры. В сферу их деятельности входили вопросы военно-административного управления, формирования, укомплектования и снабжения частей и соединений, боевой и политической подготовки личного состава, а также разработка мобилизационных планов и оперативного использования войск.
На всю эту структуру возлагалось огромное количество различных задач. Их успешное решение во многом зависело от грамотности, принципиальности, организаторских способностей и ответственности руководителя. Именно таким руководителем и проявил себя Ватутин. В штабах округа был создан режим предельно напряженной работы. Ватутин требовал оперативности, точности исполнения, и войска сразу почувствовали, что пришел профессионал своего дела. Причем он никогда не ограничивал свою штабную работу лишь бесчисленным потоком документов. В ее основе всегда лежали практические дела в войсках, широкое общение с личным составом всех категорий и постоянное расширение рамок своей деятельности. Этими правилами Ватутин руководствовался раньше, когда служил в полку, дивизии и отделах военных округов. Все это позволяло ему держать в руках нити управления, которыми обеспечивается командир, вносило разнообразие в штабной труд, делало его интересным и полезным.
«Ватутин любил поднимать войска и штабы по боевой тревоге с непременным выводом их в поле, – пишет военный историк С. П. Куличкин. – В работе штаба округа он не терпел волокиты, формализма и бюрократизма. Сам работал оперативно и четко. В разговоре с подчиненными он был неизменно спокоен, корректен, не торопил их, не одергивал, терпеливо объяснял непонятное, показывал, учил. Все это поднимало его авторитет, вызывало не только уважение к нему, но и любовь. Вместе с тем войска чувствовали, что штаб округа возглавил энергичный, требовательный, высокообразованный начальник».
Примечательно, что в тот период подчиненным Ватутина, правда, всего несколько месяцев, являлся полковник А. А. Власов. Тот самый Власов, который впоследствии войдет в историю как изменник родины, пособник нацистов. Будущий генерал-предатель возглавлял в штабе КОВО один из ключевых отделов – разведывательный. Но к назначению Власова на эту должность Николай Федорович не имел никакого отношения. Его перевели на Украину из Ленинградского военного округа. Пробыв в должности у Ватутина с мая по сентябрь, Власов был назначен командиром дивизии. Успешному продвижению его к высоким должностям, как считают некоторые историки, способствовала чья-то «рука» наверху. Как складывались отношения Ватутина и Власова – ответа на этот вопрос нет. Впрочем, завершим на этом наше отступление и вернемся к штабным делам Ватутина.
Как свидетельствуют документы, в то время войска Киевского особого военного округа жили напряженной жизнью. Командованием большое внимание уделялось подготовке руководящего состава и штабов, особенно командиров корпусов и дивизий. Хорошей школой для этого служили командно-штабные и войсковые учения, которые расширяли оперативно-тактический кругозор командиров, углубляли понимание ими основ боя и операции, вооружали опытом взаимодействия родов войск.
По указанию штаба округа в частях и соединениях были созданы группы командирской подготовки в соответствии со служебным положением командного и начальствующего состава. Командиры полков учили командиров батальонов и начальников служб, начальники штабов – штабных работников, помощники командиров полков по материальному обеспечению – работников тыла, командиры батальонов – командиров рот и взводов. Это позволяло начальникам строить занятия конкретно, лучше знать сильные и слабые стороны подчиненных, умело учить и воспитывать их. Особое значение придавалось полевым занятиям, так как отработку тактических вопросов на местности можно было провести гораздо содержательнее и поучительнее, нежели на картах.
Одновременно командованию округа приходилось преодолевать и немалые трудности. Одной из острых проблем являлась нехватка опытных кадров командиров и политработников. Дефицит возник в результате большой ротации кадров, последовавшей после волны репрессий, когда на высокие посты были назначены офицеры, не имевшие достаточного опыта работы на новых должностях. Из архивных документов известно, что в октябре 1938 года из 15 командиров стрелковых дивизий только один командовал соединением более года, из шести командиров кавалерийских дивизий и шести командиров танковых бригад половина командовала соединениями менее шести месяцев. Произошло также значительное обновление штабов. Ощущался кадровый голод и в связи с увеличением штатной численности войск округа. В сухопутных частях, например, не хватало более 10 тысяч командиров.
– Командир без опыта – что кавалерист без лошади. Разве такие командиры смогут успешно решать боевые задачи в условиях современной войны? – вопрошал Тимошенко на одном из совещаний. – Ещё хуже, когда их вообще нет. А война не за горами.
В сложившихся условиях командованию, в том числе и Ватутину, пришлось принимать меры организационного плана по подготовке командиров взводов и им равных. Для того чтобы выправить ситуацию, были созданы многочисленные курсы младших лейтенантов и младших воентехников.
Летом 1938 года была проведена оперативно-стратегическая игра руководящего состава войск округа. Ее подготовка полностью легла на плечи Ватутина и его подчиненных. Они проделали огромную работу, которая включала в себя доведение задач до исполнителей и конкретизацию их с командирами частей и соединений, решение вопросов взаимодействия на всех уровнях командования, материально-техническое обеспечение войск и т. д.
Игру непосредственно проводили командующий командарм 2-го ранга С. К. Тимошенко и заместитель начальника штаба комбриг Ватутин. В соответствии с директивой наркома обороны СССР Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова в игре было задействовано значительное количество войск. Так, Винницкая армейская группа была выдвинута к государственной границе СССР. На территории Каменец-Подольской и Винницкой областей привели в движение 4-й кавалерийский, 25-й танковый и 17-й стрелковый корпуса, две отдельные танковые бригады, семь авиационных полков. Одновременно Житомирская армейская группа (2-й кавалерийский, 15-й и 8-й стрелковые корпуса), завершая учения на территории Киевской, Черниговской и Житомирской областей, сосредоточилась в районе Новоград-Волынского и Шепетовки.