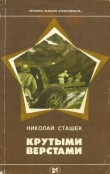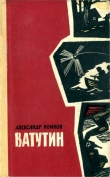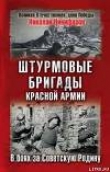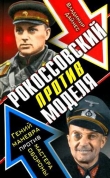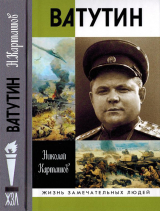
Текст книги "Ватутин"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
А в освобожденных городах и селах повсеместно стихийно возникали митинги и демонстрации. Особенно массовыми они были в Кишинёве, Бельцах, Измаиле, Черновцах. Прогрессивные организации создавали комитеты содействия Красной армии, население оказывало войскам всяческую помощь.
«Я, будучи членом Военного совета Киевского особого военного округа, принимал активное участие в организации освобождения Бессарабии, – вспоминал впоследствии Н. С. Хрущев, являвшийся тогда 1-м секретарём ЦК КП(б)У. – Был детально разработан план продвижения наших войск и занятия исходных позиций, намечены переправы, созданы ударные группы. Одним словом, всё, что нужно сделать для того, чтобы успешно провести эту операцию, было планом предусмотрено».
Эти слова Хрущева, по сути, благодарность штабу Ватутина за качественную подготовку столь масштабного мероприятия. При его проведении всё было продумано до мелочей, учтены различные нюансы, что в конечном счёте позволило избежать серьёзных ошибок, а самое главное – не допустить людских потерь.
Сразу после освободительного похода жизнь округа вновь вступила в привычную колею. Плотной чередой пошли занятия, учения, игры, на которых продолжал осваиваться тактический опыт, полученный Красной армией в ходе освободительных походов в Западную Украину, Северную Буковину и Бессарабию, во время советско-финляндской войны и в боях с японцами в районе реки Халхин-Гол. Брался на вооружение также опыт немецких войск, накопленный ими при проведении масштабных наступательных операций по захвату европейских стран.
В тот период Ватутин по поручению Жукова подготовил командно-штабную полевую поездку со средствами связи в Западную Украину, а именно в район Тернополя, Львова, Владимир-Волынского, Дубно. Что Жуков, что Ватутин – оба хорошо понимали – в случае войны с Германией главный удар гитлеровцы нанесут в первую очередь по названному району. С этой целью и проводилось учение, которое показало как положительные, так и отрицательные стороны работы командиров и начальников при решении возложенных на них задач.
Однако это командно-штабное учение стало для Ватутина последним в Киевском особом военном округе. В один из дней ему по ВЧ позвонил нарком обороны маршал Советского Союза С. К. Тимошенко. Справившись об оперативной обстановке в округе, уточнив некоторые вопросы, Семён Константинович сменил тему разговора.
– Николай Федорович, а не засиделся ли ты в округе? – спросил нарком. И, не дожидаясь ответа, продолжил:
– Тут я с Борисом Михайловичем Шапошниковым имел разговор, хотим тебя в Генштаб забрать. Так что закругляй дела, пакуй чемоданы и жди приказа. До встречи в Москве!
В трубке раздались короткие гудки. Сказать, что это предложение застало Ватутина врасплох, нельзя. Еще в 1932 году, когда он был начальником штаба 28-й горнострелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа, Высшая аттестационная комиссия при Реввоенсовете СССР записала в протокол: «Считать целесообразным использовать тов. Ватутина Н. Ф. в Генеральном штабе РККА». В 1936 году также планировался его перевод в столицу из Новосибирска, где он был начальником Оперативного отдела штаба Сибирского военного округа. Но из-за того, что Ватутин поехал учиться в Академию Генерального штаба, перевод отложили. С назначением Тимошенко наркомом обороны, который высоко ценил Ватутина как хорошо подготовленного штабного работника, вопрос о его переезде в Москву был предрешен. 27 июля 1940 года Ватутин был назначен начальником Оперативного управления – заместителем начальника Генерального штаба РККА.
Спустя несколько дней, сдав дела своему заместителю генерал-майору Г. К. Маландину и попрощавшись с Жуковым, коллективом штаба, Ватутин убыл в Москву.
На сей раз поезд надолго увозил Николая Федоровича в столицу. Колёса гулко отстукивали мелодии дальних дорог, оставляя позади украинские белые хаты, золотистые шапки подсолнухов над плетнями, высокие пирамидальные тополя, пышные скирды сена... В открытое окно врывались запахи спелых яблок и созревших хлебов. На душе было немного грустно. Ватутин полюбил Украину с тех самых пор, как девятнадцатилетним юношей надел солдатскую гимнастёрку. И вот теперь он расставался с этим благодатным и солнечным краем, где осталась частица его сердца. Через некоторое время Николай Федорович перевез в Москву и семью.
Глава 7. ТАМ, ГДЕ БЬЁТСЯ ПУЛЬС АРМИИ
Строгое здание с колоннами на углу Гоголевского бульвара, украшенное рельефными изображениями звёзд, пушек, самолётов и другой символикой, на все предвоенное время стало для Ватутина вторым домом. Здесь он ежедневно работал по 16—18 часов практически без выходных. Часто бывало, что оставался ночевать в служебном кабинете. Примерно в таком же режиме трудился весь аппарат Генерального штаба.
Оперативное управление, начальником которого он был назначен, являлось ведущим органом Генерального штаба. Его главное предназначение состояло в том, чтобы оперативно управлять войсками в мирное и военное время, осуществлять подготовку предложений военно-политическому руководству страны по вопросам военного строительства, планировать операции самого разного уровня. По сути, управление было основным рабочим ядром, «генератором» идей и замыслов военного ведомства. Кроме того, ни один вопрос не решался начальником Генерального штаба, если он не был согласован с Оперативным управлением. В свою очередь, названная структура запрашивала мнение других управлений Генштаба и Наркомата обороны. Только после прохождения процедуры согласования того или иного вопроса по конкретной тематике шёл доклад начальнику Генерального штаба. И он уже принимал окончательное решение.
Очень точное определение этому важнейшему звену Генштаба дал Виктор Суворов (Богдан Резун), автор известной книги «Ледокол», в которой он изложил альтернативную концепцию роли СССР во Второй мировой войне. Признаться честно: негоже цитировать перебежчика-предателя, но уж больно просто и доходчиво он объяснил суть деятельности управления, возглавляемого Ватутиным. Вот эта цитата: «Оперативное управление – это нечто вроде сборочного цеха. Работает огромный завод, а готовая продукция выходит только из одного цеха. Именно так весь штаб, в данном случае Генеральный, работает в интересах только одного своего подразделения – Оперативного управления. Готовая продукция – планы войны – выходит только отсюда. Есть другие управления в Генеральном штабе: разведывательное, организационное, мобилизационное, топографическое, укомплектования войск и пр. Но они характер грядущей войны не определяют и войну не планируют».
Ватутин возглавил Оперативное управление в жаркое для его работников время – они днями и ночами напряженно трудились над подготовкой плана сосредоточения и развёртывания вооруженных сил по отражению возможной агрессии. В генштабовском обиходе он назывался оперпланом. Работа над ним велась уже много месяцев. Непосредственно руководил подготовкой плана начальник Генерального штаба Маршал Советского Союза Б. М. Шапошников, которому Ватутин представился, как только прибыл в Генштаб.
– Ну, здравствуйте, здравствуйте, голубчик, – широко распахнув руки, навстречу Ватутину из-за массивного стола вышел Шапошников.
После теплой встречи Борис Михайлович подробно расспросил Николая Федоровича об оперативной обстановке в Киевском особом военном округе, о том, как идёт обустройство войск в присоединённых к Советскому Союзу районах. Затем Шапошников ввёл Ватутина в курс его новых обязанностей, особо заострив внимание на подготовке плана. Получив напутствие Бориса Михайловича, Ватутин сразу включился в эту ответственную работу, можно сказать, вступил с марша – в бой.
«Работали мы очень дружно и напряженно, – вспоминал впоследствии Маршал Советского Союза А. М. Василевский, на тот момент заместитель Ватутина. – Оперплан занимал в те месяцы все наши мысли. Наиболее вероятным и главным противником в нём называлась гитлеровская Германия. Предполагалось, что на стороне Германии может выступить Италия, но она, как отмечалось в плане, скорее всего, ограничится боевыми действиями на Балканах, созданием косвенной угрозы нашим государственным границам. По всей видимости, на стороне Германии могут выступить Финляндия (чьи руководители после разгрома Франции и краха английских войск под Дюнкерком взяли ориентацию на Берлин), Румыния (типичный “сырьевой придаток” Германии с 1939 года, а летом следующего года вообще отказавшаяся от нейтралитета в пользу фашистского блока) и Венгрия (в то время уже участник “Антикоминтерновского пакта”). Б. М. Шапошников считал, что военный конфликт может ограничиться западными границами СССР. На этот случай оперплан предусматривал концентрацию основных сил страны именно здесь. Не исключая нападения Японии на наш Дальний Восток, он предлагал сосредоточить там такие силы, которые гарантировали бы нам устойчивое положение. Говоря далее о предполагаемом направлении главного удара противника, Б. М. Шапошников считал, что самым выгодным для Германии, а следовательно, и наиболее вероятным является развертывание основных сил немецкой армии к северу от устья реки Сан. Соответственно в плане предлагалось развернуть и наши главные силы в полосе от побережья Балтийского моря до Полесья, то есть на участках Северо-Западного и Западного фронтов. Обеспечить южное направление должны были, согласно плану, также два фронта, но с меньшим количеством сил и средств. В целом предусматривалось, что Германии потребуется для развертывания сил на наших западных границах 10—15 дней от начала их сосредоточения. О возможных сроках начала войны в докладе ничего не говорилось. Таковы его общие контуры».
Основные идеи этого масштабного плана, безусловно, принадлежали Б. М. Шапошникову. Но завершавшие над ним работу Н. Ф. Ватутин, А. М. Василевский, В. Д. Иванов, А. Ф. Анисов, другие генералы и офицеры также внесли много дельных и конкретных предложений. Уже к концу августа план был практически готов. Однако произошел неожиданный для всех перевод Шапошникова с поста начальника Генерального штаба на должность заместителя наркома обороны по строительству оборонительных сооружений и укрепрайонов.
Для Ватутина и всех остальных руководящих работников Генштаба причина перемещения Шапошникова на другую должность была не совсем понятной. Каждый хорошо знал, какую огромную роль играл Борис Михайлович в жизни Генерального штаба. Как никто другой он обладал всеми необходимыми качествами для работы в нём. И прежде всего глубоким знанием военного дела, огромным трудолюбием и высоким чувством ответственности. Благодаря Шапошникову, и это было всем известно, Генеральный штаб стал подлинным центром руководства военным планированием, боевой и оперативной подготовкой Красной армии. А что уж было говорить о человеческих качествах Шапошникова! Его личный пример гипнотически влиял на всех, кто с ним работал. Вежливость, скромность, тактичность, дисциплинированность и предельная исполнительность – всё это воспитывало у его подчинённых чувство собственного достоинства, ответственность, высокую культуру поведения.
Между тем руководителю страны И. В. Сталину было виднее. О том, что предшествовало перемещению Шапошникова на новую должность, Борис Михайлович рассказал позже Василевскому. Знал эту историю и Ватутин. Но обо всем по порядку.
В один из дней Сталин пригласил к себе Шапошникова. Разговор был доброжелательный. После советско-финского вооруженного конфликта, сказал Сталин, мы переместили Ворошилова и назначили наркомом Тимошенко. Относительно Финляндии вы оказались правы: обстоятельства сложились так, как предполагали вы. Но это знаем только мы. Между тем всем понятно, что нарком и начальник Генштаба трудятся сообща и вместе руководят вооруженными силами. Нам приходится считаться, в частности, с международным общественным мнением, особенно важным в нынешней сложной обстановке. Нас не поймут, если мы при перемещении ограничимся одним народным комиссаром. Кроме того, мир должен был знать, что уроки конфликта с Финляндией полностью учтены. Это важно для того, чтобы произвести на наших врагов должное впечатление и охладить горячие головы на Западе. Официальная перестановка в руководстве как раз и преследует эту цель. Дисциплинированный человек, Шапошников ответил, что готов служить на любом посту, куда его назначат. Вскоре он занял пост заместителя наркома обороны.
Как видим, в планы Сталина не входило перемещать Шапошникова на другую должность. Тем более что он с огромным уважением относился к Шапошникову и всегда обращался к нему только по имени и отчеству. Также Борису Михайловичу, единственному из его ближнего окружения, было разрешено курить в кабинете вождя. Однако большая политика оказалась важнее профессионализма Шапошникова.
Новым начальником Генерального штаба был назначен генерал армии К. А. Мерецков. За плечами Кирилла Афанасьевича была несколько иная школа, чем у Б. М. Шапошникова. Между тем он тоже обладал немалым опытом военной службы, которую бывший слесарь начал в 1918 году комиссаром революционного отряда. В дальнейшем занимал различные командные и штабные должности: начальник штабов бригады, дивизии, корпуса, армии, округа; командир отряда, дивизии, командующий армией, военными округами, в том числе Ленинградским. До прихода в Генштаб Кирилл Афанасьевич являлся заместителем наркома обороны СССР.
Мерецков, хотя и знал штабную работу, но в теоретическом плане он, безусловно, был на несколько порядков ниже Шапошникова. Военную академию РККА, которую Кирилл Афанасьевич окончил в 1921 году, в то время трудно было назвать кузницей подготовки командных и штабных кадров, в связи с чем нельзя сделать однозначный вывод о каких-то глубоких военно-теоретических знаниях её выпускника.
По признанию самого Мерецкова, занятия в академии «часто прерывались», были «недостаточно организованными», «не всегда нам давали то, что более всего требовалось в условиях гражданской войны». Да и до учёбы в академии Кирилл Афанасьевич не мог похвастаться своим гражданским образованием. Четырехклассная земская школа и воскресные вечерние классы – вот и все «университеты» будущего полководца Великой Отечественной. Тем не менее Мерецков был хорошим практиком, по оценке Василевского, «талантливым практиком». Поэтому, придя в Генштаб, Мерецков в своей работе стал опираться на тех генералов, которые действительно олицетворяли «мозг армии». Ватутин, окончивший две военные школы и две академии, был одним из них.
Работа Мерецкова в Генштабе началась с приёмки уже известного читателю проекта оперплана, над которым сутками напролёт трудились Ватутин и его подчиненные. Кирилл Афанасьевич одобрил документ, а сделанные им замечания были учтены. Затем аналогичную процедуру план прошёл и у Тимошенко. Дальше оперплан докладывался в Кремле лично Сталину. Представляли его нарком обороны Тимошенко, начальник Генерального штаба Мерецков и начальник Оперативного управления Ватутин.
Ватутин впервые был в рабочем кабинете вождя. Быстро окинув его взглядом, Николай Федорович не увидел в нём ничего изысканного. Просторная комната. Длинный, покрытый зелёным сукном стол для совещаний. Обшитые морёным дубом стены, на которых слева и справа висели портреты К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина. В глубине кабинета, у стены – рабочий стол Сталина, заваленный документами, бумагами, книгами... Сам Сталин произвёл на Ватутина впечатление человека спокойного, немногословного и рассудительного. Позже ему придется довольно часто встречаться с вождём, иногда даже по несколько раз за сутки. И видеть его разным – и таким, каким он был сейчас, и весёлым, и разгневанным...
В процессе рассмотрения плана Сталин, касаясь наиболее вероятного направления главного удара потенциального противника, высказал мнение, что Германия свои основные усилия направит не на Западном направлении, а на Юго-Западном. Свою точку зрения Сталин мотивировал тем, что противник в первую очередь постарается захватить наиболее богатые промышленные, сельскохозяйственные и сырьевые районы Советского Союза. В результате Генштабу было поручено исправить план, предусмотрев сосредоточение главной группировки советских войск на Юго-Западном направлении.
Странно, но никто из высших военных руководителей – ни Тимошенко, ни Мерецков – не выразил несогласия в связи с таким решением Сталина. Промолчал и Ватутин, который по определению и не должен быть лезть в пекло поперёк своих отцов-командиров. Как показали потом события Великой Отечественной войны, прогноз «вождя народов» оказался ошибочным. Главный удар вермахт нанёс именно на Западном направлении, что стоило советским войскам огромных потерь как в людях, так и в технике. Командованию же пришлось исправлять допущенный просчёт и сосредоточить главные силы на Западном, Смоленско-Московском направлении.
С позиций человека начала XXI века ряд исследователей Великой Отечественной войны считают, что допустил ошибку не только Сталин. Ответственность за этот стратегический промах должны разделить и руководители Наркомата обороны, выходцы из Киевского военного округа – С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков (он возглавил Генштаб в феврале 1941 года), а также Маландин. «Такое мнение представляется справедливым, – полагает военный историк Ю. В. Рубцов. – Перемещение верхушки командования КОВО в почти полном составе в руководящий эшелон наркомата обороны и Генштаба способствовало тому, что знакомый, тщательно изученный театр военных действий невольно приковывал внимание указанных военачальников, препятствовал объективной оценке фактов, противоречивших привычной установке на приоритет юго-западного направления».
Безусловно, доля ответственности лежит на «западниках» – так ещё называли выходцев из КОВО. Хотя «выходцы» громко сказано. Жуков прослужил в этом округе всего полгода. Ему бы больше подошло прозвище «сябр», поскольку Георгий Константинович немало лет прослужил в соседнем Белорусском военном округе. У Тимошенко стаж службы в КОВО был посолиднее, чем у Жукова, – два года. И только Ватутина можно с полным правом причислить к выходцам из КОВО – половина лет его службы была связана с Украиной. Что касается других выдвиженцев из КОВО, то перед самой войной Жуков перевел к себе в Москву несколько генералов. Ничего необычного в этом тоже нет. Любой руководитель опирается прежде всего на людей своей команды.
Но это как бы ремарка. Теперь об «объективной оценке фактов». В проекте оперплана военачальники как раз верно определили направление главного удара Гитлера на Советский Союз. То, что Сталин отверг их предложение и принял иное решение, не их вина. В те непростые годы, как известно, за Сталиным всегда было последнее слово. Идти наперекор вождю, не соглашаться с его оценками могло быть расценено как «непонимание», «вредительство» со всеми вытекающими отсюда последствиями. У каждого из военачальников ещё не выветрились из памяти громкие процессы, на которых судили их предшественников. Как писал поэт, тогда «было мало виноватых, а было больше без вины...».
Также не следует забывать, что в тот период у всех военачальников была безграничная вера в Сталина, в «его политический ум, его дальновидность», о чём впоследствии они сами же напишут: и Жуков, и Тимошенко, и Конев, и Мерецков, и Василевский...
«Конечно, на нас, военных, – признавался впоследствии Жуков, – лежит ответственность за то, что мы недостаточно требовали приведения армии в боевую готовность и скорейшего принятия ряда необходимых на случай войны мер. Очевидно, мы должны были это делать более решительно, чем делали. Тем более что, несмотря на всю непререкаемость авторитета Сталина, где-то в глубине души у тебя гнездился червь сомнения, шевелилось чувство опасности немецкого нападения. Конечно, надо реально себе представить, что значило тогда идти наперекор Сталину в оценке общеполитической обстановки. У всех на памяти еще были недавно минувшие годы; и заявить вслух, что Сталин не прав, что он ошибается, попросту говоря, могло тогда означать, что, еще не выйдя из здания, ты уже поедешь пить кофе к Берии.
И все же это лишь одна сторона правды. А я должен сказать всю. Я не чувствовал тогда, перед войной, что я умнее и дальновиднее Сталина, что я лучше его оцениваю обстановку и больше его знаю. У меня не было такой собственной оценки событий, которую я мог бы с уверенностью противопоставить как более правильную оценкам Сталина. Такого убеждения у меня не существовало. Наоборот, у меня была огромная вера в Сталина, в его политический ум, его дальновидность и способность находить выходы из самых трудных положений. В данном случае – в его способность уклониться от войны, отодвинуть ее. Тревога грызла душу. Но вера в Сталина и в то, что в конце концов все выйдет именно так, как он предполагает, была сильнее».
Ватутин не оставил воспоминаний. Но Николай Федорович, так же как Жуков и другие военачальники, тоже верил Сталину, находился под обаянием его личности.
Впрочем, присутствуй тогда в Кремле главный создатель плана Б. М. Шапошников, может быть, план бы так и остался в первоначальном варианте. У Сталина предложения Шапошникова, всегда глубоко продуманные и веские, как правило, не встречали особых возражений.
Если бы да кабы... Однако что произошло, то произошло. Теперь же, в соответствии с поручением, требовалось не позднее 15 декабря положить на стол Сталину переработанный оперплан. И вновь Ватутину и его подчиненным предстояло выполнить колоссальный объем работы. Причем надо было конкретно разработать все вопросы, касающиеся Наркомата обороны и Генерального штаба. Одновременно надо было учесть проблемы, связанные с Наркоматом путей сообщения, а также определить задания военным округам, с тем чтобы уже 1 января 1941 года командование и штабы округов могли приступить к подготовке своих планов.
Кроме работы над планом Ватутину приходилось решать ещё массу других задач. В военных округах, особенно приграничных, с нарастающей интенсивностью проходили командно-штабные игры, манёвры, учения с боевой стрельбой. И надо было, как говорится, держать руку на пульсе жизни.
В конце осени в Западном особом военном округе было намечено проведение крупной игры. Руководить ею должен был начальник Генштаба К. А. Мерецков. Но дата игры несколько раз переносилась: руководство страны опасалось, что проведение её в приграничном округе насторожит руководство Германии. Сам Сталин держал на личном контроле этот вопрос. Наконец он окончательно утвердил время, однако дал указание направить в Белоруссию Ватутина.
– Если учением будут руководить Тимошенко или Мерецков, – сказал Сталин, – немцы примут меры к тому, чтобы выяснить его характер. Да и вообще нам невыгодно, чтобы в Германии знали, чем занимаются сейчас нарком обороны и начальник Генштаба. Пускай едет Ватутин – якобы с инспекционными целями.
Вскоре Ватутин был в Минске. Командующий войсками округа генерал-полковник танковых войск Д. Г. Павлов, которого Николай Федорович знал ещё с конца 1920-х годов по учёбе в Военной академии им. М. В. Фрунзе, подготовил игру с учётом опыта недавних военных кампаний. Сам Павлов непосредственно воевал против японцев на Халхин-Голе, участвовал в гражданской войне в Испании, прошёл проверку боями в советско-финляндском конфликте. О том, что этот человек уже сполна понюхал пороху, красноречиво свидетельствовали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза, три ордена Ленина и два ордена Красного Знамени на его груди. К сожалению, блестящая карьера Павлова, ставшего генералом армии незадолго перед Великой Отечественной войной, закончится трагически. В трудные июньские дни 1941 года Западный фронт, которым он будет командовать, не устоит перед мощными ударами немецких армий и потерпит жестокое поражение под Белостоком. После взятия немцами Минска практически все армии фронта перестанут существовать как организованная военная сила.
Ныне известно, что главной причиной трагедии Западного фронта был грубейший просчет самого Сталина в оценке военно-стратегической обстановки и времени возможного нападения врага. Но тогда даже в мыслях ни у кого не могло возникнуть, что «великий и гениальный вождь» мог допустить какой-либо просчет или ошибку. Крайним оказалось всё командование Западного фронта. Приехавший по поручению Сталина на фронт заместитель наркома обороны СССР армейский комиссар 1-го ранга Л. З. Мехлис быстро нашел виновных. По его предложению и решению нового Военного совета Западного фронта командующий фронтом генерал армии Д. Г. Павлов, генерал-майоры В. Е. Климовских – начальник штаба фронта, А. Т. Григорьев – начальник связи фронта, Н. А. Клыч – начальник артиллерии фронта, А. А. Коробков – командующий 1-й армией вскоре были арестованы и преданы суду. Всех их приговорили к расстрелу за то, что в период начала боевых действий германских войск против Советского Союза они проявили трусость, нераспорядительность, допустили развал управления войсками, сдачу оружия противнику и самовольное оставление боевых позиций частями Красной армии, тем самым дезорганизовали оборону страны и дали возможность врагу прорвать фронт Красной армии.
Но всё это будет впереди. Пока же генерал-полковник танковых войск Павлов и вверенный ему командный состав частей и соединений отрабатывал на картах и на местности свои возможные действия на начальном этапе войны. В игре участвовали управление военного округа (в роли Фронтового управления) и армейские управления. По исходной обстановке противник сосредоточил против войск Западного фронта значительно превосходящие силы и перешёл в решительное наступление. 3, 10 и 4-я армии Западного фронта, прикрывая сосредоточение и развёртывание главных сил фронта, с тяжёлыми боями отходили от рубежа к рубежу. При этом механизированными соединениями проводились короткие контрудары с ограниченными целями, чтобы дать возможность подготовить войскам оборонительный рубеж или ликвидировать угрозу окружения. Отход продолжался до рубежа Слоним, Пинск, с которого прикрывающие армии совместно с подошедшими и развернувшимися свежими армиями перешли в контрнаступление. В результате противник потерпел поражение, был отброшен к его границе и были созданы условия для нового этапа наступательной операции.
В целом игра прошла слаженно и организованно. Вот как её описал впоследствии в своих мемуарах «Штаб армейский, штаб фронтовой» генерал армии С. П. Иванов, а тогда полковник, начальник штаба армейского корпуса: «Поздней осенью в соответствии с планом оперативной подготовки войск округа была проведена весьма интересная во всех отношениях фронтовая игра на местности со средствами связи. Руководил ею заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Н. Ф. Ватутин – мой будущий командующий фронтом. Основное содержание оперативной игры составляли действия войск фронта в начале войны. Характерно, что для нас были созданы примерно такие же условия, в каких мы потом и оказались. По замыслу игры “западные”, сосредоточив значительно превосходящие силы, перешли в наступление. Армии прикрытия “восточных”, ведя тяжелые сдерживающие бои, отходили последовательно, от рубежа к рубежу. После упорных оборонительных действий на линии старых укрепленных районов и с подходом резервов из глубины страны “восточные” перешли в решительное контрнаступление и завершили разгром вторгшегося “противника”».
Делая разбор игры, Ватутин отметил, что командиры и начальники штабов в основном правильно решили как практические вопросы подготовки войск к войне, так и теоретические задания по ведению наступательной операции.
В Москву Николай Федорович возвратился в хорошем настроении. Положительную оценку учениям дали наркомат и руководство страны. В столице его ждали новые дела – по указанию ЦК партии Наркомат обороны и Генштаб развернули подготовку к проведению Всеармейского сбора высшего командного состава. В этой большой и многогранной организационной работе Ватутин принял самое активное участие.
Всеармейское совещание высшего комсостава проходило с 23 по 29 декабря 1940 года в Центральном доме Красной армии. На заседании присутствовали руководители Наркомата обороны и Генерального штаба, начальники центральных и главных управлений, командующие и начальники штабов военных округов и армий, генерал-инспекторы родов войск, начальники военных академий, командиры некоторых корпусов и дивизий. Всего около 300 человек. В работе столь представительного совещания также приняли участие члены Политбюро ЦК ВКП(б).
Повестка дня совещания была насыщенной. После вступительного слова наркома обороны Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко с докладом «Итоги и задачи боевой подготовки сухопутных войск, ВВС и оперативной подготовки высшего комсостава» выступил начальник Генерального штаба генерал армии К. А. Мерецков. Приложил к этому руку и Ватутин. Доклад получился содержательным, острым, в нём нашли отражение все ключевые вопросы жизнедеятельности вооруженных сил.
Опираясь на опыт последних войн, учений и полевых поездок, Мерецков подверг критике недостаточную оперативную подготовленность и военную культуру высшего командного состава, войсковых штабов, армейских, фронтовых и особенно авиационных штабов. «Этим вопросом раньше не занимались, – сказал он. – Основной тормоз в том, что в течение многих лет отсутствовали указания по вождению крупных современных соединений, по вводу в бой вместе авиации и танков. Неясно было, как требуется применять крупные авиационные и механизированные соединения, куда направлять главное усилие авиации – на обеспечение ли войск или на самостоятельную операцию, или то и другое делать в меру необходимости».
Кроме того, Мерецков особо отметил, что в Красной армии устарели уставы. Они уже не отвечали требованиям современной войны. Так, боевые порядки в наступлении предлагались такие, при которых, как правило, только третья часть войск входила в ударную группу, а две трети попадали в сковывающую. Подобные недостатки были характерны и для боевых порядков при организации обороны, когда на основные направления выделялось недостаточное количество сил и средств за счет вторых эшелонов и маневра с неатакованных участков. Слабо также обстояло дело с разработкой вопросов обороны. Было время, подчеркнул Мерецков, когда мы вообще «боялись говорить, что можно обороняться». Между тем, учитывая опыт войны на Западе, командованию и штабам наряду с подготовкой к активным наступательным действиям, необходимо иметь представление и готовить войска к современной обороне; оборона эта должна быть глубоко противотанковой и противовоздушной.