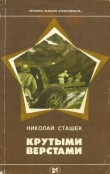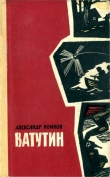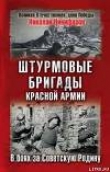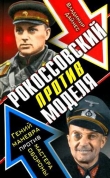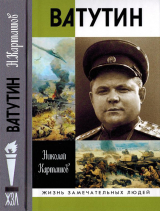
Текст книги "Ватутин"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Глава 4. «ШТАБ – ПЕРВЕЙШИЙ ОРГАН»
Штаб 7-й дважды Краснознаменной Черниговской стрелковой дивизии им. М. В. Фрунзе[12]12
Впоследствии трижды Краснознамённая, ордена Трудового Красного Знамени.
[Закрыть] находился в древнем городе Чернигове. Город внешне напоминал Полтаву, где в начале 1920-х годов Ватутин учился в пехотной школе. Такие же одно и двухэтажные дома, торговые ряды на Базарной площади, множество церквей и большое количество яблоневых и вишневых садов. Штаб располагался на Магистратской улице, в бывшем здании городского банка – красивом, с колоннами особняке.
По приезде в Чернигов Ватутины сняли небольшую квартиру, находившуюся рядом со штабом дивизии. Окна их жилища выходили прямо на здание штаба. В этом был свой плюс, особенно во время учебных тревог, когда Ватутину срочно требовалось прибыть к месту службы.
Штабная работа Ватутину пришлась по душе, он быстро втянулся в её непрерывный ритм. Примечательно, что Ватутин был в соединении единственным офицером с академическим образованием. Поэтому за его работой все наблюдали с пристальным интересом. Но «академик» не ударил в грязь лицом. Теоретические знания, полученные во время учебы, он умело применял на практике. Не случайно командир дивизии К. Ф. Квятек поручил Ватутину проводить занятия с офицерами штабов дивизии и полков. С этой задачей, как и с другими, он успешно справился.
Однако в штабе дивизии Ватутин прослужил недолго – всего год. В июне 1930 года он был назначен помощником начальника 1-го (Оперативного) отдела штаба Северо-Кавказского военного округа. На повышение в город Ростов-на-Дону, где находился штаб округа, Ватутин прибыл с женой и дочерью. Прибавление в семействе состоялось в Чернигове. Его любимая Танечка подарила ему дочку, которую назвали Еленой.
Как всегда, Ватутин с чувством высокой ответственности включился в новую работу. Вопросы, которые ему приходилось теперь решать, были гораздо сложнее и масштабнее, чем в штабе дивизии. По роду своей службы Николаю Федоровичу часто приходилось выезжать с проверками в войска округа, которые дислоцировались на территории нынешних республик, краев и областей – Адыгеи, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской и Ростовской областей. Во время таких поездок молодой штабист проверял ход боевой подготовки, выявлял ее сильные и слабые стороны, изучал действия различных частей и подразделений – пехоты, артиллерии, кавалерии, авиации, их взаимодействие на занятиях и учениях, проводил занятия с командным составом. Результаты этих командировок Ватутин потом отражал в отчетах, а также готовил обзоры передового опыта.
Старание Ватутина не осталось незамеченным командованием. «Проведенные под руководством Ватутина опытные учения дали богатый материал по управлению войсками...» – отмечалось в одном из приказов, подписанном командующим округом Н. Д. Кашириным. Другой приказ гласил: «Помощнику начальника 1 отдела штаба тов. Ватутину за добросовестное и вдумчивое выполнение инспектирования в 12 кавдивизии и за ряд ценных предложений объявляется благодарность». Подпись под этим приказом поставил начальник штаба СКВО А. И. Верховский, по учебникам которого Ватутин учился в Военной академии им. М. В. Фрунзе. Примечателен ещё факт – Верховский являлся осенью 1917 года военным министром во Временном правительстве А. Ф. Керенского, а потом перешёл на службу в Красную армию.
По свидетельству военного историка С. П. Куличкина, в тот период у нашего героя все «складывалось хорошо, но Ватутин жаждал самостоятельной работы, мечтал приложить силы в руководстве крупного штаба. Вскоре мечта его сбылась – молодого командира выдвинули на должность начальника штаба 28-й горнострелковой дивизии. Вновь скорый переезд к новому месту службы и новые обязанности, новые сослуживцы...».
В декабре 1931 года этим «новым местом службы» для Ватутина стала столица Северной Осетии – город Орджоникидзе[13]13
Название Орджоникидзе город Владикавказ получил всего за несколько месяцев до приезда Ватутина – 2 сентября 1931 года. В феврале 1944 года он получил название Дзауджикау, в феврале 1954 года – вновь Орджоникидзе, а в июле 1990 года ему возвращено историческое название Владикавказ.
[Закрыть], где находился штаб названной дивизии. А входившие в её состав полки, а также батальоны и роты прямого подчинения были расквартированы как в самом Орджоникидзе, так и в городах Чечни и Дагестана – Грозном и Буйнакске.
В отличие от традиционной стрелковой дивизии, где ранее проходил службу Ватутин, 28-я Горская горнострелковая дивизия имела свою специфику, начиная от задач, вооружения и кончая экипировкой личного состава. Прежде всего, соединение было предназначено для ведения боевых действий в горной местности – в предгорьях, на перевалах и вершинах. Поэтому главной составляющей боевой учебы для всего личного состава являлась горная подготовка. Вооружение горных стрелков также отличалось от того, что имели бойцы в обычных частях и подразделениях. Они были вооружены автоматическими винтовками, карабинами, самозарядными снайперскими винтовками, пистолетами-пулеметами, горными минометами и пушками. Тяжелой техники не было, штатное расписание не предусматривало ее наличия, поскольку на скалах танками много не навоюешь. В качестве транспортных средств использовались автомобили, лошади и мулы. А еще в горах невозможно было обойтись без альпинистского снаряжения: веревок, «кошек», ледорубов, снегоступов или лыж. Что касается обмундирования, то бойцы носили панамы, специальные гимнастерки, ботинки. Даже питание для горных стрелков было особое – высококалорийное.
Конечно, любая новая должность – это всегда испытание. Справлюсь ли? Хватит ли знаний и опыта? Эти вопросы задает себя каждый человек, приступающий к исполнению новых обязанностей. Все эти вопросы волновали Ватутина. Вспоминал он и слова Шапошникова о том, что «первейший орган, с помощью которого командир проводит в жизнь свои решения», должен работать четко, грамотно и оперативно.
Полную поддержку Николай Федорович ощутил от командира дивизии. В тот период ею командовал Иосиф Антонович Милюнас, литовец по национальности, опытный руководитель, являвшийся до этого начальником штаба армейского корпуса, а еще раньше – начальником штаба этой же дивизии. Примечательно, что в 1919 году комбриг Милюнас воевал в родных краях Ватутина, за проявленный героизм в боях с деникинцами был награжден орденом Красного Знамени.
– Не переживай, – при первой же встрече сказал Милюнас Ватутину. – Я и сам еще недавно состоял в штабистах. Эта работа, по себе знаю, не из легких. Если, к примеру, маневры успешно прошли – всегда хвалят командира, а о штабе – ни слова, ни полслова. Если же маневры провели с недостатками – тогда в основном ругают штаб и его начальника.
Имея за плечами опыт службы в штабе округа, Ватутин за короткое время сумел улучшить работу штаба соединения. Это выразилось в планировании мероприятий, качественной подготовке приказов и распоряжений, своевременном доведении их до частей и подразделений, обеспечении надлежащего контроля за выполнением этих документов.
Новый начальник штаба постоянно требовал от подчиненных культуры штабной работы, четкости в разработке каждого документа. Он считал, что чем тщательнее и скрупулезнее они подготовлены на занятия или учения, тем больше гарантии достичь желаемого результата.
Дивизия – сложный организм, основное тактическое формирование в войсках. Ее боеспособность определяют полки, выучка личного состава, состояние оружия и техники, уровень воинской дисциплины. За все эти компоненты отвечает штаб и лично начальник штаба, как и командир соединения.
Между Милюнасом и Ватутиным с первых дней установились хорошие как служебные, так и товарищеские взаимоотношения, что было очень важно. Ведь в управлении боем, как было записано в тогдашнем Полевом уставе РККА, «решающую роль играет не только слаженная работа штаба, но и сработанность командира с начальником штаба». Эта «сработанность» Милюнаса и Ватутина способствовала успешному решению задач, возложенных на соединение, и в первую очередь выполнению планов боевой подготовки.
Самой главной учебной дисциплиной для дивизии, как уже сказано, являлась горная подготовка. Каждодневно части и подразделения настойчиво овладевали наукой воевать в горах. Например, на занятиях с разведывательными подразделениями особое внимание уделялось изучению правил ориентирования в горах, технике движения по участкам с особо сложным рельефом. С ротами стрелков детально отрабатывались специальные приемы ведения огня под большими углами к горизонту. На занятиях с минометчиками особое внимание уделялось вопросам транспортировки вооружения и выбора огневых позиций для минометов с учетом встречающихся в горах опасностей – камнепадов, снежных лавин. Также регулярно проводились тактические занятия, включавшие в себя штурм перевала, заход в тыл «противника», захват переправы через горную реку и некоторые другие действия, а также совершались длительные походы. План таких походов и характер учений готовились как под непосредственным руководством Ватутина, так и им лично.
К сожалению, привычные учебные будни соединения нередко становились буднями военными. А начальнику штаба со своими подчиненными приходилось разрабатывать реальные войсковые операции. В начале 1932 года в Чечне и Ингушетии вспыхнуло масштабное восстание, в котором приняло участие местное население. Причиной мятежа стала не всегда гибкая, а зачастую грубая политика властей по коллективизации сельского хозяйства в этих районах. Промахами советской власти умело воспользовались организаторы выступления – ярые противники нового строя. В аулах и селениях мятежники громили кооперативы, аулсоветы, убивали коммунистов и комсомольцев. Как свидетельствуют документы, бандформирования численностью по 500—800 человек атаковали и осадили ряд военных гарнизонов. Бои отличались особой ожесточенностью, религиозным фанатизмом, привлечением к участию в атаках безоружных женщин и детей. Однако органы НКВД и войсковые части оказались в полной готовности к отражению вооруженных выступлений, а также к их локализации.
В конце февраля дивизия была оперативно переброшена в Чечню. В соответствии с планом операции, разработанным Ватутиным и его подчиненными, полки соединения сумели разделить и изолировать бандитские группировки, блокировать их в труднодоступных горных районах, а затем последовательно их уничтожить. Всего за период восстания мятежники потеряли убитыми 333 человека, 150 ранеными. Потери частей Красной армии и НКВД, участвовавших в подавлении восстания, составили 27 убитыми и 30 ранеными. Позже, будучи комбригом, Ватутин так напишет в автобиографии о тех горячих днях: «Участвовал в операции по ликвидации контрреволюционного восстания в Чеченской автономной области с 26.02 по 12.03.32 г. в составе 28-й горнострелковой дивизии в должности начальника штаба дивизии... Ранений и контузий не имел».
После выполнения задач в Чечне части дивизии вернулись в места постоянной дислокации. Опять потекли напряженные учебные будни. По итогам 1932 года 28-я горнострелковая дивизия стала лучшей в Северо-Кавказском поенном округе. В торжественной обстановке соединению вручили переходящее Красное знамя «за лучшие результаты по всем видам боевой и политической учебы». Была в этом успехе и немалая заслуга Ватутина. В его личном деле хранится выписка из приказа командующего войсками СКВО за № 416/244 от 30 ноября 1932 года, в которой сказано: «...за активное личное участие в деле боевой подготовки дивизии и систематическое руководство таковой начальника штаба 28-й горнострелковой дивизии Н. Ф. Ватутина наградить денежной премией в сумме 300 рублей».
Достижения Николая Федоровича в службе нашли отражение и в его аттестации, где было записано: «Тов. Ватутин из тех командиров, которые осуществляют в своей ответственной работе лозунг РВС СССР и ПУ РККА и решают обе задачи как одну... Подлежит выдвижению в очередном порядке на должность начштакора [начальника штаба корпуса]».
В том же году в семье Ватутина произошло прибавление: супруга Татьяна родила сына, которого назвали Виктором.
В ноябре 1933 года Николай Федорович вновь переступил порог Военной академии им. М. В. Фрунзе, на этот раз став на восемь месяцев слушателем оперативного факультета. Этот факультет, созданный в 1931 году при академии, готовил в ограниченном количестве командные кадры с широким оперативным кругозором, знающие основы операций, вождение крупных соединений и объединений всех родов войск и видов вооруженных сил. Вместе с Ватутиным в тот период квалификацию повышали будущие именитые военачальники И. С. Конев и Ф. И. Толбухин, ставшие впоследствии маршалами. Учиться с такими сокурсниками было легко и интересно. Николаю Федоровичу, находившемуся на стороне то «красных», то «синих», не раз приходилось мериться с каждым из них силами, организуя действия условных полков и дивизий в наступлении и обороне.
По результатам обучения на каждого слушателя были написаны характеристики. Их лично читал и утверждал начальник академии Б. М. Шапошников. Когда дошла очередь до характеристики на Ватутина, в которой отмечались его хорошие «оперативно-тактические знания», «сила воли, энергичность и авторитет среди сослуживцев», Борис Михайлович своим прямым без наклона почерком приписал лаконичную фразу: «По всем вопросам имеет свое самостоятельное суждение». По свидетельству людей, хорошо знавших Шапошникова, это была его наивысшая оценка человека.
В июле 1934 года Ватутин вернулся в родную дивизию и снова окунулся в штабные дела, которых за время его отсутствия накопилось немало. Пришлось решать и много новых задач с учетом возросших требований, предъявляемых руководством армии к боевой подготовке в войсковых частях и соединениях. Иными словами, будни начштаба Ватутина были до предела наполнены напряженной работой.
К числу значимых событий в службе Ватутина того периода можно отнести присвоение ему наркомом обороны СССР 29 ноября 1935 года воинского звания полковник. Произошло это вскоре после 22 сентября 1935 года, когда постановлением ЦИК и СНК СССР в РККА были введены персональные воинские звания для командного и начальствующего состава.
Но в том же 1935 году успешная карьера вновь испечённого полковника Ватутина едва было не рухнула, о чём свидетельствует написанная на него отрицательная аттестация. Вот некоторые выдержки из этого документа, хранящегося в его личном деле: «Свои положительные качества и аттестации расценил неправильно, что привело к потере самокритики, недочетов в своей работе. Проявил недисциплинированность, выразившуюся в недооценке указаний высших начальников. К подчиненным не проявляет достаточно твердой требовательности, что приводит к ложному демократизму, отражающемуся на организованности дисциплины и культуры в работе штаба. На тактических учениях допустил слабую увязку в работе штаба с подивом [политотдел дивизии]. При наличии несомненно положительных качеств – недоучёт отмеченных недостатков т. Ватутина может привести к нежелательным последствиям.
Вывод. Должности наштадива соответствует. Необходимо послать на стажировку на стрелковый полк».
С чего вдруг Николай Федорович стал плохим руководителем? Ведь до недавнего времени, читатель знает, он характеризовался исключительно как «хороший начальник штаба дивизии», «волевой и инициативный командир». Сам Шапошников ему высокую оценку выставил!..
Читая текст аттестации, можно строить различные версии. Не исключено, что у Ватутина случилось «головокружение от успехов» и его решили немного поправить. Однако зазнайством Николай Федорович не страдал, никогда не выпячивал себя, не любил, как он говорил, яканья. Возможно, он сбавил обороты в службе... Но и в эту версию мало верится, поскольку Николай Федорович был очень трудолюбивым и ответственным человеком. Скорее всего, причина кроется в том, что Ватутин где-то не сладил с политработниками. Как говорится, нашла коса на камень. На это прямо указывают и строки аттестации: «На тактических учениях допустил слабую увязку в работе штаба с поливом». А комиссары, надо заметить, народ злопамятный. Свою ложку дегтя в бочку мёда они и положили...
К счастью, нависшая над Ватутиным гроза прошла мимо. В конце 1935 года на его плечи легла задача подготовить крупные учения в условиях высокогорья и организовать восхождение горных стрелков на один из легендарных символов Кавказа – вершину Казбека.
В течение нескольких месяцев шла напряженная подготовка личного состава к этим ответственным мероприятиям – совершались марш-броски как пешком, так и на лыжах, проводились занятия по стрельбе, инженерно-саперному делу, запасались необходимым снаряжением и продовольствием. И, безусловно, бойцы и командиры усердно лазили по отвесным скалам, с помощью ледорубов прокладывали тропы на ледовых гребнях, учились ставить палатки в снегу... Наравне со всеми усиленно тренировался и Ватутин, понимая, что в лице подчиненных при выполнении этой сложной задачи он должен быть безупречным во всех отношениях командиром.
Двадцать второго января 1936 года дивизия получила приказ от командующего войсками Северо-Кавказского военного округа командарма 2-го ранга Н. Д. Каширина о проведении высокогорных учений и о массовом восхождении на вершину Казбека. О том, как дальше развивались события, как шли горные стрелки к пятитысячнику рассказывается в кратком военно-историческом очерке «Северокавказцы в боях за Родину», вышедшем в Военном издательстве в 1966 году. Вот выдержка из него: «В 28-й Горской стрелковой дивизии (командир комбриг И. А. Милюнас, военком В. Н. Чернецкий, начальник штаба полковник Н. Ф. Ватутин) в честь 18-й годовщины Красной Армии был организован поход частей на Казбек, чтобы научить бойцов и командиров действовать в высокогорных условиях. Поход явился хорошей проверкой физической закалки и волевых качеств воинов. Предварительно был послан разведывательный отряд во главе с командиром взвода альпинистом К. С. Анастасовым с задачей выбрать путь восхождения на Казбек. Первая колонна 84-го стрелкового полка с караваном вьючных лошадей выступила на штурм Казбека в 4 часа 5 февраля. В первой половине дня колонна достигла высоты 3 тыс. м. После привала начался подъем к метеостанции. Температура резко снизилась, подул ветер. Давала себя чувствовать горная болезнь. Но колонна продолжала путь и в полночь достигла метеостанции на высоте 4019 м. Здесь был оборудован лагерь... В час ночи 7 февраля начался штурм вершины Казбека, но поднялся сильный ветер, снежный буран, и штурм временно отложили. Через несколько дней на высоте метеостанции разразился ураган, поэтому командование полка решило отвести бойцов в исходный пункт маршрута – селение Андезит и выждать благоприятной погоды. 20 февраля пурга утихла. В ночь на 23 февраля первая колонна под командой А. С. Вербицкого в составе 230 бойцов и командиров с винтовками, пулеметами и горным орудием начала штурм Казбека. Героически работали бойцы подразделений Н. Черемисина, А. Дьяконова и Ф. Межегурского, поднимая орудие. Его установили на высоте 4800 м, а пулеметы несли до самой вершины. На обратном пути колонна провела боевые стрельбы из винтовок, пулеметов и орудия. Вторая колонна – из 500 человек – выступила со всем положенным вооружением и одним горным орудием. Разведчики М. П. Пузаев, Василий Шалабатов, К. В. Кочура и другие по примеру своего командира отделения Ваниева взяли груз до 40 кг каждый, помимо обычной выкладки, и несли его до самой вершины. Старшина батареи парторг Семен Вышкворок, утопая в рыхлом снегу, 2 км ползком тащил часть орудия. Он увлек других своим примером. Боец Павел Терсков в момент, когда люлька орудия провалилась в трещину, рискуя жизнью, укрепил лямки на краю трещины и этим спас орудие.
Этот штурм выработал у бойцов чувство товарищеской взаимовыручки и боевой дружбы. В феврале 1936 г. команда альпинистов 83-го стрелкового полка из 10 человек под руководством командира взвода И. В. Шамала осуществила горный переход свыше 400 км по маршруту Буйнакск– Тифлис через Главный Кавказский хребет».
В приведенном отрывке не упоминается еще один интересный факт. Во время восхождения бойцы дивизии несли с собой бюст И. В. Сталина и установили его на вершине Казбека, о чем сообщила тогда газета «Заря Востока». Она же опубликовала приветствие бойцов дивизии, в котором говорилось, что «мы [бойцы и командиры. – Н. К.] несем на седые вершины Казбека вместе с винтовками, пулеметами и орудиями величайшую любовь к партии и к тебе, товарищ Сталин». В материалах не сказано о том, что колонну, бойцы которой несли и устанавливали бюст «вождя народов», непосредственно возглавлял полковник Ватутин. Однако сам он об этой странице своей службы ни в автобиографии, ни в других документах не упомянул. Впрочем, продолжим наше дальнейшее повествование.
Люди военные, как известно, место службы не выбирают. «Служи не там, где хочется, а там, где долг велит», – гласит армейская мудрость. В марте 1936 года Ватутин в последний раз увидел снежную папаху Казбека, получив предписание убыть в Новосибирск начальником Оперативного отдела штаба Сибирского военного округа (СибВО). Между тем это повышение не особо обрадовало Ватутина. Дело в том, что СибВО являлся второразрядным, и в нем, полагал Ватутин, он мало что может приобрести в плане руководства штабами частей и подразделений. Другими словами, не тот масштаб, чем в приграничных округах. Однако вышестоящее командование, назначая Ватутина на новую должность, считало иначе. В Главном управлении кадров Наркомата обороны СССР исходили из того, чтобы в его лице укрепить аппарат штаба округа высококвалифицированным специалистом-практиком и одновременно дать ему возможность пройти очередную ступень служебной лестницы.
Прибыв в Новосибирск, Ватутин сразу включился в привычный ритм штабной работы. Как и во время службы в штабе Северо-Кавказского военного округа, он принимает участие в инспектировании войск, в подготовке и проведении учений. В тот период в войсках округа происходило много изменений, связанных с дальнейшим наращиванием мощи Красной армии. На вооружение поступали новые танки Т-26, Т-28, БТ, Т-35, зенитные пушки и пулеметы, автоматическая винтовка С. Г. Симонова. Уходила в прошлое милицейско-территориальная система – всё больше частей и соединений становились кадровыми.
Совершенствовалась и боевая подготовка войск. Воины-сибиряки, а Ватутин теперь принадлежал к их числу, выступили инициаторами Всеармейского движения за отличное владение огневой, лыжной и маршевой подготовкой. Именно тогда родились в округе девизы «Лыжи – крылья солдата», «Сибиряк – значит отличный огневик». В целях повышения качества боевой и политической подготовки, улучшения физического воспитания и культурного досуга личного состава в войсках округа стали традицией длительные пешие и лыжные переходы.
Вскоре после первомайских праздников Ватутина вызвал к себе командующий войсками округа комкор Ян Петрович Гайлит (Гайлитис). Справившись о текущих делах, о том, как Ватутин освоился на новом месте, командующий протянул ему секретный приказ наркома обороны СССР Маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова за № 058 от 11 апреля 1936 года «О формировании Академии Генерального штаба РККА».
– Ознакомьтесь, Николай Федорович, – с характерным прибалтийским акцентом сказал Гайлит. – А потом перетолкуем.
Гайлит был латыш по национальности. Участник Первой мировой войны, подпоручик, он в 1917 году принял сторону советской власти. В годы Гражданской войны командовал бригадой, дивизией, корпусом. В 1920-х годах – командующий войсками СибВО. В дальнейшем Гайлит командовал войсками Кавказского военного округа, был заместителем начальника Главного управления РККА, слушателем Военной академии им. М. В. Фрунзе, помощником командующего Минским укрепленным районом. Из Белоруссии его направили вновь командовать войсками СибВО. Так что это был опытный военачальник.
Приказ был небольшой, состоял всего из шести пунктов. Перед глазами Ватутина быстро побежали лаконичные строки: «1. Сформировать в г. Москве Академию Генерального штаба... 2. Академию подчинить непосредственно Начальнику Генерального Штаба РККА. 3. В 1936 г. в академии развернуть 1-й курс на 125 человек слушателей, которым приступить к занятиям с 1 сентября с.г. 4. Срок обучения 1,5 года. 5. Начальнику Строительно-квартирного управления РККА т. Левензон подыскать в 10-дневный срок помещение... 6. Командующим войсками военных округов и начальникам центральных управлений НКО выдвинуть кандидатов для поступления на 1-й курс академии в 1936 г. из числа лиц командного состава, изъявивших желание и окончивших одну из военных академий (преимущественно Военную академию имени М. В. Фрунзе) и на практической работе доказавших свою способность к работе в штабах крупного масштаба. Списки кандидатов представить Начальнику Генерального Штаба РККА к 10 июня с.г.».
Прочитав приказ, Ватутин возвратил его командующему.
– Как вы смотрите на то, чтобы вас направить на учебу в новую академию, – продолжил разговор Гайлит. – Я еще раз ознакомился с вашим личным делом, аттестациями и могу сказать, что вы полностью соответствуете требованиям, изложенным в приказе. Желаете учиться?
– Товарищ командующий, но я без году неделя, как в округе, – пытался было возразить Ватутин.
– Я это знаю. Также знаю, что за короткий срок вы зарекомендовали себя самым положительным образом, о чём мне уже доложил начштаба округа комдив Зиновьев. Учитесь, пока есть возможность...
Ватутину оставалось только поблагодарить командующего за оказанное доверие, что он и сделал. Так в судьбе нашего героя произошел очередной поворот. Сохранился приказ № 52 от 19 октября 1936 года, подписанный временно исполняющим должность командующего войсками округа комдивом И. З. Зиновьевым, об откомандировании Ватутина в академию: «Начальник 1 отдела штаба округа полковник Ватутин Н. Ф. согласно приказа Народного Комиссара командируется в Академию Генштаба РККА в качестве слушателя академии. Тов. Ватутин пробыл в должности начальника 1 отдела штаба округа всего лишь полгода. Однако и за столь короткое пребывание в штабе округа тов. Ватутин проявил себя чрезвычайно ценным штабным командиром. Будучи хорошо подготовленным, грамотным командиром, тов. Ватутин очень много способствовал оперативно-тактической подготовке высшего командного состава и штабов округа. Чрезвычайно ценная способность тов. Ватутина Н. Ф. – это его скромность, исключительная требовательность к себе, очень серьезное отношение к делу – служили образцом для всего командно-начальствующего состава штаба округа. Ныне, расставаясь с уважаемым Николаем Федоровичем, приношу ему глубокую благодарность за большую, исключительно ценную работу, проделанную им в штабе округа, и награждаю его ценным подарком».
В конце октября того же года Ватутин был уже в Москве.