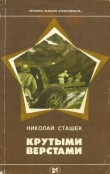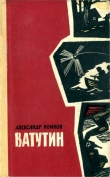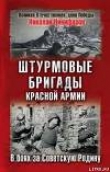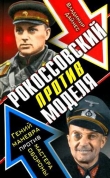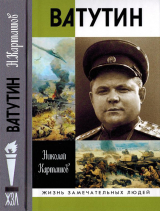
Текст книги "Ватутин"
Автор книги: Николай Карташов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
На совещании держали слово ещё пять основных докладчиков. С докладом «Характер современной наступательной операции» выступил командующий Киевским особым военным округом генерал армии Г. К. Жуков. Действиям авиации было посвящено выступление начальника Главного управления ВВС РККА генерал-лейтенанта авиации П. В. Рычагова, его доклад назывался «Военно-воздушные силы в наступательной операции и в борьбе за господство в воздухе». Доклад на тему «Характер современной оборонительной операции» сделал командующий Московским военным округом генерал армии И. В. Тюленев. Командующий войсками Западного особого военного округа генерал-полковник танковых войск Д. Г. Павлов привлёк всеобщее внимание своим докладом на тему «Использование механизированных соединений в современной наступательной операции и ввод механизированного корпуса в прорыв». Ещё один доклад на тему «Бой стрелковой дивизии в наступлении и обороне» прочитал генерал-инспектор пехоты генерал-лейтенант А. К. Смирнов.
В прениях по докладам выступили 60 человек, некоторые даже дважды, что свидетельствовало о важности вопросов, вынесенных на повестку совещания. Ораторы были единодушны в главном: если война против Советского Союза будет развязана Германией, то Красной армии придётся иметь дело с самой сильной армией Запада.
Но совещание продолжалось и в кулуарах, и в номерах гостиницы ЦДКА, где проживали его участники. Вне трибуны дебаты были гораздо острее и откровеннее. Но суть всех этих жарких споров командующих, командармов, комкоров, начальников штабов сводилась к одному – надо самым серьёзным образом готовиться к большой войне.
В последующем на основе выводов совещания Наркоматом обороны и Генштабом были подготовлены соответствующие приказы и инструкции, которые были направлены на то, чтобы коренным образом перестроить работу в округах, армиях и соединениях, готовить войска быстро и энергично к надвигающейся войне. Боевую подготовку вести по принципу «учить тому, что нужно на войне» и «делать всё так, как на войне». Был также принят ряд конкретных мер по дальнейшему укреплению единоначалия, воинской дисциплины и уставного порядка в вооруженных силах.
После совещания большинство его участников разъехались по местам постоянной службы. Однако группа высшего комсостава была оставлена для участия в двух больших военно-стратегических играх на картах. Планы проведения игр готовились непосредственно Ватутиным, его заместителем генерал-майором А. М. Василевским, начальниками отделов Оперативного управления генерал-майором П. И. Кокоревым и полковником В. В. Курасовым. Особенно Николай Федорович требовал от операторов обязательного отражения в материалах игр последних действий вермахта в Европе. Кроме того, в них нашли свое практическое воплощение те идеи, которые прозвучали на только что завершившемся совещании. В соответствии с заданиями и полученными вводными участники принимали решения и исполняли в письменном виде директивы, боевые приказы, оперативные сводки и другие документы.
О том, как проходили эти игры, пойдёт речь чуть позднее. А пока сделаем небольшое отступление. По ту сторону границы уже с лета немцы планомерно готовились к нападению на Советский Союз. 31 июля начальник Генерального штаба сухопутных войск вермахта генерал-полковник Франц Гальдер записал в своем дневнике указание Гитлера: «Россия должна быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года. Чем скорее мы разобьём Россию, тем лучше...» В первых числах декабря, а точнее 5 декабря, состоялось совещание военного и нацистского руководства, а также игры на картах. Педантичные немецкие генералы скрупулезно выверяли детали предстоящей агрессии, прикидывали, как лучше разгромить вооруженные силы СССР. 18 декабря 1940 года Гитлер утвердил окончательный план «Барбаросса». Главный замысел – германские вооруженные силы должны в ходе кратковременной кампании разгромить Советскую Россию. Основные силы русских сухопутных войск, находящиеся в Западной России, следует уничтожить в смелых операциях посредством глубокого, быстрого выдвижения танковых клиньев... Оставалось ждать день и час начала «Барбароссы»...
Секретное совещание нацистской верхушки и высшего командования вермахта, игры на картах... Всеармейский сбор советских военачальников, присутствие на нём руководителей партии, оперативные игры... Все мероприятия проходят в одно и то же время. Очень любопытное совпадение! Но удивительного в этом ничего не было. Германия готовилась к войне, и это было очевидно. Её приближение всё явственнее ощущали и в Советском Союзе, в первую очередь люди в погонах. Поэтому игры, организованные в те декабрьские дни Генеральным штабом, являлись проверкой готовности советских войск на случай возможной агрессии.
Вот как описывал одну из игр Г. К. Жуков в своей книге «Воспоминания и размышления»: «Руководство игрой осуществлялось наркомом обороны С. К. Тимошенко и начальником генерального штаба К. А. Мерецковым; они “подыгрывали” за юго-западное стратегическое направление. “Синяя” сторона (немцы) условно была нападающей. “Красная” (Красная Армия) – обороняющейся.
Военно-стратегическая игра в основном преследовала цель проверить реальность и целесообразность основных положений плана прикрытия и действия войск в начальном периоде войны.
Надо отдать должное Генеральному штабу: во всех подготовленных для игры материалах в значительной степени были отражены последние действия немецко-фашистских войск в Европе.
На западном стратегическом направлении игра охватывала фронт от Восточной Пруссии до Полесья. Состав фронтов: западная (“синяя”) сторона – свыше 60 дивизий, восточная (“красная”) – свыше 50 дивизий. Действия сухопутных войск поддерживались мощными воздушными силами.
Игра изобиловала драматическими моментами для восточной стороны. Они оказались во многом схожими с теми, которые возникли после 22 июня 1941 года, когда на Советский Союз напала фашистская Германия...
По окончании игры нарком обороны приказал Д. Г. Павлову и мне произвести частичный разбор, отметить недостатки и положительные моменты в действиях участников.
Общий разбор И. В. Сталин предложил провести в Кремле, куда пригласили руководство Наркомата обороны, Генерального штаба, командующих войсками округов и их начальников штабов. Кроме И. В. Сталина, присутствовали члены Политбюро.
Ход игры докладывал начальник Генерального штаба генерал армии К. А. Мерецков После двух-трех резких реплик Сталина он начал повторяться и сбиваться. Доклад у К. А. Мерецкова явно не ладился. В оценках событий и решений сторон у него уже не было логики. Когда он привел данные о соотношении сил сторон и преимуществе “синих” в начале игры, особенно в танках и авиации, И. В. Сталин, будучи раздосадован неудачей “красных”, остановил его, заявив:
– Откуда вы берете такое соотношение? Не забывайте, что на войне важно не только арифметическое большинство, но и искусство командиров и войск.
К. А. Мерецков ответил, что ему это известно, но количественное и качественное соотношение сил и средств на войне играет тоже не последнюю роль, тем более в современной войне, к которой Германия давно готовится и имеет уже значительный боевой опыт».
После этого, пишет далее Жуков, Сталин сделал «ещё несколько резких замечаний, о которых вспоминать не хочется».
Эти замечания стали судьбоносными как для Мерецкова, так и для Жукова. Впрочем, обратимся теперь к мемуарам «На службе народу» К. А. Мерецкова. Он так описывает подведение итогов игры: «В начале января 1941 года большинство участников совещания разъехалось по местам. Группа руководящих работников осталась на оперативную игру на картах. Присутствовали секретари ЦК ВКП(б) Г. М. Маленков и А. А. Жданов. Руководил игрой лично нарком обороны. Оперативная игра прошла чрезвычайно интересно и оказалась очень поучительной. По окончании игры планировался ее разбор, причем для подготовки к нему отводились сутки. Но вдруг небольшую группу участников игры вызвали в Кремль. Заседание состоялось в кабинете И. В. Сталина. Мне было предложено охарактеризовать ход декабрьского сбора высшего комсостава и январской оперативной игры. На все отвели 15—20 минут. Когда я дошел до игры, то успел остановиться только на действиях противника, после чего разбор фактически закончился, так как Сталин меня перебил и начал задавать вопросы.
Суть их сводилась к оценке разведывательных сведений о германской армии, полученных за последние месяцы в связи с анализом ее операций в Западной и Северной Европе. Однако мои соображения, основанные на данных о своих войсках и сведениях разведки, не произвели впечатления. Тут истекло отпущенное мне время, и разбор был прерван. Слово пытался взять Н. Ф. Ватутин. Но Николаю Федоровичу его не дали. И. В. Сталин обратился к народному комиссару обороны. С. К. Тимошенко меня не поддержал. Больше никто из присутствовавших военачальников слова не просил. И. В. Сталин прошелся по кабинету, остановился, помолчал и сказал:
– Товарищ Тимошенко просил назначить начальником Генерального штаба товарища Жукова. Давайте согласимся!
Возражений, естественно, не последовало».
Сопоставляя рассказ Жукова и рассказ Мерецкова, нельзя не заметить, что Жуков в своих воспоминаниях не стал акцентировать внимание на эпизоде, когда Сталин подверг обструкции Мерецкова за якобы недостоверные разведданные. Как считает военный историк С. П. Куличкин, «Сталин хотел услышать совсем не то, что говорил Мерецков, и это его раздражало. Слишком уж обескураживающими были сведения начальника Генерального штаба». Обескураживающие, но правдивые и объективные данные готовил Ватутин, и он как раз попытался взять слово, доказать достоверность сведений и реальное положение дел. Однако слова ему не дали. Впервые Ватутин ощутил сталинский гнев, который рикошетом зацепил и его.
С начала февраля просторный кабинет Мерецкова уже обживал генерал армии Г. К. Жуков, третий при Ватутине начальник Генерального штаба РККА. Мерецков, предшественник Жукова, пробыл в этой должности всего полгода. Хотя всегда считалось, что для полноценного становления начальника Генерального штаба требуется не менее 3—4 лет. Примечательно, что на посту руководителя Оперативного управления тоже за несколько лет сменилось немало начальников. Кадровая чехарда, начавшаяся в 1937 году, к сожалению, считалась привычным явлением, что не способствовало качественному решению вопросов стратегического планирования и подготовке вооруженных сил к предстоящей войне.
Жуков непросто входил в роль начальника Генерального штаба. И на то были свои причины. Георгий Константинович до мозга костей был выраженным строевым командиром и никогда не тяготел к штабной службе, не было у него для этой должности и основательного образования. «Я не имел до этого опыта штабной работы, – рассказал он много лет спустя писателю К. М. Симонову, – и к началу войны, по моему собственному ощущению, не был достаточно опытным и подготовленным начальником Генерального штаба, не говоря уже о том, что по своей натуре и по опыту службы тяготел не к штабной, а к командной деятельности».
О природной нерасположенности Жукова к штабной работе свидетельствуют записи старших начальников в его аттестациях. Вот одна из них: «Может быть использован с пользой для дела по должности помкомдива или командира мехсоединения при условии пропуска через соответствующие курсы. На штабную или преподавательскую работу назначен быть не может – органически её ненавидит». Подписал этот документ 8 ноября 1930 года командир 7-й Самарской кавдивизии К. К. Рокоссовский, будущий Маршал Советского Союза. А когда в кабинете Сталина в присутствии Жукова решался вопрос о новом начальнике Генштаба, Георгий Константинович прямо заявил вождю:
– Я никогда не работал в штабах. Всегда был в строю. Начальником Генерального штаба быть не могу.
Однако любые возражения Сталину в тот период были бесполезны. Поэтому Жукову пришлось занять должность и ещё сказать при этом вождю спасибо «за оказанное высокое доверие». Вскоре Георгий Константинович стал энергично и напористо, что было ему свойственно, осваивать новое ответственное дело.
«Весь февраль был занят тщательным изучением дел, непосредственно относящихся к деятельности Генерального штаба, – пишет он в «Воспоминаниях и размышлениях». – Работал по 15—16 часов в сутки, часто оставался ночевать в служебном кабинете. Не могу сказать, что я тотчас же вошел в курс многогранной деятельности Генерального штаба. Все это далось не сразу. Большую помощь мне оказали Н. Ф. Ватутин, Г. К. Маландин, А. М. Василевский, В. Д. Иванов, А. И. Шимонаев, Н. И. Четвериков и другие работники Генерального штаба».
Первой фамилию Ватутина Жуков поставил не случайно. Именно Николай Федорович сразу стал его правой рукой. И по должности (13 февраля 1941 года Ватутин был назначен 1-м заместителем начальника Генерального штаба, то есть Жукова), и по профессиональным качествам Ватутин являлся, без всякого преувеличения, одним из самых высокообразованных работников Генштаба и, говоря словами Жукова, обладал «широтой стратегического мышления». К сказанному добавим ещё один штрих. В феврале того же года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за успешное выполнение боевых заданий и выдающиеся достижения в боевой и политической подготовке и воспитании войск» Ватутин был награждён высшим орденом страны – орденом Ленина. Эту награду Николай Федорович получил в Кремле из рук самого «всесоюзного старосты» М. И. Калинина. Так что опираться Жукову было на кого.
Новое повышение по службе, высокая награда Родины, полное доверие со стороны Жукова окрыляли Ватутина. Но он был не из тех людей, у кого могла закружиться голова от достигнутой высоты и блеска воинских отличий. «Звёздный» хмель ни раньше, ни сейчас его не дурманил. Трудился Николай Федорович без устали, не замечая ни дней, ни ночей, а при его напряженной работе они уже не шли – стремительно летели. Генеральный штаб, в котором он был вторым лицом, выполнял огромную оперативную, организационную и мобилизационную работу, являясь основным аппаратом наркома обороны.
В первой половине февраля Жуков и Ватутин подробно доложили наркому обороны Тимошенко о серьёзных недостатках в организации и боевой готовности войск Красной армии, а также о состоянии мобилизационных запасов, особенно по снарядам и авиационным бомбам. Кроме того, было отмечено, что промышленность не успевает выполнять заказы наркомата на боевую технику. Вызывало также особую тревогу сосредоточение большого количества немецких войск в Восточной Пруссии, Польше и на Балканах. Общий вывод руководителей Генштаба был неутешителен: ввиду сложности военно-политической обстановки оборона гигантской страны находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо принять срочные меры и устранить имеющиеся недостатки в обороне западных границ и в вооруженных силах.
– Всё это хорошо известно руководству, – ответил Тимошенко. – Думаю, в данное время страна не в состоянии дать нам что-либо большее.
И тем не менее эти вопросы были доложены Сталину. По его поручению предложения руководителей военного ведомства были внесены в правительство. Надо сказать, что в принятом в последнем мирном народно-хозяйственном плане на 1941 год был предусмотрен значительный рост оборонной промышленности.
Безусловно, Ватутин, как и Жуков, реально смотрел на положение дел, хотя он не мог не понимать, что его доклады вряд ли воодушевят руководство армии и страны. В конце февраля того же года у наркома обороны состоялось совещание, на котором Ватутин выступил с докладом о состоянии железных дорог в приграничных военных округах. Картина, которую он нарисовал, тоже оказалась безрадостной.
– Пограничные железнодорожные районы мало приспособлены для массовой выгрузки войск, – без всяких предисловий начал свой доклад Николай Федорович. – об этом свидетельствуют следующие цифры. Железнодорожные дороги немцев, идущие к границе Литвы, имеют пропускную способность 220 поездов в сутки, а наша лиговская дорога, подходящая к границе Восточной Пруссии, – только 84. Не лучше обстоит дело на территории западных областей Белоруссии и Украины: здесь у нас почти вдвое меньше железнодорожных линий, чем у противника. Железнодорожные войска и строительные организации в течение 1941 года явно не смогут выполнить те работы, которые нужно провести...
Тимошенко, внимательно слушавший Ватутина, неожиданно его перебил:
– А вы разве не знаете, что ещё год назад по заданию ЦК партии Наркомат путей сообщения разработал семилетний план технической реконструкции железных дорог?..
– Так точно, знаю, товарищ нарком, – последовал уверенный ответ Ватутина. – Однако пока ничего серьёзного не сделано, кроме перешивки колен и элементарных работ по приспособлению железнодорожных сооружений под погрузку и выгрузку массы войск и вооружения.
Не менее обстоятельными на этом совещании были выступления и других докладчиков, в частности, генерал-лейтенанта Г. К. Маландина и генерал-майора А. М. Василевского. Как и Ватутин, они заострили внимание на том, что в обстановке надвигающейся военной угрозы необходимо как можно скорее решать вопросы транспортных коммуникаций в приграничных округах. Люди военные, они хорошо понимали их роль и значение в период подготовки к войне.
Характерно, что ни Ватутин, ни его подчиненные не были здесь в роли фиксаторов имеющихся недостатков. В рамках своей компетенции они предпринимали все возможные меры к их устранению, а также решали массу других сложных задач. Как пишет в своих воспоминаниях А. М. Василевский, в тот период Генштаб работал с неослабевающим напряжением. Еще и еще раз анализировались операции первых лет Второй мировой войны и принципы их проведения. Глубоко изучались как наступательные операции, так и вопросы стратегической обороны. В директивах наркома обороны руководящему составу Красной армии одновременно с задачами по отработке наступательных операций обязательно, причем конкретно и подробно, ставились задачи и по оборонительным операциям. В качестве практических мероприятий предусматривалось проведение зимой в каждой армии и округе армейского предназначения оперативной игры на тему армейской оборонительной операции, а в штабах округов фронтового предназначения – фронтовой оборонительной операции. Летом армии и округа осуществляли на тех же основаниях армейские или фронтовые двусторонние полевые учения. Основной, конечно, была наступающая сторона, а противоположная решала задачи оборонительного характера.
Вся эта многогранная работа проходила на фоне нарастающей переброски войск вермахта к советским границам. Договор о ненападении, заключенный с Германией в 1939 году, не вызывал иллюзий. Ложившиеся каждодневно на стол Ватутину разведсводки, другие сведения такого рода убедительно свидетельствовали о том, что угроза агрессии становится все более реальной. Если в конце 1939 года на оккупированных территориях Польши и Словакии Германия имела примерно 25 дивизий, то к концу 1940 года на границах с Советским Союзом уже находилось 68, включая финские соединения. В апреле 1941 года Германия выставляет до 100 дивизий, а ещё через несколько месяцев у советских рубежей сосредоточивается 150 дивизий.
Как писал в своей книге Маршал Советского Союза М. В. Захаров «Генеральный штаб в предвоенные годы», «к середине марта 1941 года общая численность вооруженных сил Германии, по расчетам нашего Разведывательного управления, составляла около 8 млн человек (в том числе в сухопутных войсках 6,5—7 млн человек). В боевом составе гитлеровских сухопутных войск было 262—272 дивизии (пехотных 220—230, танковых – 20, моторизованных – 22), 11—12 тыс. танков, более 52 тыс. орудий, около 19 200 самолетов».
Наряду с увеличением численности войск и количества единиц техники Германия активно осуществляла оборудование Восточного театра военных действий: строились новые аэродромы, склады, хранилища, мосты, дороги. Одновременно расширялись, реконструировались старые объекты и коммуникации.
События, подобно буре, приближались неумолимо и грозно. «В этих условиях, – пишет А. М. Василевский, – Генштаб в целом и наше Оперативное управление вносили коррективы в разработанный в течение осени и зимы 1940 года оперативный план сосредоточения и развертывания Вооруженных Сил для отражения нападения врага с запада. План предусматривал, что военные действия начнутся с отражения ударов нападающего врага; что удары эти сразу же разыграются в виде крупных воздушных сражений, с попыток противника обезвредить наши аэродромы, ослабить войсковые, и особенно танковые, группировки, подорвать тыловые войсковые объекты, нанести ущерб железнодорожным станциям и прифронтовым крупным городам. С нашей стороны предусматривалась необходимость силами всей авиации сорвать попытки врага завоевать господство в воздухе и в свою очередь нанести по нему решительные удары с воздуха. Одновременно ожидалось нападение на наши границы наземных войск с крупными танковыми группировками, во время которого наши стрелковые войска и укрепленные районы приграничных военных округов совместно с пограничными войсками обязаны будут сдержать первый натиск, а механизированные корпуса, опирающиеся на противотанковые рубежи, своими контрударами вместе со стрелковыми войсками должны будут ликвидировать вклинившиеся в нашу оборону группировки и создать благоприятную обстановку для перехода советских войск в решительное наступление. К началу вражеского наступления предусматривался выход на территорию приграничных округов войск, подаваемых из глубины СССР. Предполагалось также, что наши войска вступят в войну во всех случаях полностью изготовившимися и в составе предусмотренных планом группировок, что отмобилизование и сосредоточение войск будет произведено заблаговременно».
Далее Василевский говорит, что оперативный план отражения агрессии был тщательно увязан с мобилизационным планом Красной армии и страны в целом; отработаны расчеты и графики на перевозки войск и всего необходимого для них из глубины страны в районы сосредоточения и приняты должные меры для обеспечения перевозок по линии Наркомата путей сообщения СССР. План был отработан не только Генеральным штабом с соответствующими управлениями Наркомата обороны СССР, но и с командованием войск приграничных военных округов. Для этой цели в феврале—апреле 1941 года в Генштаб вызывались командующие войсками, члены военных советов, начальники штабов и оперативных отделов Прибалтийского, Западного, Киевского особых и Ленинградского военных округов. Вместе с ними намечались порядок прикрытия границы, выделение для этой цели необходимых сил и формы их использования. При этом предусматривалось, что войска эшелонов прикрытия к началу действий врага, будучи полностью укомплектованными по штатам военного времени, развернутся на подготовленных оборонительных рубежах вдоль границы и вместе с укрепленными районами и пограничными войсками смогут, в случае крайней необходимости, прикрыть отмобилизование войск второго эшелона приграничных округов, которым по мобилизационному плану отводили для этого от нескольких часов до одних суток.
Окончательная корректировка оперативного плана была проведена в мае – начале июня 1941 года. Над проектом этого документа, получившего название «Соображения по плану стратегического развёртывания Вооруженных Сил Советского Союза на случай войны с Германией и её союзниками», работали Ватутин вместе с Василевским. План был обсужден 24 мая на совершенно секретном совещании у Сталина, в котором принимал участие и Ватутин.
Здесь нужно сделать небольшое отступление, поскольку время от времени вокруг этого документа возникают серьёзные дебаты. Точнее, спор идёт из-за одного абзаца, в котором разработчики предложили «упредить противника в развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она будет находиться в стадии развёртывания и не успеет организовать фронт и взаимодействие родов войск». Некоторые исследователи считают, что именно эти «Соображения...» неопровержимо свидетельствуют о планах советского руководства нанести превентивный удар по Германии. Между тем подобная версия – не более чем малоубедительная гипотеза. Реально же известно, что Советский Союз не был готов начать войну с Германией в 1941 году. Сталин, что подтверждается документами, планировал до лета 1942 года завершить модернизацию вооруженных сил и оборонной промышленности. Но чтобы воевать?.. Воевать как раз собиралась Германия, поскольку обстановка для Советского Союза с каждым днём всё больше осложнялась. У западных границ уже стояли в ожидании приказа полностью отмобилизованные и развернутые вооруженные силы Германии. Все чаще и чаще в разведдонесениях и шифровках стали появляться такие тревожные фразы: «выступление Германии против Советского Союза решено окончательно и последует в скором времени», «Оперативный план предусматривает молниеносный удар...». Не проходило дня, чтобы воздушное пространство СССР не нарушали немецкие самолёты. Полеты над советской территорией Германия цинично объясняла неопытностью своих лётчиков. Только за первую половину 1941 года, как свидетельствуют документы, было зафиксировано 324 таких случая. А советскими пограничниками за этот же период было задержано более двух тысяч лазутчиков.
В апреле 1941 года Ватутин провёл командно-штабные учения в Ленинградском военном округе (ЛенВО), для участия в которых были привлечены командование и штабы округа и армий. До этого, в марте, он контролировал разработку командно-штабных учений в Закавказском и Среднеазиатском военных округах. Игра в ЛенВО дала возможность изучить и отработать такие вопросы, как ведение оборонительных операций на широких фронтах против превосходящих сил противника. Учение принесло немалую пользу командирам и начальникам в деле укрепления навыков и расширения их оперативного кругозора на Северо-Западном театре боевых действий.
Одновременно Николай Федорович попросил командующего войсками округа генерал-лейтенанта М. М. Попова доложить ему о том, какие мероприятия мобилизационного характера проводятся в округе на случай внезапного вторжения вероятного противника. Попов, хотя и командовал округом всего два месяца, хорошо владел обстановкой, все нити управления войсками находились в его руках. На основе директивы наркома обороны, сказал он, в округе идёт формирование двух корпусов – стрелкового и механизированного. Кроме того, под Ленинградом, а также неподалеку от Новгорода формируются две стрелковые дивизии. Укомплектование всех частей личным составом планируется завершить к 15 мая, а полная их готовность определена к 1 июля. Наряду с этим одна дивизия переводится на новые штаты, а также начата передислокация ряда частей и соединений в приграничные районы.
Внимательно выслушав командующего, Ватутин тем не менее остался не удовлетворён его докладом.
– Медленно, медленно идёт работа, Маркиан Михайлович, – сказал он. – Обстановка складывается так, что каждый день сейчас на вес золота.
На медлительность в проведении мобилизационных мероприятий Ватутин по возвращении в Москву обратил внимание командования и других округов, в первую очередь Западного и Киевского особых округов.
Действительно, сроки поджимали. Однако за развертыванием новых корпусов и дивизий не поспевала оборонная промышленность. Не располагая необходимыми материальными ресурсами, она не в состоянии была своевременно и в нужных объемах обеспечить их вооружением и техникой, особенно моторизованные и танковые соединения. «Например, для оснащения армии недоставало 12,5 тыс. тяжелых и средних танков, 43 тыс. тракторов, около 298 тыс. автомобилей, – эти цифры приводит в своей книге «Генеральный штаб в предвоенные годы» Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза М. В. Захаров. – Обеспеченность формирований и механизированных войск по тяжелым и средним танкам составляла 24—31 процент. К началу Великой Отечественной войны танковый парк новейших машин составлял: тяжелых танков КВ – 625, средних Т-34 – 1225. Если бы наша промышленность производила ежегодно 4620 танков, 13 525 тракторов, 83 155 автомобилей, как это было предусмотрено планом на 1941 год, то некомплект по данным видам боевой техники можно было бы ликвидировать не ранее чем через пять лет. Подобная картина наблюдалась и с оснащением авиации. В ее парке недоставало 13,6 тыс. самолетов фронтовой и тыловой авиации, в авиационных частях полностью отсутствовали двухмоторные истребители, не хватало около половины ближних бомбардировщиков. Обеспеченность войск малокалиберной зенитной артиллерией и зенитными пулеметами не превышала 23—37 процентов. В войсках не хватало средств заправки и транспортировки горючего, имущества связи, особенно кабеля, полковых и армейских радиостанций».
Да было бы мирного времени побольше, возможно, военная промышленность справилась бы с заказами армии. Но его уже практически не осталось. Все тревожнее и тревожнее поступали разведдонесения, чуть ли не ежедневно происходили нарушения границы. В те дни Ватутин работал практически на износ, не зная ни сна и ни покоя. Домой приезжал на несколько часов, а то и вообще оставался ночевать в кабинете.
Не ко времени у Николая Федоровича случился острый приступ аппендицита. Он несколько дней терпел сильные боли, а в результате его прямо из кабинета забрал начальник Центрального военного госпиталя Наркомата обороны СССР П. В. Мандрыка. Он же делал Ватутину операцию. Как потом выяснилось, Мандрыка приходился Николаю Федоровичу почти земляком. Когда Ватутин ещё был мальчишкой, Петр Мандрыка, выпускник Харьковского университета, работал земским врачом в Валуйском уезде, а потом заведовал в здешних краях больницей.
– Зачем же вы, товарищ генерал, терпели такие боли, – как ребёнку высказывал ему Мандрыка. – Хорошо, что всё обошлось без последствий...
Уже через неделю Николай Федорович был снова в строю.
Как раз в середине мая по директиве Генштаба, на разработке которой настаивал именно Ватутин, началось выдвижение ряда армий в районы сосредоточения вблизи западных границ. Всего из внутренних округов страны перебрасывалось 28 дивизий. Жизнь, хотя и катилась ещё по мирным рельсам, но по ним, тяжело грохоча, уже шли один за другим на Запад воинские эшелоны.
«В мае—июне 1941 года, – пишет в своих воспоминаниях А. М. Василевский, – по железной дороге на рубеж рек Западная Двина и Днепр были переброшены 19-я, 21-я и 22-я армии из Северо-Кавказского, Приволжского и Уральского военных округов, 25-й стрелковый корпус из Харьковского военного округа, а также 16-я армия из Забайкальского военного округа на Украину, в состав Киевского особого военного округа. 27 мая Генштаб дал западным приграничным округам указания о строительстве в срочном порядке полевых фронтовых командных пунктов, а 19 июня – вывести на них фронтовые управления Прибалтийского, Западного и Киевского особых военных округов. Управление Одесского округа по ходатайству окружного командования добилось такого разрешения ранее. 12—15 июня этим округам было приказано вывести дивизии, расположенные в глубине округа, ближе к государственной границе. 19 июня эти округа получили приказ маскировать аэродромы, воинские части, парки, склады и базы и рассредоточить самолеты на аэродромах».