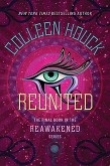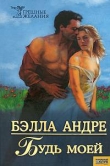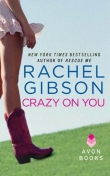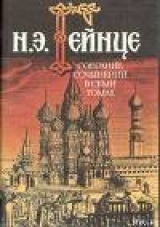
Текст книги "Герой конца века"
Автор книги: Николай Гейнце
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Часть вторая
СВОБОДНАЯ ЛЮБОВЬ
I
НА ТЕАТРЕ ВОЙНЫ
Началась русско-турецкая война 1877 года.
34-й Донской казачий полк, к которому был прикомандирован отставной корнет Николай Герасимович Савин и в котором он командовал полусотней, перешел вместе с другими частями 9-го армейского корпуса Дунай под Систовом в конце июня и двинулся по направлению к Никополю.
Крепость Никополь стояла на правом нагорном берегу Дуная, на высоком утесе.
Дунай в этой местности достигает до полутора верст ширины и представляет великолепную картину.
С одной стороны на темном утесе высится крепость Никополь со своими бастионами, увенчанными орудиями, кругом крепости по склону горы до самого Дуная живописно раскинулся город, весь в садах и виноградниках, с торчащими кое-где высокими минаретами.
На другой стороне величественной реки, на низкой луговой румынской стороне, расположен красивый городок Турн-Магурель, с европейской распланировкой и грациозными фасадами румынских домов.
Войска окружили Никополь. Задачей кавалерии было держать посты и разъезды в тылу неприятеля и, отрезав его от Виддина, где находился Осман-паша, и от Софии и Рущука, где были другие турецкие армии, лишить его возможности получать подкрепления и провиант для Никополя.
Кавалерийский отряд, в котором находился 34-й Донской казачий полк, состоял, кроме него, из уланского и казачьего полков 9-й кавалерийской дивизии и кавказской казачьей бригады.
Драгунский и гусарский полки 9-й дивизии ушли на рекогносцировку за Балканы с генералом Гурко.
Во время разъездов русским пришлось несколько раз бывать в никого не интересовавшей в то время Плевне, ставшей впоследствии такой грозной твердыней и причинившей столько беспокойства и горя России.
В то время в Плевне турецкий гарнизон состоял всего из нескольких башибузуков, бежавших при первом появлении русских разъездов.
Впрочем, охранять тыл Никополя кавалерии пришлось недолго.
3 июля стали стягиваться к Никополю остальные войска, приехал командир корпуса со своим штабом, а вечером того же дня прислан был приказ всем войскам быть готовым к штурму Никополя на следующее утро.
Рано утром 4 июля пехота стала подвигаться и строиться в боевой порядок, артиллерия выехала на позицию; с румынского берега началась бомбардировка из девятифунтовых орудий.
В пятом часу утра началась ружейная перестрелка, превратившаяся вскоре в жаркий бой.
Русская артиллерия стреляла без отдыха, а пехота стала подвигаться все ближе и ближе к неприступному утесу.
Ружейная трескотня слилась в один могучий, несмолкаемый рев, среди которого орудийные выстрелы, как русских, так и неприятельских батарей, звучали низкими нотами, как звучит густая струна контрабаса в большом оркестре, когда на фортиссимо все звуки отдельных инструментов сливаются в одно могучее, потрясающее целое.
Ряды пехотинцев заволоклись белой пороховой дымкой, сквозь которую то здесь, то там вздымались более густые клубы дыма, извергаемые орудиями.
Крепость тоже опоясалась тонким облачком порохового дыма, причудливым кольцом охватившего ее вокруг.
Вот удалая казацкая батарея вскарабкалась на отрог утеса, на высоту, казавшуюся недоступной, и оттуда стала наносить видимый страшный вред неприятелю и вскоре пробила даже брешь в крепостной стене.
Увидела эту брешь пехота, и длинные ряды лежавших до того времени пехотинцев как бы выросли и быстро двинулись к крепости.
Громкое «ура» слилось с гулом продолжавшейся орудийной пальбы и всколыхнуло русское сердце.
Русские ворвались в крепость, и через несколько минут русское знамя уже взвилось в воздухе над взятой твердыней.
Так быстро пал Никополь под всесокрушающим победоносным русским оружием.
Николай Герасимович Савин, во главе своей полусотни, вместе с другими войсками, въехал в город.
Удовлетворим, однако, понятное любопытство читателей и расскажем, каким образом наш герой из Петербурга, где мы оставили его после невольного путешествия в Пинегу и обратно, пораженного страшной потерей, потерей любимой им девушки, очутился на театре русско-турецкой войны.
Убедившись, что слух об отношениях Маргариты Максимилиановны Гранпа к Федору Карловичу Гофтреппе далеко не принадлежит к области закулисных сплетен, а является вопросом, бесповоротно решенным в положительном смысле, – совершившимся фактом – Николай Герасимович был поражен, как громом.
Какая-то тупая, невыносимая боль сжала его сердце.
Он не хотел этому верить, и только Михаил Дмитриевич Macлов, знавший через Горскую все достоверные театральные новости, подтвердив ему, что связь эта известна всем и даже ничуть не скрывается, убедил его окончательно в обрушившемся на него несчастье.
Отчаяние его не поддается описанию.
Смерть любимого существа, несомненно, потрясающим горем обрушивается на человека, но в ней есть некоторое утешение для остающихся в живых – утешение эгоистическое, но какое же утешение не таково – состоящее в том, что любимое существо потеряно не для одного его, а для всех.
Этого утешения не имел Савин – любимая им девушка была потеряна именно и исключительно для него одного, для всех остальных она скорее делалась приобретением – талантливая танцовщица оставалась на сцене, чтобы возбуждать восторги толпы не только своей красотой и искусством, но даже, с этого времени, и возможностью осуществления иных, более осязательных надежд.
Нежная роза превратилась в роскошный цветок без запаха.
Грязная вода театрального болота окрасила его в яркие цвета, убив тонкий аромат, чуждый грубым вкусам толпы.
Началась блестящая карьера танцовщицы Гранпа.
Чтобы не быть свидетелем этой «карьеры» – «нравственной смерти» – как называл ее Николай Герасимович, он уехал из Петербурга в Серединское.
Там, в тишине семейной обстановки, он провел около года.
Герасим Сергеевич, внутренне порадовавшийся неудаче сына в любви к танцорке, – он имел точные обо всем сообщения из Петербурга, – с присущим ему тактом, ни словом, ни намеком не подал сыну виду, что знает об этом.
Он, напротив, отнесся к нему более сердечно, нежели в прошлый его приезд, и по целым часам беседовал с ним в своем кабинете о делах.
Он предложил ему при жизни получить выдел причитающегося ему наследства, настоял на этом и переукрепил за ним два приходившиеся на его долю имения и выдал на руки капитал в процентных бумагах.
– Это сделает тебя более самостоятельным в твоих собственных глазах. Подумай о своем будущем, о своей карьере… Ты можешь принести много пользы, служа по выборам… России нужны молодые силы… Ты умен… этого отнять у тебя нельзя, – заметил старик, – даже твоя бурно проведенная юность доказывает, что в тебе есть темперамент, пыл, энергия… Надо только направить эти качества на дело, а не на безделье… Признайся, что многое, что ты натворил в Петербурге и Варшаве, сделано тобой от скуки.
– Вы правы, батюшка, – искренно ответил сын.
– Видишь, а если ты найдешь себе по душе работу, то весь этот жар молодой крови вложишь в нее… Я не упрекаю тебя, я сам был молод и был почти в таком же положении как ты, меня спасла любовь к хозяйству… В тебе нет этой наклонности… Тогда служи… Деятельность земства видная, публичная и почетная деятельность… Она не требует особого специального образования… Она требует только трех вещей: честности, честности и честности.
Фанни Михайловна и Зина – поездка последней в Петербург, по случаю постигшей ее болезни, была отложена на год – окружили Николая Герасимовича теплым попечением, одна – матери, другая – сестры.
Сердечная рана Савина, если не закрылась, то перестала мучить его своею острою болью.
Так бывает и с физическими ранами при нежном женском уходе.
При первом известии о войне, Николай Герасимович весь отдался мысли снова поступить на военную службу. На поле битвы, пред лицом смерти, казалось ему, может он только найти душевный покой, забыть холодящий его мозг весь ужас его поруганной любви, стереть из своей памяти до сих пор до боли пленительный образ развенчанного кумира, или же умереть, честною, славною боевою смертью.
С какою беззаветною храбростью, храбростью человека, для которого жизнь – ненужное тяжелое бремя, будет он бросаться в самые опасные места, с каким хладнокровием самообреченного человека будет он стоять под градом пуль.
«Война – это жизнь…» – повторял он где-то слышанное изречение.
«Это смерть!..» – подсказывал ему какой-то внутренний голос, но это не останавливало его, так как смерть была для него желаннее жизни.
«Говорят, что ищущие на войне смерти никогда не находят ее…» – думал молодой Савин, не с надеждой, а напротив, с горечью.
Он сообщил отцу о своем намерении. Герасим Сергеевич вместо ответа обнял своего сына.
– Если бы я не был стар, я сам бы полетел туда… Это война не только война, это святое дело… Благослови тебя Бог… Ты принес мне своим решением такую радость, такую радость…
Старик не мог говорить и заплакал.
Фанни Михайловна, узнав о намерении своего любимого сына идти подставлять свой лоб под турецкие пули, сначала остолбенела, а затем упала в истерическом припадке.
Но это было лишь первое впечатление. Восторженная радость ее мужа, которого с сыном окончательно примирило его патриотическое решение, передалось и ей – в ней проснулась русская женщина, и она, даже с неожиданной для Герасима Сергеевича твердостью, дала свое согласие, хотя чутким женским сердцем проникла в тайные думы сына, и раз, оставшись с ним наедине, серьезно сказала ему:
– Ты ищешь смерти… Господь не пошлет ее к тебе, я спокойна.
Сердце у Николая Герасимовича упало при этих словах его матери.
«Ужели они окажутся пророческими!» – мелькнуло в его голове.
Зина восторгалась решением своего названого брата и начала проситься отпустить ее в сестры милосердия.
– Разве с нянькой… – шутливо ответил Герасим Сергеевич. Она не на шутку обиделась и замолчала.
II
ПОД ПЛЕВНОЙ
Кишинев весной 1877 года был центром всех собиравшихся войск и представлял прелюбопытную картину.
Кого, кого тут не было?
Представители русских войск всех родов оружия со всех окраин России, иностранные представители и военные агенты всех стран и корреспонденты всех европейских и даже американских газет, торговцы, аферисты, крупные и мелкие, и бесчисленное количество всякого темного люда.
Не было недостатка и в представительницах прекрасного пола, привлеченных блеском военных мундиров и звоном золота, которым платилось жалованье носящих их.
При приезде в Кишинев Николаю Герасимовичу Савину пришлось мыкаться по городу более двух часов, пока он нашел себе не квартиру, а просто приют.
Это была крохотная комнатка в нижнем этаже гостиницы «Швейцария», со скрипучей постелью, хромым столом и двумя стульями.
За это помещение с него взяли пять рублей в сутки.
Надо заметить, впрочем, что «Швейцария» была одной из лучших гостиниц Кишинева и бралась нарасхват, так как город никогда не видал такого громадного сборища людей, как при мобилизации, и жители его пользовались моментом.
Представившись августейшему главнокомандующему и зачисленный по роду оружия в названный нами казачий полк, Николай Герасимович принужден был жить в Кишиневе, ожидая прибытия этого полка, стоявшего в Подольской губернии.
В Кишиневе он нашел многих своих товарищей по Петербургу, которые стояли при главнокомандующем адъютантами и ординарцами.
Кроме этих счастливцев, было много гвардейских офицеров, перешедших добровольно в армейские полки, или прикомандировавшихся к ним, чтобы попасть на войну.
Все эти представители «золотой петербургской молодежи», за неимением в Кишиневе Бореля и Дюссо, сходились в «Швейцарию» или «Северную» гостиницу – единственные места, где можно было что-нибудь достать.
Видя такую избранную публику, хозяева «Швейцарии» и «Северной» гостиницы вообразили себя «Борелями» и стали драть «по-борелевски» за свою невозможную стряпню.
Вина, подаваемые этими «кишиневскими Дюссо и Борелями», были невозможные. Даже тотинские и рижские шампанские показались бы нектаром в сравнении с «шипучей бурдой», предлагаемой местными рестораторами.
Но офицерство, хотя и морщилось, но пило, заменяя качество количеством.
Вечером вся публика высыпала на бульвар, куда выплывали и все разнокалиберные и разномастные представительницы прекрасного пола.
С бульвара молодежь, обыкновенно, отправлялась гурьбой в одну из гостиниц, где, в пропитанной табачным дымом атмосфере грязной залы, просиживала до рассвета, отравляясь винами кишиневских Борелей.
Иногда же целой компанией посещали кафе-шантаны.
Последних появилось в Кишиневе великое множество. Кафешантаны были особенные, походные.
Лучший из них помешался в каком-то погребе, где прежде был пивной склад.
Хозяин, слышавший, вероятно, что залы украшаются зеленью, вместо экзотических растений насовал в углы и амбразуры окон березки и липы, так что концертный зал был всегда убран, как в Троицын день деревенский кабак.
В одном из углов этой залы, тоже в зелени, стояло старое дребезжащее фортепьяно, какое можно только встретить в захолустье у мелкопоместного помещика и на котором дочки этих помещиков играют и поют чувствительные романсы и «верхние выводят нотки».
В кишиневском «Эльдорадо» – так назывался кафе-шантан – играл густо напомаженный еврей-тапер в розовом галстуке, и под звуки его музыки пели надорванными голосами разные дульсинеи-арфянки в сильно декольтированных яркого цвета платьях, с очень короткими юбками.
Так проходила предпоходная жизнь, в которой волей-неволей принимал участие и Савин.
Наконец в конце апреля прибыл в Кишинев 34-й Донской казачий полк, к которому был прикомандирован Николай Герасимович.
Полк представился на смотре его высочеству, который осматривал лично каждую проходившую часть.
Савин представился командиру и познакомился с офицерами.
Полковник оказался знакомый ему по Петербургу, где он прежде служил в лейб-казаках.
Для бывшего блестящего гвардейского офицера и не менее блестящего гусара, а главное барича, с детства светски вылощенного Савина, общество казацких офицеров показалось несколько странным.
Это были настоящие военные служаки, сравнительно грубые и необразованные, умеющие побеждать и умирать, но не умеющие пленять и развлекать.
Командир сотни есаул Полиевкт Сергеевич Балабанов – ближайший начальник Николая Герасимовича, был человек простой, лишенный всякого образования и воспитания.
Не говоря уже о том, что он с трудом подписывал свою фамилию, он не знал даже употребления носового платка и такового при себе никогда не имел и редко употреблял за столом вилку, и то разве для того, чтобы поковырять в зубах.
Ел он вместе с сотенным вахмистром, который был его кумом и первым его другом, а ложку свою носил всегда при себе, в голенище сапога.
Разговаривая изредка с Николаем Герасимовичем, он раз поведал ему, что взял своего сынишку из новочеркасской гимназии, так как тот научается там вольнодумству и разному вранью.
– Какое же это вранье? – полюбопытствовал Савин.
– Сами посудите, Миколай Герасимович, – с жаром заговорил Полиевкт Сергеевич, – четырнадцатилетний мой хлопчик рассказывает вдруг мне, старику-отцу, что земля какой-то шар и даже, что он ходит кругом солнца, а не солнце кругом земли… Я его хвать за чуб, трясу да приговариваю: «Не бреши, не бреши». Ну и взял его из гимназии. Теперь табун стережет в станице, там глупостей не наберется.
Другие офицеры тоже не многим отличались от Полиевкта Сергеевича по воспитанию и образованию.
В таком-то непривычном для Савина обществе выступил он в поход.
Единственной отрадой было общество полковника, который очень любезно предложил Николаю Герасимовичу столоваться у него.
У полковника был повар и все необходимое для кухни.
Обедали обыкновенно втроем: полковник, Савин и полковой доктор, милейший человек и большой балагур, смешивший постоянно своих собеседников разными анекдотами.
Время похода шло однообразно; те же переходы, те же бивуаки и те же мелкие молдавские городишки, Кишиневы в миниатюре, с тою же невылазною грязью, для которой походные сапоги были как раз кстати.
Наконец полк прибыл в Слатино, где и остановился.
Николай Герасимович поехал в отпуск в Бухарест, чтобы хоть немного отдохнуть от непривычной казачьей жизни и его товарищей – Гаврилычей.
Бухарест – современный европейский город, во время же восточной войны и пребывания в нем русских еще более оживился и сделался настоящим Парижем.
Русские имеют какую-то странную особенность не обрусить, а скорее офранцузить все их окружающее.
Так было и с Бухарестом.
На улицах только и слышалась, что французская речь.
Куда ни взглянешь, везде французские гостиницы и рестораны, с настоящими уже Борелями, Вавасерами и др.
Театры все французские, кафе-шантаны тоже настоящие – парижские. «Альказар», «Фоли-Бержер», «Альгамбра», с мадемуазелями Келлер, Филиппе и Альфонсиной во главе.
Французских кокоток наехало столько, что, наверно, на Итальянском бульваре в Париже их столько нельзя встретить, сколько на бульварах Бухареста во время войны.
В магазинах товар стал весь парижский, Николай Герасимович купил даже себе форменную военную фуражку от «Leon a Paris».
Вина продавались настоящие французские, но были неимоверно дороги – по золотому бутылка и даже дороже.
Савин остановился в «Grand-Hotel Brofft», где за полуимпериал в сутки ему отвели маленькую комнатку, но устланную ковром и прекрасно меблированную.
В Бухаресте Николай Герасимович отдохнул душой и телом и пробыл около месяца, выехав лишь в конце июня, по получении телеграммы от командира полка, требующего его возвращения в Слатин.
В Слатине он уже застал сбор к дальнейшему походу.
Вот каким образом Николай Герасимович очутился под Никополем.
Турецкий гарнизон последнего сдался корпусному командиру.
Потери русских были невелики, войска были в неописуемом восторге.
Первое дело 9-го корпуса было блестящее и взятие Никополя – изумительное.
После победы Никополь был занят одним из пехотных полков 5-й дивизии, более всего пострадавшим в этом деле, а остальные и в том числе полк, где находился Савин, двинулись вперед на Плевну.
Но Плевна преобразилась, в ней уже укрепился Осман-паша, пришедший из Виддина.
Попытки русских войск овладеть ею были безуспешны.
8 и 18 июля русские потерпели большие неудачи, войска были отражены и даже должны были отступить в беспорядке.
В некотором опьянении первым успехом под Никополем, русские силы не были соображены с силою противника, и корпус был брошен на целую армию.
Неудача 8 июля, при которой русские потеряли несколько тысяч человек, не послужила ни уроком, ни предостережением, и отчаянно смелая попытка снова одним натиском выбить значительно превосходящие силы из позиции, поставленной в лучшие условия защиты, при скорострельном оружии, повела еще к большим потерям 18 июля.
В этот роковой день выбыло из строя до семи тысяч человек.
Только крайний пыл нападения, поставивший в тупик турецкую армию и заставивший Османа-пашу быть излишне осторожным, спас русские войска от еше больших потерь при преследовании.
В результате пришлось остановиться и ожидать подкреплений, с чего можно было бы начать.
После ночного отступления 18 июля, паника распространилась глубоко в тыл настолько, что отразилась в Систове, где все население города и русские раненые бросились бежать к переправе к мосту, спасаясь от воображаемого наступления турок.
Николай Герасимович был свидетелем этой паники в Систове, будучи там со взводом своих казаков, так как привел из Никополя турецких пленных, которых препровождали в Россию.
Ему пришлось лично убеждать население и уговаривать раненых русских солдатиков не верить распространявшимся слухам, принесенным испуганными отступлением русских войск, бежавшими от Плевны братушками.
Более месяца продолжалось ожидание подкреплений.
Кавалерии пришлось нести аванпостную службу.
Это бездействие, да и вообще жизнь с казаками положительно тяготили Николая Герасимовича, и он решил ехать в штаб корпуса, просить перевода в регулярный полк или куда-нибудь еще ординарцем.
Задумано – сделано. Отпросившись у полковника, Савин уехал с вестовым в корпусный штаб.
III
В ПЕРВОМ СРАЖЕНИИ
Бездействие, или же, что главное, безопасная деятельность, страшно угнетали Николая Герасимовича.
Он всеми своими помыслами стремился принять участие в деле и получить так называемое «крещение огнем».
Между тем кавалерия была только зрительницей, а не активной участницей на поле брани, так как задачей ее было охранение тыла войск от случайного нападения неприятеля или могущего подойти неприятельского подкрепления.
С затаенной мыслью принять на себя возможно опасные поручения, ехал Савин в корпусный штаб.
Последний помещался в болгарском Карагаче.
Николай Герасимович остановился у офицеров-ординарцев корпусного командира, Козлова и Гаталея, своих бывших петербургских товарищей.
Они приняли его с распростертыми объятиями, как свежего человека среди однообразия бивуачной жизни.
Он разъяснил им цель своего приезда и просил представить корпусному командиру.
– Хорошо, хорошо, это уж завтра, – заметили оба офицера в один голос, – а теперь давай обедать.
На столе появился душистый шашлык, приготовленный поваром Козлова, персиянином, которого он где-то раздобыл.
После обеда отправились смотреть лошадей.
У Козлова был замечательный белый арабский жеребец, которого он впоследствии продал генералу Скобелеву и, кроме того, еще чудная бурая, английская чистокровная лошадь, которой залюбовался Савин, знаток и любитель лошадей.
Вечером сошлись остальные ординарцы и адъютанты, с которыми познакомили Николая Герасимовича, и началась попойка, окончившаяся позднею ночью.
На другое утро Савин пошел представляться командиру корпуса и начальнику штаба, которым, со слов Козлова и Гаталея, было уже известно о цели его приезда.
Генерал, барон Крюденер, принял Савина очень любезно, выслушал его разъяснения о причинах, заставивших его покинуть казачий полк, и предложил ему поступить к нему ординарцем, прикомандировал его к 6-й сотне того же 34-го Донского казачьего полка, которая состояла при нем.
Николай Герасимович рассыпался в благодарностях и, конечно, согласился.
Это было в двадцатых числах августа, и ему не долго пришлось прожить без дела.
Русские строили в это время в нескольких местах батареи, для привезенных дальнобойных и осадных орудий.
Предполагалось со дня на день начать общую бомбардировку Плевны и общее наступление со всех сторон.
9-й корпус занимал линию от болгарского Карагача, Сгалушц и Гривицы до Парадила, на правом фланге, то есть на север от Плевны, расположены были румыны, а на левом фланге с юга – 4-й корпус.
25 августа был объезд корпусного командира со всем штабом и начальниками частей позиции, и на ночь штаб уже перенесся на бивуак к главной батарее.
С 28 началась перестрелка, заревели осадные орудия, начали громить турок и потрясать окрестность своими оглушительными выстрелами.
Огромные снаряды и гул их полета радовали солдатиков, которые со свойственною им шутливостью приговаривали при всяком выстреле из орудия большого калибра:
– Вот так ахнула…
– Полетела Матрешка к туркам ночевать, разуважит она их!
В ночь на 29 августа был небольшой переполох.
На бивуаке уже спали, как вдруг затрещала ружейная перестрелка.
Корпусный командир послал Савина и одного из своих адъютантов, князя Гагарина, узнать в чем дело.
Посланные помчались.
Ночь была темная, и приходилось ориентироваться по вспыхивающим огонькам перестрелки, которая происходила впереди деревни Гривинцы, занятой уже русскими войсками.
В передовой линии был в эту ночь Козловский полк 31-й пехотной дивизии, к которому Савину и Гагарину и пришлось ехать.
Чем ближе они подъезжали, тем все яснее и яснее вырисовывалась местность, освещаемая ружейными выстрелами, и когда они добрались до ложементов Козловского полка, то узнали, что турки сделали вылазку, но были встречены нашим огнем и отбиты.
Перестрелка подняла турок в Гривицком редуте, хотя за темнотою без всякого вреда для русских.
Разузнав все это, Савин и Гагарин вернулись обратно и доложили ожидавшему их корпусному командиру.
На другой день на бивуак стали съезжаться со всех сторон корреспонденты и военные агенты.
Эти господа съезжались обыкновенно перед делом, как вороны, ожидая результатов боя, чтобы сообщить во все пункты земного шара о его подробностях и исходе.
В числе корреспондентов были знаменитые Станлей и Мак-Гахан и русские: В. И. Немирович-Данченко и присяжный поверенный Утин.
Последний был корреспондент-любитель и приехал верхом на прекрасном вороном коне.
Перестрелка русских батарей с турецкими редутами шла очень деятельно, турецкие батареи отвечали исправно, хотя и не имели орудий большого калибра, но их орудия были дальнобойные и гранаты долетали до русских войск.
Если бы все их снаряды разрывались, то дело было бы плохо, но, к счастью русских, англичане продали своим друзьям-туркам старые, залежавшиеся снаряды, которые большею частью не разрывались, а закапывались в землю.
Наконец настало знаменитое 30 августа.
Приказано было наступать по всей линии. Все ординарцы были разосланы для наблюдения по частям.
Николай Герасимович был командирован в 1-ю бригаду 5-й пехотной дивизии, которая должна была штурмовать вместе с румынскими войсками Гривицкий редут.
По диспозиции начать предстояло румынам в 4 часа дня, а русские должны были их поддерживать.
Для подготовки штурма русская артиллерия выехала одновременно с румынской на позицию и открыла огонь по редуту.
Румынские войска два раза принимались штурмовать и оба раза были отбиты.
Пришла очередь двинуться русским.
Савин в это время сидел с командиром архангелогородского полка флигель-адъютантом полковником Шлитер.
Это был храбрый боевой офицер, георгиевский кавалер, прослуживший около десяти лет на Кавказе, отличившийся там и переведенный за это отличие в гвардию в Преображенский полк.
Он только что принял архангелогородский полк, который в делах под Никополем и Плевной потерял уже двух командиров, большую часть своих офицеров и две трети нижних чинов.
Полковник Шлитер, как старый боевой офицер, предвидел всю трудность предстоящего дела и был скучен.
Может быть, впрочем, это было предчувствие.
Когда наступила роковая минута двинуться вперед, он встал, осенил себя крестным знамением и громким голосом скомандовал полку:
– Вперед!
Настала и для Савина желанная минута броситься в бой.
Он пошел тоже впереди атакующих колонн.
Началась стрельба залпами и перебежка вперед.
Турки стреляли без умолку, их пули жужжали непрерывным роем, вырывая из русского строя жертву за жертвой, но бригада бодро подвигалась вперед.
Отдать отчет в ощущениях, которые какой-то кровавой волной охватили Николая Герасимовича, он не мог положительно ни тогда, ни после.
Он помнит только, как, подбегая к главному редуту, он увидел, что шедший рядом с ним полковник Шлитер зашатался и упал.
Савин хотел поддержать его, но в это время сам почувствовал оглушительный удар в голову и потерял сознание.
Очнулся он через три дня на перевязочном пункте.
Все это время он был без памяти.
Подняться Николай Герасимович был не в силах и почти не мог шевельнуться.
Левая рука была в повязке и привязана к койке.
С головы только что сняли компресс.
– Что со мной? Где я? Чем кончилось дело? – слабым голосом спросил он у стоявшей около его койки сестры милосердия, стройной блондинки, с добрыми светлыми глазами.
– На перевязочном пункте, – отвечала сестра, – вы были контужены в голову и впали в беспамятство… Кроме того, у вас перебита левая рука выше локтя пулей…
– А дело, дело… – настаивал Савин.
– Гривицкий редут взят.
– Ну, слава Богу… А полковник?
– Полковник Шлитер убит.
Николаю Герасимовичу пришлось пробыть на перевязочном пункте еще несколько дней, после чего он с другими ранеными отправился в Россию.
До Бухареста их везли на волах и лошадях, а в Бухаресте поместили в прекрасном вагоне поезда Красного Креста, в котором раненые и помчались на родину.
Савин был отправлен в Тулу, где и был помещен в госпитале Красного Креста и где через два месяца настолько поправился, что мог ехать в деревню.
В Серединском его ожидали тяжелые дни.
Его мать Фанни Михайловна лежала на одре смерти, а Герасим Сергеевич ходил как убитый.
В доме собралась вся семья, оба брата Николая Герасимовича и Зина, приехавшая из Петербурга, где она только что было начала готовиться к экзамену на женские медицинские курсы.
Ее, по желанию больной, вызвали телеграммой.
Болезнь Фанни Михайловны развилась неожиданно быстро. Здоровая, почти никогда не хворавшая, она вдруг слегла как подкошенная, совершенно неожиданно для мужа и окружающих.
Началом болезни было нервное расстройство, отразившееся на всем организме.
Последнее письмо от сына ею было получено 30 августа. Сын писал, что на это число назначен штурм Плевны.
Весть о том, что русские войска наконец сломили эту турецкую твердыню, дошла вскоре до России, как донеслась и весть о том, сколько жертв стоила эта победа.
Не получая писем от сына, Фанни Михайловна не осушала день и ночь глаз, вполне уверенная, что он убит.
Слова утешения не действовали на нее, и она положительно слабела день ото дня.
Пришедшее почти через месяц письмо, задержанное, видимо, отправкой с перевязочного пункта, о том, что Николай Герасимович ранен и вместе с другими серьезно раненными отправляется в Россию, писанное по просьбе Савина сестрой милосердия, почти совершенно не успокоило несчастную мать.
– Это все ваши шутки, – твердила она, – это одно желание скрыть от меня истину, отдалить роковое известие… Я знаю, я сердцем чувствую, что он убит…
Наконец Фанни Михайловна окончательно слегла, простудившись при частых поездках в церковь, на каменном полу которой она буквально лежала ничком по целым часам.
Организм был окончательно подорван нервным расстройством и простудой.
Даже пришедшее известие, что сын ее жив и здоров, не могло уже поднять ее со смертного одра.
Через неделю после приезда Николая Герасимовича в Серединское, Фанни Михайловна испустила последний вздох на его руках.
Он не отходил ни на шаг от ее постели.
Герасим Сергеевич, после похорон любимой жены, не пожелал остаться в Серединском, которое по его распределению имений принадлежало его сыну Николаю, и приказал увезти себя в Москву.
Его именно увезли, почти в бессознательном состоянии от постигшего его горя.
Братья разъехались, уехала и Зина в Петербург.
Она было предложила ехать с собою и Николаю Герасимовичу, но при слове Петербург его лицо исказилось таким выражением невыносимого страдания, что Зиновия Николаевна даже не окончила начатую фразу.