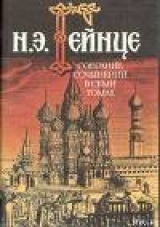
Текст книги "Герой конца века"
Автор книги: Николай Гейнце
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Николай Гейнце
Герой конца века
Часть первая
В ЦАРСТВЕ ЖЕНЩИН
I
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ
Февраль 1876 года стоял холодный и снежный, два весьма редкие качества петербургских зим.
На площади Большого театра вытянулся целый ряд собственных экипажей и длинная лента извозчиков. Кучера и возницы топтались около карет и саней, хлопали рукавицами и перекидывались между собою замечаниями об адской погоде.
Дул действительно резкий ветер, шел косой снег, залеплявший глаза и как бы острыми иголками коловший лицо.
Было около девяти часов вечера.
Насколько мрачно, уныло и холодно было на Театральной площади, тускло освещенной газовыми фонарями, стекла которых были запушены густым инеем, настолько светло и тепло было в зрительной зале Большого театра, переполненной публикой.
Чудной гирляндой цветных туалетов развертывались ложи бенуара, бельэтажа и даже 1-го яруса, туалетов, обладательницы которых, в большинстве, как картины искусных художников, были достойны роскошных рамок. Переливы драгоценных камней всех цветов радуги украшали белоснежные шеи, розовые ушки и затянутые в изящные перчатки грациозные ручки.
Тут был и петербургский «свет» и «полусвет», последний старавшийся затмить первый искусственным сиянием – сиянием драгоценностей и вполне этого достигавший.
Скромные «светские розы», нежные цветы с тонким ароматом чистоты и невинности, робко жались в сторонке перед пышными «камелиями», получавшими свой одуряющий аромат от современного парижского алхимика Герлена, нашедшего средство возвращать молодость и красоту и путем этого средства делать себе золото.
Такую параллель можно было провести, впрочем, лишь между несколькими великосветскими девушками, сидевшими в ложах бенуара и бельэтажа с почтенными старушками, мамашами и тетушками, седые букли которых придавали этим ложам особый строгий стиль.
Остальные же светские дамы и даже девушки, как юные, так и перешедшие далеко тот возраст, который называется «бальзаковским», являлись не параллелями дам полусвета, а скорее – слабыми их пародиями. Это были цветки, менее выхоленные, выросшие на менее благородной почве, это были бледные копии тех же камелий, писанные кистью доморощенного дюжинного живописца. Верхние театральные сферы, вплоть до «райка», также пестрели яркими женскими платьями и темными фигурами мужчин во всевозможных костюмах, от модного до длиннополого сюртука и даже до суконной поддевки и крашеного нагольного тулупа.
Партер представлял своего рода торжественную картину, особенно первые ряды кресел, в которых, как известно, сосредоточен фокус балета, тогда как в опере этот фокус звука, а не зрения, находится в дальних рядах.
Оканчивался первый акт балета «Трильби».
Публика для внимательного наблюдателя разделялась на две категории: одна пришла вынести из театра купленное ею эстетическое наслаждение, и по напряженному вниманию, отражавшемуся в ее глазах, устремленных на сцену, видно было, что она возвращала уплаченные ею в кассе трудовые деньги, другая категория приехала в театр, отдавая долг светским обязанностям, себя показать и людей посмотреть; для них театр – место сборища, то же, что бал, гулянье и даже церковная служба – они везде являются в полном сборе, чтобы скучать, лицезрея друг друга.
Таков обыкновенно у нас контингент театральной толпы. Конечно, среди нее найдется несколько десятков людей, для которых театр не «дорогое удовольствие», не «место выставки себя и нарядов», а нечто, составляющее неотъемлемую часть их жизни, духовной или физической – первые завсегдатаи драмы и оперы, вторые – балета.
Наблюдательный глаз всегда различит группу этих завсегдатаев театра, занимающих первые ряды. Они держат себя с непринужденностью «своих», они все знакомы друг с другом, один бог – бог хореографии, которому они служат, равняет возрасты и положения.
Их «общее дело» видно по взглядам и улыбкам, которыми они перекидываются друг с другом, в их поклонах, пожатиях рук, словом, во всех мелочах их жизненных отношений.
Появление между ними новичка тотчас бросается в глаза.
Он не сразу осваивается в этой среде и его выдает излишняя развязность, желание порисоваться, несдержанная восторженность взглядов и манер.
Таким «новичком» в описываемом нами спектакле был молодой гвардейский офицер, Петр Карлович Гофтреппе, блондин с небольшими усиками на круглом лице, которые он усиленно теребил левой рукой, а правой то и дело поднося к глазам огромный бинокль, целую систему астрономических труб, годных скорее для наблюдений небесных светил, нежели звездочек парусинного неба.
Его серые, бесцветные глаза во время отдыха, который он давал им от наблюдений, живо выражали лихорадочное нетерпение, которое, впрочем, конечно, в меньшей, сдержанной форме, читалось в глазах и других балетоманов.
Они, однако, не вооружась биноклями с ленивою скукою посматривали на сцену, где грациозными пестрыми гирляндами свивался и развивался кордебалет, где мелькали десятки тех ножек, от которых кружатся мужские головы, где сгибались и разгибались торсы, созданные для объятий и вызывающие желания – эти наркотические, если можно так выразиться, моменты балета, не производили на пресыщенных балетоманов впечатления.
Среди них, видимо, царила атмосфера ожидания.
Они ожидали последнего акта балета, когда должна будет появиться недавно объявившееся чудо красоты и грации – характерная танцовщица Маргарита Гранпа.
С год как выпущенная из театральной школы, эта еще совсем юная жрица Терпсихоры сразу оставила за своим флангом подруг по балету, среди которых в то время, кстати сказать, насчитывалось много красавиц, воздушных, грациозных, пластичных.
Все эти звезды померкли перед восшедшим светилом – Маргаритой Гранпа.
Избрав своею специальностью характерные танцы, она с первых шагов на сценичных подмостках не знала, да и до сих пор, сказать вскользь, не знает соперниц.
Для нее почти в каждом балете вставлялись номера, и эти-то номера и были «гвоздями» балета.
В последнем акте балета «Трильби» она танцевала с Кшесинским «цыганский танец».
Его-то и ожидали балетоманы.
Кончалось, как говорили, первое действие, когда в партере появился высокий, статный, красивый мужчина, на вид не более двадцати пяти лет. Изящная сюртучная пара, видимо сшитая лучшим портным, красиво облегала атлетически сложенную фигуру, по походке и по манере держать себя указывавшую на военную выправку.
Достигнув первых рядов кресел, он начал раскланиваться направо и налево.
По выражению лица завсегдатаев балетных спектаклей не трудно было угадать, что он «свой», ему добродушно кивали головой, а выражение удивления вместе с удовольствием встречи говорили, что он появился в театре неожиданно, что он был в отсутствии, ибо так не встречают тех, с кем виделись на прошлом спектакле.
– Здравствуй, Савин!
– Какими судьбами, Николай Герасимович!
– Bonsoir, Savin! (Добрый вечер, Савин!)
– Ты ли это?
– Откуда, брат!
Такие возгласы слышались вполголоса со всех сторон вместе с протянутыми для рукопожатия руками.
С одним только из балетоманов вошедший обменялся церемонным поклоном – это с Гофтреппе, причем, хотя и на одно мгновение, но добродушная улыбка исчезла с лица прибывшего, когда его взгляд встретился со взглядом молодого офицера, отразившим все его внутреннее самодовольное торжество.
Лицо вошедшего вдруг исказилось от какой-то внутренней боли, и он на одно мгновение, повторяем, беспомощно оглянулся вокруг, как бы ища защиты.
Деланно усмехнувшись своей собственной слабости, он прошел в первый ряд и опустился на крайнее от прохода кресло.
Отставной корнет Николай Герасимович Савин, действительно, после довольно продолжительной отлучки появился в Петербурге и в первый раз присутствовал на балетном спектакле сезона 1876 года.
По выражению лица, с которым он доглядел первый акт и смотрел следующие, видно было, что и он, как и другие балетоманы, приехал для последнего действия – для характерного танца Маргариты Гранпа.
Волнение сильного нетерпения, проглядывавшего в каждой черте его мужественного лица, в нервном покручивании выхоленных усов, невольно выделяло его среди ожидавших появления очаровательной цыганки и красноречиво говорило то, что в этой цыганке для него дорога не только танцовщица, но и женщина.
Несколько раз во время действий и антрактов взгляды Савина и Гофтреппе встречались. Лицо последнего по-прежнему не покидала улыбка торжества, видимо, раздражительно действовавшая на состояние духа первого.
К происходившей между молодыми людьми мимодраме не относились безучастно и остальные балетоманы – что было видно по тревожным взглядам, бросаемым ими по временам то на того, то на другого.
Казалось, их интересовал исход этого представления гораздо более, нежели того, которое шло на сцене. Наконец окончился последний антракт, и занавес взвился.
Выход Гранпа и Кшесинского был в половине акта, но эта половина тянулась для балетоманов вообще, а для Савина, в частности, томительно долго.
Наконец из-за правой кулисы выскользнула давно ожидаемая пара. Оглушительный гром аплодисментов приветствовал ее появление.
Сигнал подавался из первого ряда партера и с быстротою электрического тока передавался всему театру, достигая своего апогея в театральных верхах.
На секунду наступала тишина, театр замирал – артисты уже готовились сделать первые па, как снова еще сильнейшие рукоплескания и восторженные крики огласили зрительный зал.
Артисты стояли рука в руку и с почтительной грацией кланялись приветствовавшей их толпе.
Наконец аплодисменты стали постепенно смолкать, то тут, то там слышались местные взрывы, и перед воцарившейся тишиной раздались единичные рукоплескания.
Оркестр грянул.
Цыганский танец начался.
II
У ТЕАТРАЛЬНОГО ПОДЪЕЗДА
Несмотря на то, что в описываемые годы петербургский балет, как мы уже имели случай заметить ранее, имел в своих рядах много талантливых танцовщиц, блиставших молодостью, грацией и красотой – с год как выпущенная из театральной школы Маргарита Гранпа сумела в это короткое время не только отвоевать себе в нем выдающееся место, но стать положительной любимицей публики.
Суд балетоманов признал в ней все достоинства танцовщицы и женщины.
Последней, впрочем, in spe, то есть в будущем, так как пока еще она была тем благоухающим распускающимся цветком, который обещает при своем полном расцвете образовать вокруг себя одуряющую атмосферу аромата и сочетанием нежных красок ласкать взоры людей, одним словом, стать изящнейшим цветком мироздания – женщиной.
И она более чем оправдала эти надежды.
Высокая, стройная блондинка, с тем редким цветом волос, который почему-то называется пепельным, но которому, собственно, нет названия по неуловимости его переливов, с мягкими, нежными чертами лица, которые не могут назваться правильными лишь потому, что к ним не применимо понятие о линиях с точки зрения человеческого искусства.
Есть красота, так сказать, отвлеченная, создаваемая гением художника, воспроизводящего на полотне свою фантазию, свой идеал, соответствующий его настроению – такова красота рафаэлевой мадонны – возвышенная, неземная, говорящая более о небе, нежели о земле.
Есть создание гениев-художников, изображающих красоту в сочетании тонких линий – образец такой красоты мы видим в статуях богини Венеры.
Есть в художественных произведениях изображение красоты, более близкой к земным типам – это красота миловидного личика, чистого создания, еще не знающего жизни, но стремящегося к ее познанию – таковы головки Греза.
Природа – этот величайший и гениальнейший из художников – дарит изредка мир такими воплощениями красоты, в которых перечисленные нами образцы находятся в какой-то наисовершенной гармонии.
Тонкость линий как бы стушевывается общим неземным, полувоздушным обликом, кажущимся таким далеким от жизни, а между тем полным ею.
Спокойствие и буря, чистота и страсть, святость и грех – все это, кажущееся несовместимым, соединяется в вдохновенном образе идеальной красавицы.
Такой красавицей была Маргарита Гранпа.
Эта печать неземной, а между тем так много говорящей земному чувству красоты лежала не только на всей ее фигуре, но и на всех ее движениях – пластичных, грациозных, естественных и непринужденных.
Она, казалось, не была, как другие, выучена для балета, она была рождена для него.
В ней был не талант, а гений танцовщицы.
Потому-то театр во время исполнения ею номеров затаивал дыхание – публика видела исполнение танца, говорящего не только зрению, но и уму.
Она видела не только одну физическую работу танцовщицы, но и работу ее мысли.
Восемнадцатилетняя девушка, хотя уже с великолепно, но, видимо, еще полуразвившимся торсом, инстинктивно влагающая в танец еще неведомую ей страсть, несвойственную ей самой по себе дикость, цыганскую удаль и размах, должна была создать этот образ изображаемой ею цыганки и выполнить его на сцене.
Это, повторяем, задача не танцовщицы, а артистки.
И в описываемый нами спектакль, после улегшейся бури аплодисментов, театр затих и замер.
Все взоры устремились на талантливую молодую танцовщицу, и каждое движение ее не только ловили, к нему, казалось, прислушивались.
Рассеянные до этого момента балетоманы сосредоточились.
Оставив свои наблюдения над мимодрамой, происходившей между неожиданно появившимся в театре Савиным и юным Гофтреппе, они всецело предались созерцанию танцовщицы Гранпа.
По выражению их лиц не трудно было заметить, что все они, от старого до малого, готовы сейчас же пасть к грациозным ножкам молоденькой танцовщицы.
Но и среди этого обожания, разлитого на лицах балетоманов, выражения лиц Савина и Гофтреппе выделялись своим красноречием.
На красивом лице Николая Герасимовича, с великолепными светло-каштановыми усами, появилось выражение какого-то сладостного блаженства, на красивом, точно выточенном, высоком лбу выступили от волнения капли пота.
Вся его фигура, как бы выдававшаяся вперед, точно говорила: «Я приехал, я здесь, я у ног твоих».
Юный Гофтреппе выглядел несколько спокойнее, в его глазах по очереди то мелькали страстные огоньки, то сменялись они какой-то назойливой беспокойной думой, причем он как-то инстинктивно повертывался в сторону сидевшего недалеко от него Савина.
Но вот обоими исполнителями сделано последнее па.
Танец был окончен.
Гром аплодисментов и крики «браво», «бис» огласили театр.
Из оркестра начались подношения, всегда сопровождавшие выход Маргариты Гранпа.
Букеты, венки и корзины с цветами, футляры и ящики одни за другими показывались из оркестра, как из волшебного ларца чародея.
Гранпа принимала их, хотя и с очаровательной улыбкой, но с достоинством уже избалованной публикой любимицы.
Ее большие голубые, искрящиеся глаза смеялись вместе с розовыми губками, и за некоторые подношения она, видимо, благодарила ими по точному адресу.
Крики и рукоплескания не умолкали до тех пор, пока несколько конечных па не были повторены.
Потянулась, после умолкнувших аплодисментов, последняя часть акта.
Несколько человек из балетоманов, в числе которых был и Гофтреппе, проскользнули в боковую дверь, ведущую ко входу на сцену.
Остальные остались на местах, с тревогой поглядывая на ту же дверь.
Вышедшие вернулись еще до конца акта.
– Согласилась, согласилась… – подобно электрическому току пронеслось по первым рядам.
К Савину наклонился сидевший сзади него молодой человек, особенно радостно приветствовавший его появление в зрительном зале.
– Савин, ты с нами, ужинать…
– Куда?
– К Дюссо, конечно, все по-прежнему… Слышишь, будет и Гранпа.
– Маргарита?.. – с какой-то спазмой в горле сказал Николай Герасимович.
– Ну, да, она согласилась… Ей послали записку, и теперь ходили за ответом…
– Одна?..
– Одна… Аргус болен… там будут и другие…
Лицо Савина засияло радостью.
– С удовольствием, с удовольствием… – пожал он крепко руку своему собеседнику.
– И Савин с нами… И Савин в доле… – пронеслось в креслах.
– И Савин… – протянул громче всех Гофтреппе каким-то странным, загадочным тоном.
Николай Герасимович невольно повернулся в его сторону.
В глазах молодого офицера он прочел такое злобное торжество, что невольно вздрогнул.
«Что это значит? – мелькнуло в его уме. – Он становится дерзок… Его надо проучить… Я это сделаю сегодня же…»
Мысли его, однако, тотчас же приняли другое направление.
«Я увижу ее… я буду говорить с ней…» – замечтал он.
Сердце его усиленно билось. Занавес в это время тихо опускался.
Начался разъезд, с его обычной сутолокой в коридорах и вестибюле театра и выкрикиванием кучеров у подъездов.
Николай Герасимович Савин, одетый в военную николаевскую шинель и бобровую шапку, вышел из театра в группе балетоманов и двинулся вместе с ними к «театральному подъезду», как технически называется подъезд, откуда выходят артисты и артистки театра.
Гофтреппе шел сзади всех и при выходе из театра перекинулся шепотом несколькими словами со стоявшим в подъезде дежурным участковым приставом, видным мужчиной, служащим до сих пор в петербургской полиции и носящим историческую фамилию.
Пристав кивнул головой и не спеша отправился за группой балетоманов.
Последние уже были у театрального подъезда, когда пристав, ускорив шаги, подошел к Савину и тихо дотронулся до его плеча.
– Николай Герасимович, на два слова… – тихо сказал он.
– Вы меня?.. – остановился тот, удивленно смерив глазами полицейского офицера.
– Да, вас, именно вас… на два слова…
– Хорошо, но только поскорей… Что вам нужно? – торопил Савин, с тревогой видя, что из подъезда уже показываются закутанные женские фигуры.
«Это она… наверное она!» – мелькнуло в его уме.
– Я, Николай Герасимович, как мне это не неприятно, должен вас арестовать… – бесстрастно прошептал пристав.
Удар грома, наверное, не поразил бы так Савина, как эти тихие слова полицейского офицера.
Савин бросил растерянный взгляд на театральный подъезд.
«Это она! Это она!» – в последний раз мелькнуло в его уме.
Это было на одно мгновение. Он вспомнил сказанные ему слова стоявшим около него полицейским приставом.
– Арестовать… меня… За что?.. Это ошибка… Почему сейчас?.. – растерянно заговорил он.
– Вы сосланы административным порядком в Пинегу!.. – тихо, серьезным тоном отвечал пристав.
– В Пинегу… Пинегу… Что такое Пинега?.. – бормотал Николай Герасимович. – Я не пойду…
Он двинулся было вперед, но пристав загородил ему дорогу.
– Я дам свисток… Лучше без скандала поедемте со мной в участок, – внушительным шепотом сказал полицейский офицер.
В это самое время от театрального подъезда откатило несколько троечных саней и промелькнуло мимо Николая Герасимовича и пристава.
В одних из саней, на которых упал свет фонаря, среди сидевших двух дам и двух кавалеров Савин узнал Гофтреппе и Маргариту Гранпа.
Злобная усмешка торжества змеилась, как и в театре, на губах молодого офицера. Теперь Николай Герасимович ее понял.
Судорожным движением запахнув шинель, он произнес сдавленным голосом, обратившись к приставу:
– Так в участок?..
– В участок… Очень жаль… Но что делать… долг службы прежде всего…
– Едемте… – прохрипел Савин.
– Пожалуйте… – указал полицейский офицер на уже подъехавшие ранее собственные сани.
Николай Герасимович твердой походкой пошел к саням и сел первый, пристав быстро примостился рядом и крикнул:
– Пошел, в участок!
Трудно описать весь ужас, охвативший молодого человека, которому нежданно-негаданно говорят, что он арестован и именно в тот момент, когда вся душа его, все его существо пылало одним желанием, одною мыслью о свидании с любимой женщиной.
Савин сидел, как окаменелый. В приказании пристава кучеру последний раз слух Николая Герасимовича резнуло слово «участок». Затем на него напал какой-то столбняк от промелькнувшей мысли, что он арестован, что его везут как арестованного в тот самый участок, к которому он по всему складу его жизни не мог не чувствовать отвращения, даже почти презрения.
Чтобы понять это, читателю необходимо поближе познакомиться с героем нашего повествования и со всем складом его жизни до описанного нами его неожиданного и непредвиденного им ареста. Это мы и сделаем в следующей главе.
III
ДЕТСКИЕ ГОДЫ
Отец нашего героя – Герасим Сергеевич Савин в молодости был лихой кавалерист, в том, почти ныне позабытом, лучшем значении этого понятия.
Беззаветно храбрый, чуткий до щепетильности в вопросах чести и долга, с широкой русской душой и не менее широкой русской удалью, Герасим Сергеевич, однако, рано вышел в отставку, питая с молодости страсть к сельскому хозяйству, а свою храбрость и удаль всецело вложил в охоту, которой посвящал все свободное от хозяйственных занятий время.
Собственник нескольких громадных имений в разных губерниях, он переезжал из одного своего поместья в другое, везде оглядывая все зорким хозяйственным взглядом и всюду являясь грозою не только для своих старост, но и для волков, лисиц и зайцев, во множестве населявших его собственные леса.
Несмотря на то, что, находясь в положении жениха, он представлял «лакомый кусок» для губернских маменек и доченек и эти последние делали на него облавы не хуже и не искуснее тех, которые он делал на «лесного зверя», Герасим Сергеевич был счастливее последнего и долгое время благополучно ускользал от цепей Гименея.
Его ближайшие родственники, иные с грустью, другие с радостью, и все в общем с тревогой уже думали, что он останется вечным холостяком, как вдруг на сороковом году Герасим Сергеевич влюбился в свою дальнюю кузину, семнадцатилетнюю девушку и, со свойственной ему стремительностью, сделал предложение и женился.
Кочевая по разным имениям жизнь, проводимая им до свадьбы, прекратилась, и молодые поселились в родовом гнезде фамилии Савиных, в селе Серединском Боровского уезда Калужской губернии, проводя, впрочем, несколько зимних месяцев в Москве, где у Герасима Сергеевича был дом у Никитских ворот.
Фанни Михайловна Савина, славившаяся в половине и конце сороковых годов в Москве своею выдающеюся красотою, была женщиною развитою и умною, очень набожной и так же, как и ее муж, чрезвычайно доброй.
Избалованная светскими удовольствиями и выдающейся ролью, играемой ею в обществе, окруженная толпой раболепных поклонников и немых обожателей, она в чаду великосветских успехов осталась верна своему долгу не только жены, но и матери, и когда сыновья ее: Сергей, герой наш – Николай и Михаил стали подрастать, почти отказалась от света и всецело отдалась воспитанию детей, несмотря на то, что была в это время в полном расцвете женской красоты.
Таковы в сущности должны быть женщины-матери, но, видно, понятие о них в наше время позабыто даже более, нежели понятие о лихих кавалеристах.
Особенно много беспокойства доставлял ей любимец ее отца – Коля, шалости которого были подчас до того буйны и неукротимы, что окончательно ставили в тупик добрую и кроткую женщину.
Потеряв нескольких детей, Фанни Михайловна положительно дрожала за здоровье и жизнь оставшихся в живых сыновей. Между старшим и вторым было девять лет разницы, и в этот-то период она потеряла пятерых детей, умерших вскоре после их рождения.
Понятно, что сын Николай, за которого боялись, что он также не выживет, как его братья и сестры, сделался кумиром своих родителей и мать берегла его, как зеницу ока. Родившийся через два года сын Михаил уже казался родителям не столь верно обреченным на раннюю смерть.
Идол отца и матери, баловень всех домашних, маленький Коля, конечно, пользовался исключительностью своего положения с чисто детским неразумением. Живой характер от природы обратился сначала в шаловливый, а затем прямо в необузданный и неукротимый.
Для любящих родителей это прогрессирование дурных наклонностей сына произошло, по обыкновению, незаметно. Они оба опомнились только тогда, когда исправление было затруднительно или даже почти невозможно, особенно при домашнем режиме, где ребенок уже привык к своеволию, не ставя ни в грош ни отца, ни мать, ни многочисленных учителей и гувернеров, приглашенных для его образования.
Мальчику уже шел двенадцатый год, когда, наконец, и Фанни Михайловна согласилась с мужем, что ее любимец окончательно отбился от рук и его надо воспитывать вне дома.
Возник вопрос о том учебном заведении, которому выпало бы на долю исправить неисправимого шалуна. Как отставной военный, Герасим Сергеевич стоял за корпусное воспитание.
– Там, матушка, его быстро сократят, дисциплина – великое дело, только военная выправка и может сделать из него человека и достойного дворянина, – говорил Савин-отец. – Там, наконец, развито товарищество, которое тоже пригодится ему в жизни… – добавлял он.
– Нет, уж как хочешь, Герасим Сергеевич, – Фанни Михайловна звала всегда своего мужа по имени и отчеству, – а не отдам я Колю в твои казармы, выйдет он оттуда неотесанным чурбаном с прескверными манерами, да к тому же и неучем…
– Фанни… Фанни… Как неучем? – возразил Герасим Сергеевич. – Разве я уже такой неуч и неотесанный чурбан? – с улыбкой посмотрел он на жену.
– Ты, ты другое дело, – нежно трепала его Фанни Михайловна по щеке. – Ты моя прелесть и исключение, а все же я сперва, когда ты был моим женихом, тебя боялась…
– Меня… Боялась… Отчего же?
– Вид у тебя был такой отчаянный… Впрочем, я, кажется, за это тебя и полюбила…
Герасим Сергеевич удивленно разводил руками.
– Вот и пойми женщин! – патетически восклицал он.
– Нет, Герасим Сергеевич, ты там какие мины ни строй, а в корпус я Колю не отдам. Кадет… фи… Я не хочу, чтобы он был кадетом…
– Куда же, матушка, мы его денем?
– В императорский лицей… в Петербург.
– Почему это ты выбрала именно лицей? – недоумевал Савин-отец.
Фанни Михайловна вспыхнула.
– Еще девочкой я любила танцевать с лицеистами, приезжавшими в отпуск на праздники, они все были такие чистенькие, благовоспитанные, франтоватые, – отвечала она.
– Вот оно что!.. – улыбнулся Герасим Сергеевич.
Разговоры, подобные приведенному, возобновлялись не раз. Если женщина захочет, то поставит на своем – эта поговорка оправдалась, и Фанни Михайловна победоносно отбила у мужа право распорядиться судьбой своего Коли по своему усмотрению и отдать его в лицей.
Судьба нашего героя таким образом попала в зависимость от женщины. Но этого мало, другая женщина изменила это решение, что еще более отразилось на его судьбе.
Этой другой женщиной была его бабушка – Татьяна Александровна Савина, московская аристократка, статс-дама и представительница разных московских благотворительных учреждений.
Как истая москвичка, она была усердная читательница «Московских ведомостей» и рьяная почитательница стоявших во главе этого университетского издания М. П. Каткова и П. М. Леонтьева.
За год перед окончательным разрешением вопроса о поступлении Николая Савина в Императорский лицей, в Москве Катковым и Леонтьевым был учрежден лицей, называвшийся в первое время своего существованию «Катковским».
Москва до небес восхваляла порядки и метод обучения этого юного детища московских отцов классицизма, и Татьяна Александровна Савина была, конечно, сторонницей этого учебного заведения.
На сына своего Герасима Сергеевича и его жену знатная и богатая старуха, уважаемая всей родовитой и чиновной Москвой, имела большое влияние, и так как к тому же она очень любила своего внука Колю, то решение его судьбы по приезде в Москву семейства Савиных было предоставлено на ее одобрение.
Старушка не одобрила.
– В Петербург да в Петербург, дался вам этот Петербург, вольнодумец-город, выскочка-город… – начала она обычную в устах москвичей филиппику против приневской столицы.
Неизменно носимый ею черный чепец с желтыми лентами, прикрывавший седые букли, сильно закачался, что служило признаком необычайного волнения.
– От добра добра не ищут… У нас в Москве теперь свой лицей – не чета петербургскому, сам Михаил Никифорович наблюдает за воспитанием детей, а у него глазок-смотрок на отличку…
Разговор происходил в гостиной в обширном доме Татьяны Александровны на Тверском бульваре.
Герасим Сергеевич, отказавшись от мысли отдать сына в военное учебное заведение и предоставив право выбора воспитательного для него учреждения Фанни Михайловне, отнесся безучастно к новому проекту своей матери относительно поступления его в Катковский лицей.
Фанни Михайловна, вполне надеявшаяся, что ее выбор учебного заведения для Коли заслужит одобрение бабушки, так как последняя не раз сама высказывалась против военных учебных заведений, не ожидала возражений и, что называется, опешила.
– И что за радость, отправлять ребенка в это болото, испарения которого губительно подействуют на его молодой организм… Болото ваш Петербург, настоящее болото, не говоря уже о том, что там и взрослые задыхаются в тине бюрократизма… – продолжала между тем волноваться старушка. – То ли дело здесь, в Москве, и я здесь, и вы зимой наезжаете, по праздникам ко мне и к вам в отпуск приходить будет, связи с семьей не будут разрушены, а из Петербурга-то в год раз или два удастся его сюда на несколько деньков залучить… Отца и мать, и меня старуху позабудет, а мне недолго осталось ждать и им любоваться, ох, недолго.
– Что вы, матушка… – вставил Герасим Сергеевич.
– Что я, стара, сынок, а два века не живут… – слезливо заморгала глазами Татьяна Александровна.
– А ведь, маман, пожалуй, права! – обратился к жене Герасим Сергеевич. – Я сам слышал много хорошего о здешнем лицее.
Перспектива не разлучаться с сыном на очень долгое время улыбалась и самой Фанни Михайловне, а название «лицей», тоже носимое вновь открытым московским учебным заведением, и похвалы его порядкам, которые она слышала от мужа и его матери, довершили остальное.
– Что же, я не прочь последовать совету maman и отдать Колю в Катковский лицей, – после минутного раздумья сказала она.
Глаза старушки Савиной прояснились – она вся засияла.
– Вот этого я тебе никогда не забуду, нынче не так-то скоро слушают старых людей! Ты у меня золото – умница.
Татьяна Александровна привлекла к себе Фанни Михайловну и несколько раз ее поцеловала. Таким образом, судьба маленького Коли была перерешена этими двумя женщинами, и через несколько дней он сделался воспитанником Катковского лицея.








