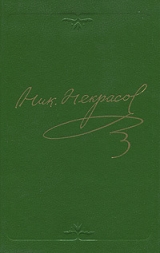
Текст книги "Том 9. Три страны света"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 52 (всего у книги 61 страниц)
Партикулярное место
Пока длилось лето, Граблин еще крепился. Но когда наступила осень с холодом и дождями, спряталось солнце и в окнах явились зимние рамы, когда нельзя было ни подслушать голоса Лизы в саду, усеянном желтыми листьями, ни увидеть ее мельком в окне, он впал в отчаяние и горько раскаялся, что дал Лизе слово не искать случаев встречаться с ней, не ходить к ним более одного раза в неделю. И он видимо чах, мучимый столько же страстью своей, сколько и работой. В состоянии влюбленного нет ничего разрушительней принужденной работы, когда потребна вся сила воли, чтоб сосредоточить свое внимание, направить к определенной деятельности ум, полный печальными мыслями, неопределенно блуждающими…
И он постоянно подвергал себя такой пытке, приискав себе особенного рода партикулярную работу.
Дело было зимой, перед праздником. Граблин пошел к одному неизвестному еще в литературе приезжему автору, которому он много уже переписал разных сочинений, оставляя, по его желанию, широкий пробел после каждой строки на случай разных поправок. Но приезжего автора уже не оказалось в Петербурге: уехал! Последняя надежда пропала. В кошельке Граблина одиноко обитал четвертак, занятый утром на извозчика, но который он предусмотрительно сохранил, вооружась твердостию ног и характера. Хоть сильно морозило, однакож Граблин не очень торопился домой, припоминая угрозы хозяйки. Сенная, через которую лежала ему дорога, невольно остановила его своим обыкновенным предпраздничным оживлением. Народ толпился у возов, наполнял кульки, взваливал на плечи, на санки всяких съедомых животных; торговцы и торговки страшно кричали, спорили и перебранивались между собой. Увлекаясь гамом и толкотней, Граблин тоже очутился у одного воза с разной дичиной, будто и ему что-нибудь было нужно. Тут, между прочими, находилась толстая женщина в капоте, с большим кульком, которая звонко и скороговоркой предлагала цены выбираемым птицам, далеко не соответствующие запросу.
– Тетерька – двадцать. Берешь?
– Ничего менее!
– Ну, двадцать две.
– Ничего менее!
– Экой какой! А гусь – шесть гривен, более не дам!
– Девять гривен, тетка… Проходи, служба, коли ничего не надо! – прикрикнул тут торговец солдату, который подошел было близко к возу, в шинели, надетой внакидку.
– Да уступи, – продолжала баба, – за шесть-то гривен! Ведь гусь-то, поджарый такой, почитай, что некормленый – на зуб нечего взять.
– Что ты, тетка! Эк выдумала: некормленый!.. Диви бы дело говорила, а то сморозила такое, что, уж подлинно, на зуб нечего взять!
Раздался смех.
Тут к толстой кухарке с большим кульком подошла другая женщина, тоже с кульком и тоже в капоте.
– Что ты стоишь тут, Потаповна?
– А! Тимофеевна! Да как, что стою: вишь, гроша не хочет спустить, окаянный!
– Эх, простынища ты! А еще в Москве, говорит, жила! Да разве не видишь, что здешний! Ты гляди прежде на купца, а после на товар. Вон там с краю навезли всего издалека… Пойдем, покажу!
Пошли. Граблин за ними – взглянуть на мужиков, прибывших издалека.
Мужики, перед которыми остановилась Потаповна, в самом деле заметно отличались от здешних наружностью, особенно же величиной шапок, которые охватывали и голову и шею и походили на увеличенные в несколько раз шлемы древних витязей. Вообще они отличались странностию одежд, ухваток и языка; слышались даже слова, совершенно не знакомые. Из встречи, сделанной хозяином воза Потаповне, нетрудно было смекнуть, что она ему не совсем чужая. Он, точно, дешевле запросил за такого же на взгляд гуся и такую же тетерьку, как и у первого, здешнего торговца, только лежавшая тут же рядом говядина чересчур была постная, что и заметил ему один покупатель.
– Да что же в жирной-то! – подхватила защитница издалека прибывших мужиков. – Не на свечи сало топить! Да еще долго ль до греха: прошлого года сама купила жирного поросенка, – сам-то, вишь, любил жирное, – да покойник, не тем будь помянут, разговевшись, лег отдохнуть, да и богу душу отдал; кажись, отчего бы? а дофтур сказал, отчего: жир-то, вишь, весь в нем застыл!
Так отстаивала своих мужиков Потаповна, баба-кулак, как смекнул Граблин.
Несмотря на наступающую темноту, народ все еще продолжал толкаться от одного воза к другому. Граблин хотел было итти, вспомнив, что у него нет ни на крупные, ни на мелкие расходы, и не желая дождаться, пока прогонит его тот или другой торговец от воза по причине шинели, надетой внакидку; но в ту минуту хозяину воза, у которого он стоял, с соседних возов крикнуло несколько голосов: «Гляди! вон, гляди – утащил!» Граблин вздрогнул и побледнел. Мужик бросился и вмиг вцепился в похитителя с криком «отдай!». Граблин всматривался в наружность пойманного, оторопевшего от страха и стыда и трепетавшего в дюжих руках мужика. Он был очень молод.
– Отдай, говорю! – кричал мужик, тряся за грудь пойманного, а между тем приискивал кого-то глазами, озираясь на обступившую толпу, в которой раздавалось: – Мазурик! мазурик!
– Что тут такое? – раздалось из-за толпы; и в предчувствии скорой развязки толпа радостно раздвинулась, дав дорогу полицейскому солдату.
Улика действительно оказалась налицо, и вора связали. Его бледное лицо, дрожащие губы и вырвавшийся тяжелый вздох окончательно успокоили толпу, что порок будет наказан.
В нем Граблин узнал прежнего мальчика, которого Кирпичов обещал сделать человеком, принимая его от погоревшего старика. Он почти побежал домой. Какое-то тяжелое чувство, похожее на тоску или непонятный страх, сильно давило ему грудь и било его лихорадочной дрожью. Он подходил уже к дому, но не придумал еще, что бы сказать квартирной хозяйке; шаги его начали постепенно делаться менее, менее, наконец он совсем перестал подвигаться, продолжая только переступать с ноги на ногу и постукивать ими о скрипевшие деревянные мостки…
Вдруг, откуда ни возьмись, очутилась перед ним старуха, низенькая, худая, одетая во что-то, не похожее ни на капот, ни на салоп; на бледно-синем лице ее видны были следы пробежавшей извилинами слезы. Она шевелила губами и кланялась.
– Что тебе, старуха?
– Батюшка, не оставьте…
И, закашлявшись, она подала что-то завернутое в тряпку.
– Пашпорт, – продолжала старуха, – праздник настает, так прошеньице бы…
«Отчего ж, – подумал Граблин, – не написать прошение старухе, рассчитывающей поправиться к празднику на счет чьей-то благотворительности», – и повел ее к себе.
К счастию, хозяйки не было дома. Смело и радостно вошел он к себе в комнату в сопровождении старухи; заглянул за перегородку: мать его спала, навьючив на себя все, что могло согревать, если не теплом, то тяжестью. Он бросился к печке: она была холодна, как его руки, хозяйка сдержала свое условие. С отчаянною решительностью вбежал он в комнату хозяйки, взял с печки несколько поленьев и положил на место их сохранившийся четвертак, который, по его расчету, должен был значительно ослабить взрыв гнева хозяйки за такое своеволие.
Старуха вызвалась затопить печку, а он с ожесточением напал на какое-то кушанье, приготовленное матерью против его ожидания, потому что утром он оставил денег на обед только для нее одной.
– Ела ли ты сегодня? – спросил он старуху, когда голод поутих.
– Сыта, батюшка, сыта, благодетель, – отвечала она, кланяясь.
Старуха успела уже поосмотреться и смекнула, что уделить-то ему нечего.
– Вот погреться-то, – продолжала она, суя руки в самый огонь, – редко удается; хозяева фатерные уж так ли скупы на дрова, Христом-богом не выпросишь лишнего полена!
Старуха угадала и точку мыслей Граблина о квартирных хозяевах, приняв, вероятно, для того в соображение, с одной стороны, далеко ненадлежащее количество поленьев, которое к тому же с большим трудом разожгла, а с другой – господствовавшие в комнате сырость и холод.
– Кому же ты хочешь, – спросил Граблин, – подать прошение?
Старуха назвала ему своего благотворителя со всем его титулом.
– Да почему же непременно ему, а не кому другому?
– Да так уж… очередь пришла, – отвечала старуха, развернув паспорт и подавая Граблину клочок бумаги с адресами нескольких значительных и богатых лиц.
Граблин принялся писать. Рука его плясала над бумагой от холода, как ни старался он прижимать ее, налегая всем корпусом. Кончив, он отдал старухе прошение, сказав ей, что читать не нужно и что известно, как пишутся подобные прошения.
– По смерти, мол, мужа моего, – объяснил он ей одна кож, – там-то служившего, осталась я без куска хлеба, к приобретению коего, по старости лет и слабости сил не имею дескать, возможности; а тут сейчас и самая просьба…
Старуха благодарила. Вдруг Граблин поспешно спросил:
– А что, если ты – ведь вашей братьи много здесь – будешь присылать ко мне всех живущих прошениями, которых ты знаешь, будет ли какой доход? Ведь платят же они кому-нибудь за писание?
– Как же, благодетель, только я… теперь-то у меня…
И озадаченная старуха замялась.
– Я не за тем тебя спрашиваю, – сказал Граблин.
– Как не платить! – продолжала она, оставив в покое свой карман, в котором принялась было шарить. – В прошлый раз уговаривалась я с Головачом за пятиалтынный, да копейки не доплатила, – так, поди, как выбранил! да еще говорит: платок, попадешься, сорву с головы, коли не донесешь копейки, седые твои волосы…
– А что это за Головач?
– Да, знать, фамилия у него такая, или прозвали так за то, что прошения всякие сочиняет. Я стала знать его по покойнице Егоровне – нищая тоже, за милостыней к нам, бывало, приходила. В ту пору я только что сына, кормильца моего, схоронила.
– Ты схоронила сына? – спросил вдруг Граблин, встревоженный внезапной мыслию…
– Схоронила, батюшка. Бились мы с ним, правда, бедно жили, да все ж была надежда. Служил уж он другой годок, и усердный такой был, да здоровья-то бог не дал: поработает побольше и захворает. А тут слег – и потерял место. С тех пор стал, сердечный, пуще прежнего чахнуть, чахнуть…
Старуха тут захлебнулась слезами, вскипевшими вдруг при этом воспоминании о давно минувшем горе.
– И умирал-то, бедный, – продолжала она, оправившись, – все тосковал обо мне: маменька, говорит, вы проситесь в богадельню, не ходите по миру…
– Да!.. он говорил это? – прервал Граблин под влиянием страшно терзавшей его мысли. – Что ж ты не в богадельне?
– Ходила, благодетель, раз десять в три-то года ходила, да уж, видно, счастье мое такое – все очереди-то нет. А ласковый такой начальник-то, сам велит приходить да наведываться; покойница Егоровна тоже про него говорила:
– То же! – сказал Граблин в раздумьи.
– То же, батюшка… Так вот, приходит она по-прежнему ко мне за милостыней, после похорон-то сына, а я говорю ей: самой, мол, приходится просить, да не знаю, к кому итти. Тут она, царство ей небесное, почувствовала, видно, нашу хлеб-соль: да поди, говорит, к Головачу… он тебе напишет, как глазом мигнуть, к кому хочешь; у него, говорит, и список есть всех наших благодетелей. Я и пошла: в доме-то просить было некого. Прихожу туда, а он лежит под лавкой замертво; сказали, что разве к завтрему очнется; прихожу на другой день – опять то же, да уже едва в пятый, никак, раз застала его не совсем того… А уж больно-то мне, больно было! Сроду не хаживала, батюшка, в такое место, да вот привел же бог!
Состязание с Головачом сначала устрашило Граблина, но потом нужда сделала свое. Так пробился он зиму, а летом им всегда было житье полегче: дров не надо, да и угол свой не так мрачен, когда солнце светит в него…
Глава VIIСудьба Душникова
Граблин ничего не мог сказать Каютину о том, что сталось с Полинькой, где она теперь, но подробно передал ему свое свидание с ней, не забыв ни ее горьких слез, ни упреков гнева при чтении некоторых его писем, ни жалоб на то, что все против нее ожесточились, покинули ее, считают ее бог знает какой женщиной.
Рассказ Граблина произвел глубокое впечатление на Каютина. В первый раз теперь пришла ему в голову мысль, что, может быть, поведение его невесты не так перетолковано, что, может быть, она ни в чем не виновата! Он знал, Полинька была горда, и довольно было раз оскорбить ее неблагородным подозрением, чтоб заставить ее молчать, как ни были бы несправедливы и страшны обвинения.
И любовь с новой силой кипела в его груди. Совесть мучила его. Что, если Полинька точно не виновата ни в чем?
И он бегал по целым дням, отыскивая ее.
Усталый прибегал он вечером к Граблину и в сотый раз переспрашивал его, что говорила ему Полинька, как плакала, как жаловалась, что все, бог знает почему, оставили ее, с каким негодованием разорвала письмо…
Они виделись каждый день. Каютин скоро смекнул, как незавидно положение Граблина, и тихонько помогал старушке. Она повеселела, и не было у ней гостя дороже Каютина…
Однажды, когда Каютин сидел у Граблина, дверь с шумом распахнулась. Соня, запыхавшись, вбежала в комнату.
– Вас барышня зовет! скорее, скорее! – сказала она и в ту же минуту выбежала.
Граблин хотел бежать за Соней, но вдруг послышался звонкий голос Лизы, которая радостно кричала ему:
– Степан Петрович, скорее! посмотрите!
Лиза стояла у своего окна, с огромным листом бумаги, скрывавшим ее лицо. На листе была нарисована красками огромная женская голова, с смуглым лицом, с черными волосами, в которых красовался венок из красной рябины.
– Похож… а? – кричала Лиза сконфуженному Граблину, который тревожно смотрел на Каютина. – Сличите? – прибавила Лиза и показывала свое лицо.
Голова ее была тоже убрана кистями пунцовой рябины, листья которых касались ее смуглых плеч. Лукавая улыбка выказывала во всем блеске необыкновенную белизну ее зубов.
Каютин вскрикнул и кинулся к окну.
– Ее зовут Лизой? – спросил он в волнении.
Граблин вздрогнул. В одну секунду в голове его блеснула тысяча ревнивых мыслей. Он машинально кивнул головой.
– Как похожа, боже, как похожа! – твердил Каютин, отходя от окна, потому что Лиза убежала.
– Вы давно ее знаете? – тревожно спросил Граблин.
– Да я сейчас ее узнал; я видел ее портрет: как две капли похож на нее!
– Так вы по портрету ее узнали? – свободно вздохнув, спросил Граблин.
– Да.
Соня опять вбежала в комнату и повелительно объявила Граблину, что его зовет барышня.
Граблин кинулся за Соней. Через десять минут он воротился и с улыбкой сказал Каютину:
– Она вас просит к себе. Хочет непременно знать, где вы видели ее портрет… да вот и она сама!
Граблин указал на окно, у которого стояла Лиза. В ее черных волосах уже не было венка из рябины; она нетерпеливо манила их к себе.
Лиза встретила гостей у самой калитки, и первые слова ее к Каютину были:
– Какой и чей вы видели портрет, который так похож на меня?
Каютин немного смешался таким приветом, но вспомнил ее характер и решительно отвечал:
– Я не могу вам этого сказать!
Лиза нахмурила брови, но тотчас же приняла кокетливый вид и насмешливо проговорила:
– Очень приятно с вами…
Граблин спохватился и начал рекомендовать его Лизе. Она небрежно кивнула Каютину головой и обратилась к Граблину.
– Вы довольны моим подарком?
– Каким?
Лиза взяла его за руку и потащила в сад, приглашая за собой и Каютина. Она привела их в довольно жалкую беседку из акаций.
– Вот вам мой портрет, что я обещала! – сказала Лиза, указывая на лист с огромным смуглым лицом, высоко повешенный на дереве.
Лиза помирала со смеху, глядя на Граблина, у которого навернулись слезы.
– Что же, вы недовольны? – важно спросила она.
– Я у вас просил вашего портрета, а не эту….
Граблин остановился; он был возмущен смехом Лизы, которая едва могла успокоиться.
– Вы, верно, любите рисовать? – разглядывая портрет, спросил Каютин чтоб вывести Граблина из затруднения.
Лиза пытливо поглядела на Каютина и резко отвечала:
– Терпеть не могу!
Граблин с удивлением посмотрел на нее.
– Вы что так смотрите? – сказала она ему с сердцем. – Ну да! терпеть не могу. А то еще ничего не значит, если я по целым часам рисую.
– Нет, по целым дням! – перебил ее Граблин.
– Ну, пожалуй и дням! – с досадою возразила Лиза. – Я это делаю для того, что после целого дня рисованья, которое я ненавижу, мне все-таки не так скучно.
– Неужели вы скучаете? – спросил насмешливо Каютин.
Лиза вспыхнула и холодно отвечала:
– Вы, кажется, очень мало меня знаете, чтоб сомневаться в моих словах. – Потом она вежливо прибавила: – Пойдемте к бабушке, я вас познакомлю.
Когда они раскрыли дверь, две старушки горячо спорили. Перед ними были разложены карты. Мать Граблина, загадав, скоро ли будет свадьба ее сына с Лизой, не могла вынести, что король заложил валета. Заговорив Лизину бабушку, она в первый раз в жизни попробовала схитрить, но, по неопытности, была поймана. Вспыхнула ссора.
– Я не доглядела, матушка! право, не доглядела!
– Как можно не доглядеть! Король на валете лежит, а вы преспокойно его берете.
Лиза положила конец спору: она кинулась к столу, смешала карты под общий крик старушек и, указывая на Каютина, сказала:
– Бабушка, к вам пришел гость!
И, как ни в чем не бывало, она села в угол и, сложив руки, насмешливо смотрела на свою бабушку и Граблина, который представлял бабушке Каютина.
После обычных приветствий все уселись кругом стола. Сделалось молчание. Тогда Лиза встала, придвинула стул и, усевшись между Каютиным и Граблиным, взяла карты и сказала:
– Кто хочет, я буду гадать?
– Погадайте-ка моему Степану! – заметила старушка Граблина.
Лиза с презрением посмотрела на Граблина, который едва скрывал свою досаду на Лизу за шутку с портретом: день тому назад, как ему показалось, она серьезно обещала ему свой портрет!
– Я и без карт, ему угадаю! – надменно отвечала Лиза. – Если выкинете разные глупости из головы, – тихо шепнула она Граблину, – то будете иметь, – продолжала Лиза громко, – и чины, – и деньги, и все!
– Я вам не верю, – иронически сказал Граблин.
Лиза вспыхнула, но сдержала свой гнев, блеснувший у ней в глазах, и пресерьезно стала раскладывать карты по столу.
– Позвольте мне погадать, вам, – сказал Каютин, чувствуя необыкновенное желание побесить Лизу.
Она с радостью передала ему карты и надменно сказала:
– Только с условием – не позволяйте вмешиваться бабушке: она везде видит свадьбу!
Старушки значительно переглянулись. Граблин тяжело вздохнул.
Каютин попросил Лизу снять карты и сказал:
– Думайте!
Лиза закрыла глаза, прошептала что-то над картами и потом, передавая их Каютину, сказала:
– Задумала.
Каютин, раскладывая карты, тихо спросил Лизу:
– Вы не боитесь посторонних? я ведь очень верно все отгадываю!
Лиза засмеялась и с гордостью отвечала:
– Я ничего не боюсь, да и нет колдуна во всем свете, который бы мог угадать, что я думаю! – и, обратясь к шептавшимся старушкам, она повелительно сказала: – Слушайте же, бабушка!
Все обратили внимание на Каютина, который, раскладывая карты, сказал:
– Я прежде сам не верил картам.
– Как можно! что вы! – быстро возразили старушки.
– …Но один из моих товарищей, странствуя со мною по пустынным землям, так хорошо отгадывал на картах содержание всех писем, которые я получал, что я стал верить им. Он-то мне и передал тайну угадывать чужие мысли.
Лиза лукаво глядела на старушек, которые с жадностию слушали Каютина. Они принялись экзаменовать его, спрашивая о значениях карт; Каютин сбивался; Лиза от души смеялась.
– Право, я не виноват; меня так учил мой приятель Душников! – сказал Каютин, сделав на фамилию особенное ударение, и устремил глаза на Лизу, которая вся содрогнулась, будто от электрического удара.
Старушка радостно вскрикнула и со слезами на глазах, робко глядя на Лизу, спросила Каютина:
– Батюшка, как я рада! так вы его знали? какой хороший и добрый человек он! Ах, господи, да где он? как вы его знали?
Лиза молчала; она то бледнела, то краснела.
– Лизанька, что же ты не спросишь об Семене Никитиче? – заметила бабушка.
Лиза гневно окинула все собрание своими огненными глазами, принужденно улыбнулась, смешала карты и встала из-за стола. Она села в угол, подозвала к себе Граблина и стала шутить и кокетничать с ним.
Каютин был возмущен равнодушием Лизы к человеку, который так ее любил и столько через нее вытерпел! Она даже не спросила, жив ли он!
Начались расспросы: как и где Каютин познакомился с Душниковым, которым старушка интересовалась от чистого сердца, поминутно похваливая его.
Рассказывая свое знакомство с ним, Каютин много высказал Лизе ядовитых колкостей, непонятных остальным.
Лиза делала вид, будто не слушает его, но раза два принужденный ее смех замирал, и она переставала болтать.
Узнав, что он так много путешествовал, старушка пристала к нему с просьбами рассказать что-нибудь. Лиза тоже присоединила свою просьбу, которая, впрочем, походила больше на приказание.
– Хорошо, – сказал Каютин. – Я расскажу вам мои похождения в киргизских степях.
Уселись кругом стола, воцарилась тишина, и Каютин начал рассказывать:
– «У меня был приятель, человек бедный, но с необыкновенным талантом, и, рано ли, поздно ли, ему готовилась блестящая роль. Не так вышло. Он любил в своей жизни, и любил больше, чем несчастливо; любовь сначала улыбнулась ему, поманила его своими радостями, – и вдруг все для него кончилось, и еще как! без всякого повода с его стороны, без всякой видимой причины, вернее всего, по какой-нибудь пошлой и непростительной прихоти разбито было сердце благородное и любящее, достойное лучшей участи. Это наложило на его характер печать мрачности и глубокого уныния. Ничто в жизни не интересовало его. Он жил потому только, что надо было жить. Будь богат, он поехал бы странствовать, но денег не было, и он выбрал себе занятие…»
– А как звали вашего приятеля? – равнодушно спросила Лиза.
– Позвольте мне умолчать его имя, – резко отвечал Каютин.
Затем он рассказал о Душникове все то, что уже известно читателю, и продолжал:
– …«Утром Хребтов разбудил нас криком: киргизы! киргизы! Я взглянул, точно: вдали, за небольшим покатым пригорком, виднелось до тридцати кибиток; лошади бродили около них.
– Что ж нам делать? – спросил я Хребтова. – Не подкрасться ли тихонько?
Хребтов улыбнулся.
– Ты думаешь, они нас не видят? – сказал он. – Да киргиз даром что узкоглазый, а в десяти верстах видит!
Решились прямо наступать и требовать выдачи товарищей. Ножи ужу нас были с вечера выточены, винтовки заряжены. Благословясь, пошли. Но только сделали с полверсты, как в ауле поднялась сумятица; дикари кричали, бегали, ловили лошадей и запрягали в кибитки. Еще через полчаса впереди поднялась пыль столбом: весь аул, кто верхом, кто в кибитках, пустился бежать!
– Подлые трусы! – сказал Хребтов. – Вот так они всегда!
Постояли мы, подумали и опять пошли. Шли с час и, наконец, завидели аул. Он расположился у небольшой реки, на берегу которой росли камыши. Мы тоже остановились, чтоб собраться с силами. Но только что, отдохнув, стали подходить к нему, как он опять снялся и поскакал.
Так продолжалось весь день. Разбойники подпускали нас довольно близко, и пока мы стоим, стоят и они, а поднялись мы – их и след простыл! На одном месте их кочевья нашли мы обшлаг рукава, какие бывают у русских армяков, оторванный, казалось, зубами, – не было больше сомнения, что наши товарищи в их руках! Мы забыли всякое благоразумие и решились продолжать преследование, которое становилось с каждым шагом опаснее: чем глубже подавались мы в степь, тем больше являлось вероятности наткнуться на несколько аулов разом… что тогда ожидало нас?
Дело шло к вечеру. Измученные, мы быстро подвигались вперед, ничего не встречая среди песчаной степи, кроме обширных равнин ослепительной белизны: то были высушенные летними жарами соленые озера. Наконец, когда уже начинало темнеть, снова завидели мы киргизов, но только их было впятеро больше. Что делать? безрассудно было итти вперед, бесполезно отступать. Мы были уверены, что они теперь сами нападут. Однакож многие настаивали воротиться. Как ни было больно расставаться с мыслью освободить приятеля и других товарищей, я должен был покориться общему голосу. Мы повернули, но не успели сделать ста сажен, как заметили, что и дикари следуют за нами. Мы остановились – остановились и они; мы двинулись – и они двинулись.
Так продолжалось с час. Наконец мы стали, решась не делать более ни шагу в тот день. Тогда и они стали.
Между тем совершенно стемнело. До нас доходили дикие крики и песни киргизов, топот и ржание лошадей. Небольшая партия киргизов отскакала немного в сторону и воротилась с охапками камышей. Вспыхнул огромный костер, аул осветился, и мы довольно ясно видели смуглые плоские лица наших врагов: иные варили пищу, сидя у костра; другие плясали; третьи хвастались проворством своих лошадей, обгоняя друг друга и выкидывая на лошади разные штуки. Непрерывный шум стоял над аулом.
У нас, напротив, было тихо. Мы также развели костер, но больше затем, чтоб не показать врагам уныния своей дружины; пища никому не шла на ум. Мы решительно не знали, что делать, и трепетали за жизнь не одних своих товарищей, но и свою собственную. Мы лежали молча и наблюдали движенье в стане дикарей. Иные, выскакав к нам довольно близко, дразнили нас, осыпали бранью и насмешками. Тогда мы, чтоб не уронить своего достоинства окончательно, вскакивали тоже, принимались браниться, прицеливались и иногда стреляли. Наконец какой-то смельчак подскакал к нам так близко, что почти можно было достать его пулей. Один промышленник наш спустил курок; раздался пронзительный крик, лошадь брыкнула и понеслась в аул, сбросив всадника, вероятно раненого…
– Что ты наделал? – закричал Хребтов стрелявшему промышленнику. – Да они нас растопчут теперь!
В ауле сделалось страшное движение. Несколько человек подскакали, подняли раненого и принесли к костру. Скоро раздался вопль женщин и детей, показавший нам, что рана была смертельная. Потом пронеслись дикие проклятия и угрозы. Мы ждали, что весь аул кинется на нас, и держали наготове винтовки. Некоторые вслух творили молитву.
Но злодеи придумали другое ужасное мщение! Прежде всего они подкинули тростнику, и костер, раздуваемый поднявшимся ветром, угрожавшим превратиться в бурю, запылал ярким пламенем. Густой дым стоял над аулом, в котором вдруг воцарилась глубокая тишина. Но она продолжалась только минуту; с диким криком кинулось несколько человек к одной кибитке. Мы видели, как оттуда вынесли человека; толпа расступилась, и вынесшие его остановились против самого костра, лицом к нам. С неистовым, мстительным криком подняли они его над головами своими, как будто с тем, чтобы мы увидали и узнали его.
И я узнал его: то был мой приятель.
Потом они с тем же криком несколько раз подкинули его и, наконец, со всего размаху бросили в пылающий костер!
Пронзительный крик долетел до нашего слуха. Он был тих, но в нем слышалось столько потрясающего, зовущего к защите и мщению, что мы, не говоря ни слова, все разом, как безумные, кинулись вперед с готовыми ружьями.
Дикари мигом вскочили на своих лошадей. Некоторые из нас выстрелили, хоть выстрел еще не мог сделать никакого вреда вратам, другие продолжали бежать, ободряя товарищей.
– Не робей, товарищи! беги! пали! – кричал в совершенном исступлении промышленник Демьян Путков, выскакав вперед на жалкой кляче, которая была при нас. – Не дадим в обиду товарищей! Вперед, братцы! с богом, вперед!
И он неистово забил в барабан, застучал своими литаврами.
Конечно, он, да и никто не ожидал действия, какое произвел барабан.
Дикие лошади киргизов, не привыкшие к барабанному стуку, всполошились и понеслись в разные стороны.
Картина была ужасная: ничего, кроме степи и неба, не было кругом, густой дым стоял над аулом; испуганные лошади сталкивались, сбрасывая всадников, летели во весь опор. Их топот, их дикое ржанье смешивались с воплем раздавленных жертв и воем бури, которая быстро усиливалась. Костер пылал, освещая кровавым блеском картину всеобщего смятения. Демьян продолжал с возрастающей силой, исступленно стучать в барабан, греметь литаврами. Мы делали беспрестанные залпы, смекнув дело…
В несколько минут пространство около костра опустело. Осталось только несколько кибиток, несколько лошадей, привязанных к ним или бегавших в смятении, без всадников.
Мы кинулись к костру. Я вбежал почти в огонь, собственными руками раскидал горящие головни…
Увы! мы нашли только обгорелый труп, в котором едва узнал я моего несчастного друга!»
Между слушателями пронеслось восклицание ужаса.
Каютин остановился и поглядел на Лизу. Она сидела, как статуя, не мигнув глазом; губы ее были белы, как полотно, глаза необыкновенно тусклы, ее била лихорадка.
– А другие ваши товарищи? – спросила Лизина бабушка.
– «Все они были живы, – отвечал Каютин. – Мы нашли их в кибитках связанными.
– Вы не знаете, что такое буря в степи, где и посредственный ветер довольно ощутителен. Но делать нам было нечего: дикари могли воротиться! И мы, несмотря, что буря усиливалась, стали пробираться к берегу с помощью оставшихся киргизских лошадей и кибиток. Не успели мы отъехать двух верст, как слух наш, сквозь дикий свист бури, поражен был ужасными звуками: человеческие крики и конское ржанье сливались в один отчаянный предсмертный вопль, как будто вблизи сотни людей и лошадей гибли самой ужасной смертию».
– Что ж тут такое происходило, батюшка? – спросила Лизина бабушка.
– «Нужно вам сказать, что в киргизских степях есть огромные пространства, называемые грязями; они наполняются водой только зимой, летом вода высыхает, остается только ил, покрытый тонким слоем соли; топкость таких грязей до такой степени велика, что ни проехать, ни перейти через них нет возможности; кто зайдет туда – гибель неизбежна. Беспрестанно случается, что буря загоняет в грязи конские табуны, и тогда гибнет в одну ночь по две и по три тысячи лошадей.
Мы были свидетелями такой картины, но только она была еще ужаснее: вместе с лошадьми гибли люди! Буря загнала на грязи наших врагов, которых лошади притом еще были напуганы барабаном. Мы долго стояли на окраине грязей и при тусклом свете луны, изредка выходившей из-за туч, смотрели, как бесполезно боролись несчастные с неизбежной гибелью, как то выскакивали они, то погружались в топкий ил, как человек искал опоры у лошади, лошадь у человека, и оба неизбежно гибли! Какие крики вырывались из груди людей! какие стоны, какое хрипенье испускали несчастные лошади! Не меньше первых, если не больше, были жалки последние. Признаюсь, картина была ужасная, волос вчуже становился дыбом, и если б тот самый день не видал я, как в моих глазах сожгли лучшего моего друга, я сказал бы, что ничто в жизни не производило на меня более сильного впечатления».
– Бог наказал разбойников! – заметили в один голос старушки. – Ну, батюшка, чем же кончились твои порождения?








