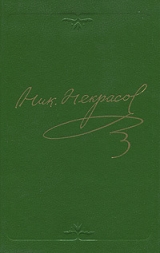
Текст книги "Том 9. Три страны света"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 61 страниц)
Мореход Хребтов
Особой комнаты в трактире не было. Выпросив у хозяина сухого белья и дубленый тулуп, Каютин переоделся в бильярдной, на ту пору пустой, и вошел в общую комнату.
Комната была довольно большая, с превысокими окнами, на которых стояли так называемые восковые цветы, разросшиеся по деревянным решеткам, и ерани, распространявшие свойственное им благоухание. Вся мебель состояла из одного клеенчатого дивана, десятка стульев и четырех столов покрытых толстыми сероватыми салфетками и украшенных грациозными перечницами, наподобие желтого старого огурца, поставленного стоймя. Посреди потолка висела закопченная люстра со стеклышками. На стенах, в желтых толстых рамах, висели картины, изображающие некоторые сцены из «Душеньки», похождения Женевьевы, королевы Брабантской, и полуобнаженную волшебницу, вручающую талисман горбоносому греку, причем посетитель мог увеселиться безденежно чтением и самого знаменитого романса, подписанного под картиной.
Каютин потребовал чаю и сел на диван. Он выпил скоро два первые стакана и, согревшись, сидел за третьим, повесив голову.
Злость взяла его, когда, прислушавшись к разговору трех посетителей, пивших чай за другим столом, он узнал, что и они говорят о том же, от чего не могли оторваться его мысли. Посетители говорили о разбитых барках, сердитой буре, потонувших и плавающих кулях, о неизбежных убытках, которые должен был понести бедный хозяин кулей.
Двое из них, судя по одежде, были лоцмана: один рыжий и уже немолодой, другой лет двадцати; товарищ их казался зажиточным крестьянином. Собеседники называли его Антипом Савельичем. Лицо его понравилось Каютину. Оно принадлежало к тем народным лицам, которые сразу до такой степени располагают в свою пользу, что вы охотнее пуститесь с таким простолюдином в длинные толки, чем с образованным господином, и даже не слишком рассердитесь, если он вас надует. Выражение смышленности и полной беспечности, прямоты и добродушного лукавства придавало небольшому, уже не молодому лицу Антипа необыкновенную привлекательность. Седина чуть пробивалась в его темно-русых волосах; усы же и небольшая окладистая борода его были черные, и седина обозначалась в них заметнее. Взгляд небольших голубых глаз его был ласков и долго с спокойным и ровным выражением останавливался на чужом лице. В разговоре и движениях его пробивалась врожденная живость и в то же время какая-то строгая плавность и осмотрительность, как будто он поминутно думал, что наблюдают каждое его слово, каждое движение, и не хотелось ударить лицом в грязь. Голос его был чрезвычайно приятен, а тихий смех невольно располагал к веселости. С первого взгляда на него Каютин, уже присмотревшийся несколько к народным физиономиям, подумал, что он должен быть отличный мужик, если только нестрашный плут.
Роста он был скорее низкого, чем среднего, но сложен крепко и очень пропорционально; одет в полушубок, крытый синим сукном, с тюленьей выпушкой; подпоясан красным кушаком.
– Да, подумаешь, какая беда, – говорил рыжий лоцман, – шутка ли! у одного хозяина шесть барок разбило!
– Да и как расколотило! – подхватил другой. – Говорят, по кулю растащило; поди, собирай… Вот уж подлинно несчастие, так несчастие!
– Вестимо несчастие! – перебил рыжий.
– Такие ли несчастия бывают! – сказал вдруг скептически товарищ их, долго хранивший молчание.
Каютина всего передернуло. Он готов был кинуться к бородатому скептику и спросить: какие же? Несчастие его казалось ему беспримерным.
Антип приметил его движение и внимательно оглядел его.
– Ну, не говори, Антип Савельич, – возразил молодой лоцман. – Ведь, добро бы, сам оплошал, а то лоцманов набрал степенных, знающих, не в первый раз барки гоняли… да что станешь делать! Ветер вдруг такой поднялся!
– Ветру гулять не заказано, – заметил Антип.
– Оно, конечно, ветер, – сказал рыжий, – да уж, видно, на то и воля господня. Супротив бога не уберегешься. Видно, так уж указано было тем баркам разбиться. Я вот расскажу тебе, Антип Савельич, насчет того, тоись, примерно, воли-то господней. В наших местах было дело; ты знаешь, чай, что осенью прошлой червяк здесь все озимя поедал. Вот там, выше по Мете, барин – запомнил, как его прозывают – вздумал, как бы червяка-то, понимаешь, извести… Уложил все поля соломой да и зажег ее. Оно бы и ничего: весной у него все озимя взошли, а кругом у всех червяк поел. Да что ж ты думаешь? Вдруг на скот лихая болесть какая-то напала, – да полтораста штук рогатого скота переколело… А у соседних ничего не было: все целы остались и не болели. Вот, поди, и мудри ты с господним напущением. Озимя-то целы, да скот перевелся… еще изъяну больше! Уж, видно, так и надо было, чтоб червяк поел. Так вот оно как. Порассудишь, так и увидишь, что славу богу еще, что только барки разбило, – хуже чего не случилось. Сколько рабочих одних было! долго ли до беды! Да бог миловал! Говорят, в Еглах бабу баркой к заплыви придавило… а то ничего… Слава богу! и рабочие целы и лоцманов не тронуло.
– А нешто бывает у вас, что и лоцмана тонут? – спросил Антип.
– Не часто, а то как не бывать! бывает. На моей памяти сгиб да пропал у нас лоцман; и парень такой важный был. Помнишь, – сказал рыжий лоцман, обращаясь к своему товарищу, – Петра Сучкова, свояком приходился Котлову Федьке… да и то больше по своей причине.
– Ну, а как? – спросил Антип.
– Он, вишь ты, сына к работе приучал. Парнишко такой бойкий был и из себя видный; семнадцатый, помнится, ему тогда пошел. И так уж баловал его отец! Он у него на потеси под рукою работал. Вот раз, знаешь ты, гнал он барку, да на Вязу ее и разбило. Мальчишка как-то не уберегся: его в воду потесью и столкнуло. А отец-то, говорят, завопил да за ним и бросился. Время было весеннее, погода страх какая ветреная, да и мальчишка, вишь ты, плавать не умел; их, видно, волной и захлынуло… к Потерпелинам к самым пригнало. Да так их по каменьям-то било, что и не признали вдруг… лица нет… мяса кусок; кости словно в мешке… Жалко было: признаться, ребята славные были. После перемычки Сучков сына женить хотел… и невеста-то первая по Рядку красавица была. Да что? поплакала да замуж в мясоед и пошла. А опять семья у них была большая: все бабы да ребятишки, старый да малый. Жили они за покойником знатно. Он да сын кормили всех. А как потонули они, и пропала совсем семья! Что было, прожили… Добывать некому. Домишко был – продали. Жалость смотреть, в какую бедность пришли… словно нищие. Да что тут станешь делать!
– Вот так несчастье, – заметил Антип.
Каютин с возрастающим вниманием слушал рассказ лоцмана. Чувство истины и справедливости всегда имело доступ к его сердцу. Он стал невольно сравнивать свое положение с несчастиями, о которых шла речь.
Он вспомнил раздавленную его баркой женщину. «Может быть, – думал он, – теперь, в эту самую минуту, в темной и дымной избе несколько бедных ребятишек напрасно ждут своей матери, и некому ни накормить, ни уложить их. Может быть, отец их беспокоится теперь, ожидая возвращения жены, с которой свыкся, которая необходима ему как половинщица тяжких трудов и забот о пропитании. Долго будут плакать и ждать дети, наконец угомонятся и заснут; заснет и старик, – ее все не будет. А утром покажут им одну страшную, обезображенную массу! А может быть, и то, что у бедных ребятишек никого не было, кроме матери, и станут они бегать теперь, беспомощные сироты, из деревни в деревню, от дома к дому, в ветер, в дождь, в стужу, и будут переминать окоченелыми ногами в грязи и в снегу, выпрашивая кусок хлеба».
Представил он себе также семейство бедное погибших лоцманов, несчастное семейство, которое потеряло с ними в один час и надежды, и славу, и довольство. И где теперь они? что сталось с горемычными членами обедневшего семейства? кто заботится о них? под чьей кровлей приютили они свои головы? Никто о них не заботится и нет у них пристанища!
И вспомнил он о червях, поедавших озимь, и подумал о тех, которые сделались жертвами жадных червей.
То, были плоды трудов долгих, вседневных, – трудов тяжких, орошенных кровавым потом людей, работающих не для наслаждения жизни, а из куска хлеба, для прокормления семейства…
Но червяк не обошел их!
Каютину вдруг стало совестно, что он так упал духом и так убит своим несчастьем, которое… еще не слишком ужасно!
Не слишком ужасно?! А Полинька?
И несчастье его начало снова принимать огромные размеры…
Наши собственные несчастия всегда кажутся нам исключительными, не подлежащими сравнению. Несчастия же, которые мы видим каждый день, вопиющие, будничные, хронические, кажутся нам мелкими и ничтожными, потому что случаются с людьми мелкими и ничтожными. Они проходят мимо наших глаз незамеченными. Мы сейчас станем рассуждать, что надо их разбирать относительно, что в тех людях нет таких потребностей, взглядов, понятий, которые бы заставляли их принимать несчастие с такими же страданиями, как нас.
Нет! в них только больше преданности судьбе, больше страшного навыка.
Одно сделалось ясно Каютину, что все его недавние трагические порывы и планы чрезвычайно глупы и малодушны: он уже не собирался разбить себе голову об стену, погибнуть в одной пучине с своими кулями и надеждами. Однакож и ничего хорошего не видел он впереди и, сидя у нагорелой свечи с потупленной головой, предавался самым мрачным мыслям.
Между тем компания кончила чай. Лоцмана простились и ушли. Антип долго толковал в другой комнате с буфетчиком, наконец воротился к своему столу, сел и налил себе еще чашку. Медленно попивая жидкую, чуть желтоватую влагу, он долго всматривался в лицо временного купца и, наконец, спросил его:
– Что ты так задумался, хозяин?
Каютин вздрогнул.
– Так, ничего, – отвечал он.
– Ну, оно не совсем ничего: барки-то, говорят, что разбило, твои были?
– Да, в них была и моя часть.
– Так оно немудрено и призадуматься: есть о чем. Да что делать! на все воля господня. Бывает и хуже – дело торговое. Оно, конечно, потеря большая, да не все ведь и пропащее: авось, бог даст, и пособерется!
– Что уж там собирать! – сказал с досадой Каютин.
– Как что собирать? – возразил с удивлением Антип. – Вот хорошее сказал: что собирать? Да ты, – спросил он, пристально оглядывая его, – да ты кто таков… купец?
– Да… купец.
– А был не купец прежде?
– А ты почему узнал? – спросил быстро Каютин, который, обращаясь в низшем классе народа, имел свои причины не вдруг обнаруживаться и не любил, когда угадывали истину.
– Ну, не сердись! не сердись! – сказал примирительно Антип, заметив досаду в его голосе. – А узнал я потому, – прибавил он, сопровождая свои слова немного лукавым и вместе ласковым взглядом, – что у тебя, видишь ты… руки больно белы.
– У меня товарищ есть, – сказал Каютин, вспыхнув. – Он присмотрит и распорядится кульем.
Антип усмехнулся.
– Умен ты, барин, – сказал он, – догадался, чему сдивился мужик; признаться, чудно показалось мне: там кулье ловят, а хозяин вот уж почитай больше часу в харчевне сидит; добро бы, загулял: ну и спрашивать нечего! а то просто пригорюнился, тяжелую думу думает. Что, чай, черно у тебя на душе? – спросил с участием Антип, подвигаясь к Каютину и заглядывая ему в лицо. – Поди, небось, словно как после похорон, опустивши молодую жену в сырую постельку?
Предложи теперь Каютину такой вопрос человек одного с ним круга и образования, он взбесился бы и был бы прав. Но он считал своим долгом обращаться как можно деликатнее с простолюдинами, которых душевно начал любить, прожив уже несколько месяцев почти исключительно с ними и с каждым днем больше узнавая их. Притом в голосе Антипа было столько простоты и искренности, что участие его не только не оскорбило, но даже тронуло Каютина. Тоска вдруг сильнее подступила к его сердцу, и он отвечал чуть не со слезами:
– Сам смекаешь, чай, как бывает у человека на душе после такой напасти.
– Как не смекать! – сказал задумчиво Антип. – Не первый десяток живу. Хоронил я сродников, дорогих людей хоронил… да хоронил и богатство свое: своими глазами видел, как ко дну идет, а помочь не мог! Только, знаешь что, барин, послушай моего совету: свистни и рукой махни, не убивайся! Дело торговое: зацепил – поволок, сорвалось – не спрашивай! Закидывай снова. Ты вот не купец, а в торговлю, видно, охотой пошел.
– Охотой! – отвечал Каютин с горькой усмешкой.
– Ну, вот видишь, охотой, – сказал Антип, не заметив иронии, – а пословица говорит: охота пуще неволи, терпи – слюбится! Коли охота есть да здоровье бог даст, наживешь денег; не все барки будет колотить; помаленьку, глядишь, лет через пятнадцать и капитал соберется…
– Через пятнадцать лет? – воскликнул Каютин. – Нет, спасибо! через пятнадцать лет мне твоих денег и даром не надо!
– Что так? – сказал Антип с усмешкой. – Деньги всегда нужны. А давно ты торгуешь?
– Вот уж год скоро.
– Ха, ха, ха! ха, ха, ха!
Антип просто хохотал; но смех его так был добродушен и ласков, что не было возможности рассердиться.
– Извини, барин! – наконец сказал он, удерживаясь. – А смеюсь я не в обиду тебе, а потому, что, вишь ты, уж не впервой слушать мне такие речи: вся ваша братья, сколько ни встречал по торговле, на одну стать: коли уж пошел торговать, так ему чтобы сразу горы золотые были, а нет, так и на попятный двор! А того не подумает, что деньга сама барыня спесивая: не разбирает, какого ты роду, а кого полюбит, к тому и идет; а любит она тех, кто умеет с ней обращаться: вишь ты, уходу большего требует, скоро в руки не дается. Ты походи за ней, похлопочи, в дугу согнись, в щепку высохни, поседей до поры. А то думает сразу взять!
– Так, – уныло сказал Каютин, почувствовав глубокую справедливость его слов.
– Ведь и ты, чай, уж баста теперь. Довольно-де: поторговал! Да, шути тут! так торгуют! В Петербург, что ли, теперь поедешь?
– В Петербург?! – воскликнул Каютин, вскочив и переменившись в лице. – В Петербург?! ни за что! Скорее в Сибирь!
Антип посмеялся.
– Ну, барин, – сказал он, – видно, горе у тебя не одно, А что ты так говоришь про Сибирь? Ведь говорят только: Сибирь, Сибирь! а сторона богатая, привольная.
– А ты разве бывал там?
– Бывал ли я? Да ты лучше спроси, где я не бывал? Недаром меня нырком прозвали. Много сухим путем исходил, много морей переплыл, был и там, куда человек, почитай, не заходит, был и там, куда ворон костей не заносит. Хорошая сторона Сибирь! Вот коли хочешь скоро денег нажить, поезжай туда. Да и то нет! Как посчастливится… А ты же скор крепко: так, пожалуй, и даром съездишь. Приманка, вишь, там велика, – всякий туда: золота, мол, накопаю! Так кому еще удастся. А вот я знаю, так знаю сторонку, где можно денег добыть… и скоро. Да нечего уж и говорить!
Антип махнул рукой. Каютину показалось, что лицо его омрачилось.
– Чудной ты человек, – сказал он, – знаешь, где раки зимуют, а не ловишь.
Антип молчал и думал.
– Сторонушка та, – заговорил он грустно, не поднимая головы, – дальняя, холодная, неприветная. Там зима, почитай, круглый год держится, и дорога туда трудная: что ни шаг, великаны в ледяных бронях, как полки, стоят, ходу вперед не дают; без ножей, без мечей, да сила в них богатырская; только справимся, глядишь – новые полчища тихо встречу идут, как живые подвигаются; держи ухо востро, а оплошал, так ко дну ступай… Я, барин, три раза тонул, – прибавил Антип, подняв голову и взглянув на Каютина, который внимательно слушал его, – а скажи теперь, – сейчас опять готов! Уж как доберешься до земли – раздолье! нигде не бывать такого промыслу! Гусь туда со всего света летит – руками бери! Рыбы видимо-невидимо – успевай ловить. Моржи и тюлени и по льду и по берегу как чурбаны лежат – знай сонуль поколачивай! А песцы? а медведи белые? не ищи его: сам в гости придет – умей справиться! Нечего и говорить! нигде не найдешь столько рыбы, и зверя, и птицы с дорогим пухом. Да и как не быть там? никто, почитай, не пугает!
– А что же жители? – спросил Каютин, не сообразив вдруг, о какой земле идет речь.
Антип посмеялся своим тихим, ласковым смехом.
– Жители? – повторил он. – А жителей там живых нет, а есть там одни жители мертвые. Как плывешь берегом, как пойдешь островами, только и видишь: все кресты, кресты, кресты, а почиют под теми крестами все люди русские, православные, что ни есть храбрейшие (трус туда и не суйся: со страху умрет!), и имена тех отважных людей (упокой, господи, их души многострадальные) на крестах писаны. Правда, и иностранцы иные есть; нечего говорить, между ними тож водятся храбрые люди. А ходили они туда с давных пор, про страну ту далекую разведывали; дороги, слышь, в дальние земли искали… да немногие и вернулись. Приплывут туда целыми кораблями, народу тьма, иной раз до сотни, а назад едут почасту просто в лодье, и всех двадцати не насчитаешь, да еще и на дороге то и знай хоронят: кого в мать сырую землю, а кого просто по морскому обычаю: в море! Вот какова сторонушка! А-то думал: жители! Ни городов, ни деревень, ни храмов божиих тоже нет; а иной раз взглянешь на море: словно целые города, селения, хоромы, церкви по морю плывут, либо стоят, пока ветер не погонит. Глупый единится, а дело оно просто выходит: льды, понимаешь ты, спокон веку не тают, а все больше растут и такими горами по морю ходят, что на суше таких гор не увидишь: сажен шестьдесят иная в вышину, да еще сажен тридцать в воде сидит, а в обхвате такая, что в неделю кругом не объедешь, а иную и в месяц. А называются они стамухами. Сцепится иной раз десяток-два таких льдин, да так чудно сцепятся, такие из них фигуры выйдут, что глядишь издали: ну город, просто город, с церквами, колокольнями, башнями! Оно, правду сказать, и солнце иной раз обману способствует: там оно, видишь, не по-нашему светит: то его господь знает сколько ден не видать, словно совсем пропало, а то вдруг такой свет пустит, что все кругом инаково покажется. Подлинно чудо! Веришь ли, барин, раз смотрим, а на небе не одно солнце: четыре! ей-богу! горят таково ярко, недалеко друг от дружки, и все четыре меж собой полосками разноцветными, словно радугами, сцеплены! И уж вид оттого какой – чудо! гляди да глазам не верь! Просто покажется, что другой такой стороны и с огнем не найдешь: лучше, чем под Астраханью, у привольного Каспийского моря, а уж на что та (Сторонка богом благословенная, – я там тоже бывал. А продал обман – и все пропало: ни былья, ни жилья. Кладбище, просто кладбище!
– А которые избы там местами попадаются, так от них только горя больше: увидишь, обрадуешься, войдешь в избу: бочка разломанная лежит, куль муки иной раз стоит, оружие разное, ловушки звериные: ну, вот точно сейчас люди тут были. А где люди? выйдешь вон, глянешь кругом, и душа замрет: – все кресты, кресты… вот тебе люди, вот жители! Поди дружбу сведи, хлеб-соль дели…
– И как подумаешь, что в избах тех жили, долгую ночь коротали и померли люди что ни есть самые храбрые, молодецкой, богатырской души, так самого такая тоска возьмет, что хоть вешайся, – страх к сердцу приступит. Домой, домой! так сердечко и ноет. Да не след страху пустому поддаваться! Бывает, и на полатях люди мрут, а бывает, и оттуда живые домой приходят, да и не с пустыми, руками, а с деньгами, каких здесь и в десяток годов не добудешь… Эх! присмотрел я там себе добрые промыслы! Да что станешь делать! надо рабочего народу нанять, лодьи снарядить, запасу взять – большая сумма требуется… А у нас, вишь ты, в одном кармане пусто, в другом нет ничего…
Антип замолчал.
– Читывал я, – сказал Каютин, – про ту сторону, о которой говоришь ты, Антип Савельич; в книгах есть. Да ведь опасно с народом туда забиваться. Конечно, кто охотой идет – ничего; а рабочий народ? его нужда погонит, а там, гляди, пойдут морозы, болезни…
– Кто говорит! – перебил Антип. – Опасность великая. Зимовали мы там, много холоду и голоду потерпели, много горя видели, нечего таить, и народу немало потеряли, да и сам Петр Кузьмич – царство ему небесное! не было и не будет такого простого и доброго барина, такого храброго начальника (в голосе Антипа слышалось глубокое благоговение, и он усердно крестился) – и сам Петр Кузьмич, уж на что крепок был и духом бодрился, а не выдержал: как вернулся, через месяц богу душу отдал…
– О каком Петре Кузьмиче говоришь ты? – сказал Каютин.
– А Пахтусов, Петр Кузьмич, – отвечал Антип. – Я с ним в ту сторону ходил. Вот была душа, так душа! Чай, другой такой и на свете нет, – прибавил мореход с грустной любовью и торжественностью. – Так вот видишь ты, барин, – продолжал он после долгого молчания, – зато теперь сноровки больше, народу наберем привычного, бывалого, против холоду малиц возьмем, сруб с собой привезем: не одну избу, так и баню поставим; против болезни – и вина и лекарства захватим, против кручины песню споем, былину расскажем. Я, барин, мастер былины рассказывать. Сам Петр Кузьмич, бывало, хвалил: «Молодец ты, – говорит, – Хребтов, куда тебя ни поверни: и дело знаешь, и говорить горазд!» Хребтов усмехнулся.
– Царство ему небесное! он меня любил, покойник, – прибавил мореход с гордостью. – Так вот, барин, как: волка бояться – в лес не ходить. А ехать туда – быть с деньгами! Пройдет года два, поздно будет. Покуда далеко не заезжают (и сторона сурова да и пути хорошенько не знают), а вот как хоть один проберется подальше да воротится жив, много добычи привезет, так и прощай! Все повалят туда, и уж тогда поздно будет! Куй железо, пока горячо!
– А много ли, как думаешь, надо денег, чтоб хорошенько туда снарядиться? – спросил Каютин и ближе подвинулся к мореходу.








