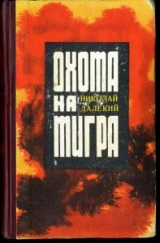
Текст книги "Охота на тигра"
Автор книги: Николай Далекий
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 16 страниц)
– Это детали, Иван Степанович. Нельзя всего предугадать. Уточним по ходу действия. В зависимости от обстоятельств.
– По ходу... Что они, дураки? Как карету подадут нам – пожалуйста, садитесь и погоняйте.
– Им в голову не придет. – Лицо Юрия просияло, стало вдохновенным. – Понимаете, они всего ожидают, только не этого. Слишком невероятно. Невероятность тем-то и хороша, что ее не предусматривают и к ней не готовятся. Никогда больше не представится нам такая возможность. Вы только посмотрите, как может получиться. Танк отремонтирован. Обязательно начнут пробовать, как работает мотор. И в процессе ремонта, и после окончания его. Так ведь? Когда будут пробовать, то не обязательно немцам всем экипажем садиться в танк. Там будет сидеть только водитель. А остальные будут стоять где-нибудь рядом с танком, может быть, даже и отойдут, от него. При более или менее удачном стечении обстоятельств мы легко можем завладеть танком, и тогда попробуй нас остановить. Уж десять километров за какие-нибудь пятнадцать минут мы сделаем. Это ж все равно, что на автомашине или на самолете. Где-нибудь в лесу остановим танк, подожжем, а сами наутек. Это просто счастье само лезет нам в руки.
Вот какому «журавлю» вцепился в хвост Чарли. Только ведь перышко может в руке остаться, а «журавель» улетит...
– Чем мы рискуем, Иван Степанович? – у Юрия даже слезы выступили на глазах. – Жизнью, тремя жизнями, а что стоит наша жизнь? Верный шанс упустим. Решайте. Пошел я. Утром буду знать... Утро вечера мудренее.
Он отряхнул капли с рук, вытер их о полы гимнастерки. Хотел было идти к бараку, но, вспомнив что-то, задержался.
– Возьмите хлеб. Прошу... Мне на сердце легче будет.
На этот раз Годун молча принял завернутый в тряпицу комочек. Он все еще находился в состоянии полуоцепенения. Иван Степанович хоть и не сразу, но тоже взял свою долю.
– Если не получится, – сказал он, – знаешь, кем нас считать будут?
– Знаю. Без риска нельзя.
– Я риска не боюсь, Юра. Так ведь не о нашей жизни речь идет. Копай глубже. Кроме жизни, честь имеется, вера в человека. Мы ведь советские люди.
– Надо рисковать. Всем, что у нас есть. И жизнью, и честью. Игра стоит свеч. Подумайте, что будет, если у нас выгорит.
Годун молчал, слабая улыбка блуждала на его лице.
– Теперь мне нужно ваше слово, – печально сказал Юрий. – О моей задумке никому ни звука. Обещаете?
– Это ясно. Будь спокоен.
– Значит, все, до утра... – Ключевский зашагал к бараку.
– Что будем делать? – спросил Шевелев невесело.
– Как – что? – встрепенулся Петр и перешел на деловой тон: – Свой хлеб я отдам лейтенанту. Он доходит. Это раз. Теперь насчет завтрашнего. Выйдем, Иван Степанович. Чарли дело предлагает.
– Поддерживаешь? – удивился Шевелев.
– А как же! На чем же еще бежать мне, если не на танке? Это Чарли ловко придумал, сварила голова.
– Еще не сварила, а только одну водицу на огонь поставила... Может опрокинуться, может выкипеть попусту.
– А мы зачем? Поможем.
– Как? Я должен знать, на что иду. А вы... Один – в облаках, другой – тоже...
– Мне бы только рычаги руками ухватить, Иван Степанович. Танк – это же машина, зверь стальной. Только бы рычаги в руки попали.
– Я не про это, Петя. План должен быть точным, а не вилами по воде. А у нас пока одно желание.
– Где его взять, точный план? Юрка правильно говорит – как подвернется. Дело случая.
Шевелев задумался. Его удивило то, что роли внезапно переменились, и теперь в плане Юрия Ключевского сомневался он, а Петр горячо защищал того, кого он еще недавно считал бесплодным мечтателем и даже предателем.
– Ладно. Пошли отсюда, – сказал Иван Степанович. – Хлеб отдашь? Не передумал?
– Не передумал, – стиснул зубы Петр.
– Тогда давай моим поделимся.
– А может, и ваш отдадим?
– Лучше завтра подбавим, от себя оторвем.
– Завтра Роман от меня не возьмет. Он ведь принципиальный... Будет нас подлецами, изменниками считать.
– Да, он такой. А сказать ему, объяснить, намекнуть даже нельзя.
– В том-то и дело. Мы связаны. Тайна.
– Ты так говоришь, будто я уже согласен.
– Вы мудрый человек, Иван Степанович. Такое мое убеждение – согласитесь. А во мне не сомневайтесь, я водитель первого класса, не подведу.
Долго не спали все трое.
После того эмоционального подъема, прилива сил, возбужденности, которые испытывал Ключевский, радуясь, что он открыл путь к освобождению, наступила тяжелая депрессия, и все предстало в черном свете. Жалкий фантазер – вот кто он в действительности. Полусумасшедшей, в голове которого толпятся замыслы-ублюдки, планы-химеры, ничего общего с реальностью не имеющие. Наркоман, беспрерывно курящий трубку сладостного воображения, – несбыточные мечты его опий. Как точно, одной короткой фразой разрушил Иван Степанович его очередной воздушный замок – «На ковре-самолете куда лучше...» Сказка, вздор, детские причуды, плод болезненного воображения.
Юрия трясло в нервном ознобе. Ему казалось, что с тех пор, как, выйдя из строя, он сделал десять позорных шагов, вся одежда его стала грязной и липкой, вроде он натянул на себя шкуру труса и предателя.
Иван Степанович отнесся к его предложению без энтузиазма. Петр тоже не поддержал Юрия, а он так надеялся, он отводил Петру главную роль в своем плане – танкист, умеет водить машину. Все пошло прахом. У него даже не хватило слов, доводов, красноречия, чтобы убедить, зажечь своей идеей товарищей. Значит, сама идея несостоятельна. Пленные ненавидят его. Понятно. Они мстят ему за те благожелательность и снисходительность, какие прежде он вызывал в их сердцах: «Ах, этот Чарли, душевный малый, мечтатель, не от мира сего человек!» Что же делать? Но ведь он уже решил. Тут нечего раздумывать. Однако уйти из жизни нужно достойно. Вот если б он сумел нанести удар какой-нибудь железякой по голове проходящего мимо технического гауптмана... Было бы замечательно. Его сразу бы пристрелили, растерзали на месте. И хорошо. Умер все-таки не зря – баш на баш. И не нужно будет возиться с петлей... Но Иван Степанович и Петр, может быть, выйдут все-таки?
Тело дрожит противной мелкой дрожью. Не унять эту дрожь, не остановить тягостных мыслей – все напрасно, не трать, куме, силы...
Шевелев лежал с открытыми глазами. Человек, неторопливый в решениях, обстоятельный, он тщательно обдумывал предложение Юрия. Было такое ощущение, будто ему сунули в руки кусок металла, приказали сделать деталь определенной конфигурации и совершенно точных размеров, но не разрешили при этом пользоваться какими-либо измерительными инструментами. Требуется высокая точность, но работай на глазок. Материала не то что в обрез, а скорее всего – недохват. Он ведь слесарь-лекальщик, а не какой-нибудь волшебник-фокусник. Ладно, никто ему чертеж не принесет, линейкой и кронциркулем не обеспечит. Тут все на одном риске – пан или пропал. Ну, а не выйдет? Позор, пятно на всю жизнь. Каждый колоть в глаза будет, мол, мало того, Иван Степанович, что ты в плен попал, ты еще танки фашистам латать согласился. За пайку... Есть ошибки, каких уже не исправишь ничем. Хорошо, но ведь надо что-то делать. Под лежачий камень вода не бежит. Сгниешь здесь в лагере так или иначе. Люди – друзья, родственники, дети – пусть говорят, судят. Их суд и приговор можно будет снести. Это в расчет не надо принимать, это можно будет стерпеть. Ведь перед судом своей совести он будет чист, не забудет, с какой целью пошел фрицам помогать. А овчинка-то стоит выделки: увести у немцев готовый, отремонтированный танк – за это самой дорогой ценой можно уплатить. Значит, надо выходить... Юрка, наверно, волнуется, тоже не спит. Да не переживай ты, Юрка, беспокойная, сообразительная головушка твоя. Похоже, что пойдем мы вслед, попытаемся схватить твоего журавля за лапы, хвост, крылья. Может, не вырвется он от нас. Погоди, погоди, еще не согласился, еще не сказал слова окончательного. Погоди, браток. Сам знаешь – утро вечера мудренее.
Отдых телу, сон, тьма...
Петр Годун тоже не мог долго уснуть, ворочался на своем ложе. Мысль о том, что он снова может оказаться на месте водителя, пьянила, возбуждала его, как вино. Петр то и дело напрягался всем телом, стискивал кулаки, словно уже сжимал в них рукоятки рычагов танка. Мягким, сильным движением он посылал машину вперед, внезапно разворачивал ее на 180 градусов, снова разгонял. Послушная его рукам, тяжелая машина неслась, подминая заборы, валя на своем пути деревья, уклонялась то влево, то вправо, делала стремительные повороты, легко брала крутой подъем, прыгала с пригорка в реку, расплескивая воду так, что обнажалось желтое песчаное дно, и, почти не сбавляя скорости, выскакивала на противоположный берег. Только танкист, только томящийся в плену танкист может понять, какое это счастье, когда рычаги в твоих руках и все тело ощущает послушную тебе стальную махину, способную подминать, таранить, плющить, громить технику врага. Только танкист это может понять.
Да, если бы удалось ему оказаться на месте водителя, он бы выдал фрицам концерт.
Так с сжатыми кулаками Петр и погрузился в сон.
Он проснулся внезапно от ощущения надвигавшейся беды. Будто кто-то его пнул ногой – вставай! Неясная тревога росла, давила грудь, заставляла сильнее биться сердце, лишала надежды. Наконец Петр понял – Чарли... Все это связано с Чарли. Как же он забыл о том, что говорил ему лейтенант Полудневый. Петр соскочил с нар и побежал по тускло освещенному центральному проходу в ту сторону, где на боковом ответвлении находились нары Ключевского. Годун услышал хрип, стон. Две тени метнулись от него, растворились во тьме. Неужели они... Неужели опоздал? Вот он, Чарли, теплый, значит живой. Стонет.
– Юрка, ты что? Что с тобой?
– Не знаю, – с трудом выговорил Ключевский. – Какой-то страшный кошмар. Сон, душило меня во сне. Навалилось, схватило за горло. Понимаешь, двинуться не могу, воздуха нет, сердце останавливается. Думал, что помираю.
– Ну, а сейчас, ничего, прошло? – Рука Годуна торопливо шарила по телу Ключевского, он проверял, нет ли крови. – Руки, ноги шевелятся?
– Немного горло болит, не помню, где я его поцарапал.
У Годуна отлегло от сердца.
– До свадьбы заживет, – сказал он весело. – Подвинься, я с тобой спать буду. И смотри, не вздумай без меня ночью из барака выходить. Слышишь? В случае чего – буди меня. Вот так...
Годун улегся рядом, прильнув к спине Ключевского, обнял его. Вот так-то вернее. Чарли – голова, без него им трудно будет это дело провернуть. Он ведь соображает быстро, наперед видит. Спи, Чарли, спи. И не надо тебе знать, что тебе грозило этой ночью.
Утром пленные снова были построены на аппельплацу, и комендант еще раз предложил слесарям, желающим попасть в команду ремонтников, сделать десять шагов вперед.
Начали выходить. Молча, с наклоненными головами, с деревянными лицами отступников.
Тишина, только шуршащие звуки шагов. Пленные в строю считали беззвучно: пятнадцать... двадцать три... тридцать один... тридцать восемь...
Да, больше нет. Тридцать восемь вышло на этот раз.
Среди этих тридцати восьми были Годун и Шевелев.
«Звезда балета»
В городе были развешаны свежие объявления. Уже сами по себе крупные черные буквы на серой бумаге навевали тоску. Населению оповещалось, что все лица в возрасте от шестнадцати лет, не имеющие специальных рабочих пропусков, должны в двухнедельный срок пройти перерегистрацию на бирже труда.
Любе Бойченко исполнилось восемнадцать. Она сумела избежать отправки в Германию только потому, что попала в работницы к коммерсантке фрау Боннеберг, открывшей на Пушкинской улице закупочный пункт льна, шерсти, щетины. Так значилось на вывеске, но фрау Боннеберг не ограничивала себя заготовкой столь прозаического сырья и охотно приобретала более ценные, в том числе и антикварные вещи, платя за них сущую безделицу. Эти операции она проводила лично сама, а прием и прочая возня с шерстью, щетиной, льном возлагались на русскую работницу. Люба взвешивала, сортировала и паковала товар, убирала помещение, обстирывала хозяйку и выполняла всю черную работу на кухне. Коммерсантка ничего не платила Любе, но достала ей рабочий пропуск, который оберегал девушку от многих опасностей и давал право на жалкий продовольственный паек.
И все же Люба была рада этой работе и считала, что ей повезло. Теперь они жили с матерью в маленькой комнате с крохотным оконцем, куда их выселили с прежней квартиры. Мать хворала все чаще и чаще, а последнее время ослабела до такой степени, что иногда целые дни проводила в постели. Люба все еще не теряла надежды, что мать поправится, она ухитрялась иногда раздобыть хоть немного козьего молока, давала больной по ложечке меду и смальцу – пришлось раскрыть две заветные баночки, отложенные на самый-самый черный день.
Было много у Любы этих черных дней, но, как она поняла, самый черный день наступил сегодня. Сегодня фрау Боннеберг объявила, что ликвидирует свое дело, и укатила в Германию, оставив своей «безупречно честной и исключительно трудолюбивой русской работнице» в подарок комнатные шлепанцы, испорченные щипцы для завивки волос, большой моток неиспользованного бумажного шпагата и рекомендательное письмо. Срок пропуска девушки кончался через три дня, в продовольственной карточке оставалось только три талона на хлеб. И никаких надежд.
Траурно-черными казались буквы объявлений о переучете на бирже труда. С тех пор, как гитлеровцы появились в их городе, Люба убедилась, что буквы, один лишь вид печатных букв, может вселять в ее сердце ужас, как если бы власти использовали для своих приказов какой-то особый, устрашающий шрифт. Конечно, буквы тут ни при чем. Все дело в словах: «За невыполнение приказа – расстрел...», «Караются смертью...», «Злостных саботажников ждет наказание – смертная казнь...» В сегодняшних объявлениях нет слов «смерть», «расстрел», но они угадываются за другими. «Лиц, уклонившихся от перерегистрации, ждет суровое наказание».
Перерегистрация – это отправка на работы в Германию. Люба знает, что ей не помогут никакие объяснения, слезы, мольбы. Раньше крупной взяткой можно было хотя временно отвратить беду. Сейчас «власти» взяток не берут. Боятся: немцы стали строгие, им до зарезу нужна рабочая сила. Да и откуда у Любы деньги для такой взятки? Ни денег, ни вещей, ни надежд.
Люба шла, погрузившись в свои невеселые мысли, и, когда увидела бывшую подружку Аллу Скворцову, растерялась от неожиданности. Алла в голубенькой куртке с выложенными короной на голове тугими косами показалась из-за угла и повернула к ней навстречу. Шмыгнуть в какой-нибудь подъезд, перейти на другую сторону улицы? Нет, поздно, Алка все равно заметит ее, подумает, что Люба испугалась. Значит, нужно идти как ни в чем не бывало, глядеть на нее равнодушно и ни одного слова, только легкий презрительный кивок головой – да, мол, дружила немножко, а теперь и знать тебя даже не желаю.
Хороша Алка все-таки. Идет, бедрами покачивает, стройными, точеными ножками играет, будто на репетицию в танцевальный ансамбль отправилась. Как выступала сна на концертах художественной самодеятельности! Как ей аплодировали! Недаром в школе мальчишки старших классов иначе не называли ее как «Звезда балета». Ах, Алка, Алка! Себя опозорила, всю школу, всех своих друзей. Не надо смотреть на ноги. Можно и в глаза. Чтобы не думала, что ее боятся. Нет, не боятся, а стыдятся только. Глаза чуть-чуть подрисованы карандашом, но больше никакой косметики не заметно. Сколько раз ночевала она у них в доме. На одном диване спали, до полуночи шептались, хихикали, и вот проходит она близко, так что плечом о плечо можно чиркнуть, но ведь чужая и пропасть между ними непроходимая лежит.
Люба, не сбавляя шага, едва заметно кивнула головой. Вот и все... Прощай, Алка, прощай, дрянь девчонка. Навсегда.
– Люба!
Остановилась, зовет... Нет, не слышу я. Иди своей дорогой, катись подальше.
– Любаша!!
Но как не оглянуться? Ладно, оглянусь. Что тебе потребовалось от меня?
Алла подошла вплотную, лицо розовое, глаза блестят.
– Не хочешь знаться со мной, Любаша? Напрасно. Гордая такая! Еще бы! Ты патриотка, а я... Но все-таки ты особенно нос не задирай, Любочка.
Люба молчала, смотрела в красивые, то злые, то веселые глаза бывшей подруги. Кажется, Алла была пьяна, и Любе не хотелось начинать с ней какой-либо разговор.
Но от «звезды балета» не так-то просто было отвязаться.
– Несколько раз замечала, что избегаешь меня. Боишься, как бы не увидели нас вместе. Как же, будет пятно в биографии? А я вот не боюсь разговаривать с партизанской связной, хотя меня за это тоже по головке не погладят.
Люба испугалась, побледнела. Не была она ни партизанской связной, ни подпольщицей, но ведь можно пострадать и ни за что, а так, за здорово живешь.
– Что ты городишь, Алка? Пьяная...
– Ага, сдрейфила. Нет того, чтобы пригласить подружку в гости. Даже на улице стесняешься разговаривать.
– Ты не знаешь разве, что живем мы сейчас у чужих из милости. Где же нам в темном чулане приемы устраивать.
– Тогда идем ко мне, – обрадовалась Алла. – Идем, идем. Мой явится не скоро. Мой повелитель! Рыцарь! Идем, не пожалеешь. Я тебя накормлю и напою. Да ты не бойся.
Алла вцепилась в руку Любы и потащила ее за собой. Люба упиралась, но из дворов, из-за заборов уже поглядывали на них люди и сопротивляться было бессмысленно.
Алла со своим «повелителем» жила на этой же улице в хорошем каменном домике, занимала кухню и большую горницу, окна которой закрывались на ночь изнутри щитами из толстых дубовых досок. В комнате было тесно от обилия мебели.
– Садись! – широким жестом Алла показала на стул, стоявший у стола, покрытого бархатной скатертью с тяжелой бахромой. – Что смотришь? Не удивляйся. Да, да, все это чужое, награбленное. И мебель, и скатерть, и хрусталь, и серебро в буфете.
Алла принесла с кухни блюдо с пирожками, сало, нарезанное мелкими ломтиками, и начатую бутылку рома с завинчивающимся на горлышке металлическим колпачком.
– Вот, угощайся, Люба. И домой можешь взять. Знаю, знаю, там у вас нехватка. А я живу как баронесса. Что поделаешь? Давай выпьем. Что, разве нам не за что выпить? А за нашу молодость, за дружбу? За комсомольскую юность?
– Ты не была комсомолкой, – мрачно уточнила Люба.
– Я это так, к слову. Красиво звучит... Я не любила политику, я любила искусство. Обожала.
Алла налила в рюмки, чокнулась, выпила первой. Кажется, с удовольствием, хотя скривилась и крякнула, как-то по-мужски вытерла кулаком рот, губы и отправила в рот ломтик сала.
Люба даже не притронулась к рюмке, но хозяйка, видимо, не заметила этого. Алла сидела, откинувшись на спинку стула, запрокинув голову и закрыв глаза.
– Вот ты, я знаю, ты презираешь меня, – заговорила она тихо, печально. – И я сама себя презираю. Нет, не презираю. Мне просто иногда бывает жалко себя. Понимаешь, так жалко, такое зло меня разбирает, что мы попали в эту кутерьму. Как будто не могла война начаться раньше или позже. Нет, нужно было ей начаться в пору нашей цветущей юности. И мне жалко себя. Я все знаю, я все понимаю...
Алла открыла глаза, наполнила свою рюмку.
– Почему не пьешь, Люба? Выпей немножко. Ну, тогда закусывай. Ешь, не стесняйся.
Она быстро опорожнила рюмку и продолжала:
– Вот вернутся наши и скажут, какая сволочь эта Алка, предательница, подумать только – с немцами спала, фашистов ублажала, а ведь могла бы стать звездой художественной самодеятельности, порхала бы на сцене в пачках и доставляла бы людям эстетическое наслаждение. И ты так думаешь, Любаша? Я знаю, думаешь...
Алла закусила губу, покрасневшее лицо ее сморщилось, по щекам потекли слезы. Видимо, давно ждала она случая, чтобы высказать все, что накопилось в ее душе.
Она ведь знала, что только немногие женщины в городе завидуют ее роскошной жизни, остальные жестоко ее ненавидят. Пропащий человек Алка... Люба на какое-то мгновенье почувствовала жалость к своей бывшей подруге, но тут же подавила в себе это чувство. Жалеть таких нельзя. Нельзя! Она отвела взгляд, наклонила голову.
– Знаю, знаю, Любочка, что ты хочешь сказать, что ты можешь сказать. Но я не такая. Понимаешь, я в героини не вышла. Не родилась я для геройства, ну что ж я с собой поделать могу? Ведь лучше признаться честно, что у тебя нет мужества, что ты слабый человек, чем взяться за дело, а потом, когда тебя прижмут и раскаленные иголки под ногти будут засовывать, нюни пустить, расплакаться и обо всем рассказать, всех выдать.
Ты можешь такое вытерпеть? Можешь. Верю. А я честно признаюсь – не могу. Так и покатилась я... Тебе хорошо, Любаша, тебе хорошо. Ты всегда была крепкой, мужественной. А я в этом смысле ничтожество...
– Что ты говоришь? – словно очнувшись, вскрикнула Люба, и лицо ее стало гневным. – Крепкая, мужественная... Нашла кого прославлять. Неужели ты и впрямь думаешь, что я какое-то геройство совершила или совершаю? Как бы не так! Я хотела бы... Нет, я такая же трусиха, как и ты. Жалкая трусиха, думающая только о себе, о своей беде.
Алла была поражена. Она не знала, что ее исповедь произвела на девушку совершенно иное впечатление, нежели она предполагала. Слова Аллы заставили Любу по новому, более строго и требовательно взглянуть на себя. Со «звездой балета» все ясно – красивая безвольная дрянь, польстившаяся на шоколад и тряпки. Но какую пользу принесла Родине «крепкая, мужественная» Любовь Бойченко? Рыла окопы, проклинала фашистов, горько плакала, когда советские войска отступали, а теперь вот радуется, что немцы отступают. И все! Разве этим может ограничиться настоящая советская патриотка? Правда, на руках у нее больная мать, дни которой уже сочтены...
– Тебя никто не упрекнет, не осудит, – послышался печальный голос Аллы. – Да и что ты... что мы все – слабые девчонки, вчерашние школьницы, можем сделать, если бы даже страстно того желали...
– Не то, опять не то говоришь, – с досадой возразила Люба и, собираясь уходить, встала со стула. – Ты себя и меня за компанию оправдать хочешь.
– Сиди, сиди, Любаша, – умоляюще протянула к ней руку подруга. – Не уходи, прошу тебя. Говори мне правду, от тебя я все вынесу. Ненавидишь меня, презираешь?
– Дело не во мне, Алла, как ты не понимаешь... Люди тебя ненавидят. У людей огромное горе – голод, унижения, в каждой семье плачут о погибших, на фронтах льется кровь. Как им смотреть на веселую, нарядную, сытую девку, которая, пританцовывая, идет под руку со своим любовником – фашистским офицером? Это же... Это плевок в лицо всем матерям, женам, сестрам погибших. Ты плюешь и смеешься... Все оправдания, какие ты придумала себе, как бы ты их красиво и жалостливо ни высказывала, – это фальшь, ложь. Ты сама это хорошо знаешь.
– Не надо, Любаша...
– Надо! Ты просила, чтобы я сказала правду. Получай! Если хочешь знать, я сама себя ненавижу. За слабость, за трусость, за то, что... и я хотела бы стать смелым, сильным человеком.
Тут Люба опомнилась – с Алкой не следовало бы пускаться в такие откровенные разговоры. Она сказала без прежнего ожесточения:
– Ладно! Красивые слова тут ни к чему.
– Сиди, сиди. Не пущу. Ведь может последний раз мы с тобою, Любаша. Посиди...
Часа два Алла пила ром и исповедовалась перед Любой. А Люба все время порывалась встать и уйти – ее мучила мысль о больной матери.
Наконец Любе удалось покинуть этот дом. Алла, лицо которой заливали пьяные слезы, напихала ей за пазуху пирожков и завернула кусок сала – целое богатство. Просила заходить днем – днем ее гауптмана не бывает дома.
Вечером, когда пришел Верк, немного усталый, но довольный, и начал уплетать приготовленный ужин, Алла села напротив него, закурила сигарету, спросила:
– Оскарик, это правда, что завтра биржа труда будет отправлять новую партию молодых рабочих в Германию?
– Возможно.
– А ты не мог бы выполнить одну просьбу своей лапухи?
– Мог бы, но не слишком ли часто лапуся обращается ко мне с просьбами?
– Но котик не знает, о чем я его хочу попросить.
– Нетрудно догадаться.
– Ага. Тогда сразу к делу. Ты бы не мог устроить где-нибудь у себя на работу мою подругу Любу Бойченко? У нее больная мать. Трудолюбивая, грамотная и расторопная девушка. Имеет рекомендательное письмо. Ты обещаешь мне?
Верк наморщил лоб. Он никогда не давал пустых обещаний и теперь прикидывал в уме, сможет ли куда-нибудь пристроить протеже своей любовницы. Нашел. Очень удачно получилось.
– Обещаешь? – теребила его Алла.
– Да. Но только в том случае, если ты, в свою очередь, пообещаешь больше никогда не обращаться ко мне с такими просьбами.
– Да, мой милый.
– Тогда надо скрепить договор печатью.
– Ну, если ты настаиваешь на такой формальности, пожалуйста! – Алла села на колени Верка, смеясь, вытерла его жирные губы салфеткой и наградила долгим горячим поцелуем. – Противный бюрократ... Но ты не забудешь? Это нужно сделать завтра же, иначе ее увезут.
– Я никогда ничего не забываю, Аллочка.
Утром Люба, явившаяся на биржу труда, услышала вдруг, как переводчик прокричал с балкона над головами собравшихся:
– Бойченко! Любовь Васильевна. Адрес: Сенная улица, тридцать восемь, квартира шесть, зайдите в комнату номер один.
В этом «зайдите» могла быть поддержка, но мог быть и подвох. Однако, когда Люба вошла, ее встретили вежливо, дали пропуск и заявили, что она сегодня же должна явиться на улицу Гуртовую к бывшей базе «Заготскот» в распоряжение гауптмана Верка.
Ремонтный рабочий № 13
Окна нижнего этажа домика на Гуртовой, где прежде размещалась контора «Заготскот», были замурованы, и с улицы этот глухой фасад выглядел как часть той высокой кирпичной стены, которой была обнесена территория базы. Люба направилась к воротам, возле которых стояли несколько поврежденных танков.
Часовых на воротах было двое – немецкий солдат и полицай. Как только Люба показала выданный ей на бирже труда пропуск, полицай пропустил ее, показал на выходящее во двор низенькое крылечко домика:
– Гауптман в конторе.
Стараясь не глядеть на изувеченные танки, которыми был заполнен двор, девушка зашагала к крыльцу, и тут ее внимание привлекли громкие хриплые голоса, хором повторявшие какую-то фразу. Она увидела за домиком людей, стоящих в два ряда лицом к стене, на которой черной краской были выведены надписи и таблица. Истощенный вид этих людей, их грязное рваное обмундирование говорили Любе, что перед нею советские военно-пленные. Она невольно замедлила шаги.
Стоявший возле пленных переводчик с белой повязкой на рукаве френча поднял руку.
– Повторяйте! Правило номер один!
– Правило номер один... – загудели пленные.
– Слово немецкого мастера... – взмахнув обеими руками, крикнул переводчик.
Слово немецкого мастера есть закон... – подхватили пленные.
– Требует...
– ...беспрекословного выполнения.
– Отказ...
– Отказ карается смертью.
Вслед за переводчиком, размахивающим, словно дирижер, руками, пленные трижды повторили «правило», написанное на стене полуметровыми буквами.
– Теперь перейдем к цифрам, – заявил переводчик. – Приказано научить вас немецкому счету до тридцати. Кроме того, вы обязаны выучить еще семьдесят немецких слов. Это нетрудно – названия инструмента и простые, необходимые понятия. Сегодня счет до десяти и двадцать пять слов. Начали. Айн, цвай...
– Айн, цвай, драй...
На крылечке появился офицер с румяным холеным лицом. Прислушавшись к нестройному хору пленных, он, не скрывая радости, весело-одобрительно закивал головой.
Гауптман Верк, свято придерживавшийся своего девиза – «план, расчет, предусмотрительность», пребывал этим утром в отличнейшем настроении, так как многое успел за короткий срок. Еще вчера его положение казалось прямо-таки безвыходным – рембаза полностью не оборудована, квалифицированных рабочих нет, запасные части и инструменты не получены. Но не прошло и суток, как подведомственная Верку машина начала делать первые пробные обороты: одна группа немецких мастеров занялась осмотром танков и составлением дефектной описи, другая рыскала по городу, собирая необходимое оборудование и инструмент; пленные закончили кладку стены в тех местах, где она была разрушена, и приступили к изучению наглядных пособий.
Эти «наглядные пособия» были изобретением самого Верка. Начальник рембазы не надеялся, что пленные будут проявлять особое рвение в работе, и, конечно же, не исключал возможность саботажа с их стороны. Однако труд пленных мог оказаться крайне малопродуктивным вовсе не по их воле и желанию, а по той простой причине, что они, особенно на первых порах, будут не в состоянии понять приказания мастера. Частые недоразумения на этой почве отнимут драгоценные минуты, даже часы, вызовут раздражение, озлобление мастеров. Начнется зуботычина, мордобой. Но наказания в таких случаях бесполезны, даже вредны, так как напуганный, затурканный рабочий становится еще более бестолковым.
Вывод напрашивался сам собой – необходимо научить пленных безошибочно воспринимать приказ мастера. Верк предпринял шаги в этом направлении. Нет, начальник рембазы не собирался устраивать для пленных курсы по изучению немецкого языка. Достаточно будет, если они запомнят, как звучат цифры до тридцати включительно, выучат такие слова, как «возьми», «подай», «принеси», «подними», «опусти», а также названия инструментов. Сто слов для круглого счета. И гауптман приказал написать на стене черной краской «правило» и первый урок – десять цифр и тридцать пять слов. Пятнадцать минут на изучение. Вместо утренней молитвы... Воспринимается звуковой и зрительной памятью. Пусть теперь какой-либо пленный посмеет заявить мастеру, что он не понял такой простой фразы, как «Принеси домкрат и два молотка». Такому негодяю следует дать в морду – справедливо, педагогично, черт возьми!
План, расчет, предусмотрительность... Слова можно переставлять в любой последовательности, суть остается неизменной – предусмотрительность, расчет, план. Верк гордился своим организаторским талантом.
Начальник рембазы повернулся к двери, намереваясь пройти в свой кабинет, но тут увидел приближающуюся к крыльцу девушку и остановился, оценивающе меряя ее взглядом.
– Гауптман Верк?
Подруга Аллы... Славная. Нет, красоткой и даже хорошенькой ее не назовешь. Совершенно иного стиля, чем Алла. Скромная и в то же время никаких признаков приниженности, угодливости, кокетства, одета плохо, но. держится с достоинством. Алла говорила, что у нее тяжело больна мать, они бедствуют... Впрочем, все это к делу не относится, подруга Аллы уже заняла свое место в его плане, она будет выполнять обязанности кладовщика. Ходатайство Аллы пришлось как нельзя кстати: на место кладовщика пленного не поставишь, а отрывать от ремонта кого-либо из немцев даже на два-три часа в день Верку не хотелось.







