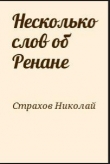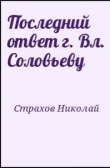Текст книги "Из пережитого. Том 2"
Автор книги: Никита Гиляров-Платонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Глава XLV
РАЗДУМЬЕ
«Куда я пойду?» Мысль об этом начала меня тревожить еще с Низшего отделения. Куда я пойду? В благополучном окончании курса я был уверен, но дотягивать ли семинарию? Само собою разумеется, меня ни на минуту не увлекала мысль воспользоваться преждевременным выходом из семинарии для поступления куда-нибудь «младшим помощником столоначальника», попросту – писцом, хотя я и находил основательными расчеты тех, кто, не имея склонности к духовному званию, оставлял семинарию среди курса. Права для священнослужительских детей одинаковы, выйдет ли кто из Философского, Риторического класса, даже из училища, или же окончит курс во втором и третьем разряде: каждому из них до классного чина нужно служить то же число лет. Для кончившего курс в первом разряде перспектива, по-видимому, изменялась: он прямо переименовывался в классный чин. Но ритор, поступая на гражданскую службу, достигал того же ранее да, кроме того, запасался приказною опытностью.
Приказная карьера не занимала меня сама по себе: неизбежное побирошество мелкого чина, тем более писца, в моих глазах равнялось с побирошеством дьячков. Как те с поклоном подносят на тарелке просфору богатому прихожанину, в ожидании получить гривенник, или и без просфоры подходят после службы и кланяются, поздравляя с принятием таинства или другим чем, в ожидании того же гривенника, так и приказный собирает те же гривенники такими же поздравлениями или прижимками, что не лучше. Помимо того, любознательность, духовное стремление вдаль были так сильны, что вдруг запереть машину на всем ходу, об этом и представления не возникало. Но не перервать ли семинарию для университета? Вот что меня занимало. Окончу семинарский курс, без сомнения, в первом разряде. Куда же двинусь потом? Предстояли четыре дороги: та же гражданская служба, во-первых, и те же против нее возражения; во-вторых, дьяконское место в Москве или учительское место в училище, за чем следовало опять то же дьяконское место; или же духовная академия со следующим за нею учительством в семинарии и далее – священническим местом в Москве; или, наконец, – университет. Духовное звание меня не манило и более всего по связанной с ним необходимости жениться. Семейная жизнь казалась мне скучнейшею прозой, среди которой должны погаснуть все идеалы. Я приходил в содрогание, воображая себя женатым молодым человеком с кучей мелких обязанностей и забот, и сердечно сочувствовал своему старшему зятю, когда он сетовал на прозу своей жизни. Он был пламенная, восторженная душа; его мысль и дух всегда парили; он всегда был лирик, всю жизнь был идеалист. Отлично учился и отлично кончил курс в семинарии (Рязанской); вместо академии, куда бы ему поступить было пристойнее, он попал на священническое место в село. Отец умер, оставив жену с тремя непристроенными детьми сверх самого Федора Васильевича (так звали моего зятя). Мать с сиротами осталась на его плечах, и он принял отцовское место для исполнения обязанностей к сиротам. Но огонь горел в нем и продолжал гореть. Село с трудами хлебопашества и с мужиками кругом, и забитыми барщиной, и пьяными, и невежественными, не смяли его. Он был вечно бодр, юн, жив. «Никогда не женись, брат», – сказал он мне, полусмеясь, среди пиров на свадьбе средней сестры (это было в летнюю вакацию 1839 года). «Ты читаешь что-нибудь; вот место, которое тебя восторгает; ты возносишься, поток мыслей кипит, чувство тебя захватывает, ты хочешь излиться, чувствуешь в себе Пиндара, хочешь петь. „Маша, – скажешь, – поди-ка, поди-ка, послушай“. Читаешь с жаром, она выслушает и потом скажет: „А, знаешь ли, буренку нужно бы свести к пастуху“. Пиндар и буренка! Нет, брат, никогда не женись». Без негодования, даже без досады говорил это Федор Васильевич; он очень любил и ценил жену, как и она его. Шутливым тоном давал он мне этот совет и вместе меланхолическим. Рассказ его был необыкновенно жив; он читал наизусть те самые места, которые приводили его в восторг, подробно воспроизводил мысли и фантазии, в нем возбуждавшиеся, декламировал стихи при этом поэта какого-нибудь или свои собственные, внезапно в нем складывавшиеся. Он был всегда вдохновлен и не говорил иначе, как вдохновленно. И с тою же живостию и подробностию изображал тотчас картину мелочных забот и еще более мелочных дрязг, внезапно низводивших его с высот, в которых он парил, в грязный хлев, в расчеты с работником, который крадет овес и относит в кабак, в расчеты с торговцами, сбывающими, божась, полтину за рубль.
Заговорив о старшем зяте, не могу уже не кончить. Дойдут ли до вас эти строки, дорогой, высокоуважаемый Федор Васильевич, теперь уже маститый старец, доживающий свои дни в печальной болезни на руках внучат? По моему рассказу читатель вообразит в нем, пожалуй, праздного мечтателя, другой экземпляр Манилова. Напротив, Федор Васильевич был величайший практик и беспримерный хозяин; с тем вместе тот идеальный пастырь, каких разве только десятки наберутся в России. Никогда праздного слова, весь в труде, образцово воздержный, строгий к себе, он переродил прихожан. Когда мне говорят, что сельскому батюшке невозможно не пить, потому что прихожане угощают; что угождать невежеству неизбежно, потому что иначе без хлеба насидишься; что нравственное действие на грубую массу поселян, погрязшую в суевериях и пороках, невозможно: я воспроизвожу, между прочим, образ Федора Васильевича. Он не пил ничего, заместив, однако, родителя, придерживавшегося чарочки и панибратствовавшего с мужиками; а он, напротив, был строг. Он поступил на место запущенное, в дом разоренный. Туго сначала пришлось. Он занялся хозяйством. Помимо хлебопашества завел при доме сад и огород. С редкою дальновидностью засадил границу своей усадьбы ветловыми кольями, сказав себе: чрез десятки лет это будет богатство. Колья были из породы ветел, так называемых «красных», из которых гнут дуги, и действительно, колья оказались потом богатством, когда выросшие ветлы продавались на аршины не дешевле соснового балочного леса. На десяток верст у него одного был свой овощ, и со своею обычною меланхолией, шутливо жалобным тоном, а сестра с негодованием передавали, что лучшие качаны капусты у них срезывали, морковь и прочие корнеплоды выдергивали. «И нет того, чтобы завести самим, – прибавляла с желчью сестра, – Федор Васильевич долбит, долбит им: заведите, и пример показывает, но, братец, уж такой мужик сип; упорен, ленив, пьян». А Федор Васильевич, слушая речь жены, меланхолически прибавляет: «Мне больше всего жаль моей елочки.
Вышла из семени, сам посадил; здесь хвоя, как вы знаете, совсем не растет. Топчет глупый, идет, не смотря под ноги. Я останавливаю. Подумай, вот я посеял, выходил, вот малютка выросла, и ты топчешь; за что? Ты мне хочешь зло сделать? – Нет, батюшка. – А зло делаешь. Ты затоптал елочку, ты загубил мой труд; ей было уже два года, и два года пропали, а твой сын вырастет, был бы благодарен за елочку, как вы благодарны за ветлу; а тоже вытаскивали их, когда сажал я колышками».
«Поп» было ругательное имя; при виде попа крестьянин сворачивал с дороги, видя дурное предзнаменование. Сквернословие было в полном ходу и служило приправой в разговоре. Таков был приход, когда Федор Васильевич вступил. А после вот какой порядок завелся. Выезжает с требой батюшка в какую-нибудь из пятнадцати своих деревень – все население, которое не в поле, высыпает на улицу, а дети становятся в ряд, чтобы батюшка всех их благословил. Крестьянин, завидя батюшку, стал снимать шапку издалека, дальше, нежели снимал пред управляющим.
– Как же это сталось? – спрашиваю у сестры.
– Да что, – отвечает она, махнув рукой, припоминая докучливые сцены, в свое время досадные ей, но, отдавая теперь справедливость поведению, которое казалось ей тяжелым. – Бывало, едем в город; слышит, мужик выругался. Остановит лошадь, попросит мужика остановиться да и начнет петь, поет, поет. Тут думаешь, опоздаем на базар, а он поет. Так и отучил, и все стали почтительны.
Кончаково, куда отдана была сестра, посетил я в первый раз еще мальчиком, в 1833 году. Шел только второй год ее замужества. Помню страх свой, когда проезжал бором; темь, бесконечная колоннада обнаженных сосен, которых только верхушки зеленели. На земле ни травинки, только грибы по местам манили к себе; красная стена дерев облегала с обеих сторон; рассказ о разбойниках, которые будто тут укрываются. Брат Иван Васильевич, нас сопровождавший, осматривает заряженное ружье. Извозчик идет поодаль от лошадей, держа конец вожжей на расстоянии аршин четырех от лошади. Мы с сестрой Аннушкой вдруг вскрикиваем: «гриб, гриб!» или «брусника, брусника!» Но ступить шаг в лес боимся, видя ружье, слыша рассказы. Развалины какого-то завода на Черной речке, и название такое страшное. Приехали в Кончаково: убого и голо, хотя рига и полна снопами.
Приехал я туда же чрез тридцать лет, в 1863 году. Нет бора; новая дорога, и притом шоссейная, пролегает по другому месту. Бойко отхватал ямщик недалекое пространство тридцати верст. Вот Кончаково. Сопровождавший меня другой мой зять говорит, указывая на видневшуюся телегу: «Смотрите, это ведь Федор Васильевич едет».
Он. Давно я его не видал, лет пятнадцать. Думаю, постарел, живость прежняя прошла; ему уже под шестьдесят. Встречаемся: тот же, ни сединки, такие же быстрые глаза. Сначала он меня не узнал, а поздоровавшись, тотчас же заговорил: «Я вас спрошу, ученый муж, вот о чем: почему у нас нападают на папу, когда» и пр., и начал сыпать, перебирая явления в иерархии, где сказывается тоже папистское начало, хотя и в неразвитом зародыше. Сестра до смерти рада, племянница предлагает яблоки своего сада, подан чай, а хозяин сыплет свое. «Ну, вот, пошел! – ворчит сестра. – Ты не дашь брату осмотреться». Но я осмотрелся. Как и тогда, тридцать лет назад, переночевал. На другой день утром колокол, звонивший к обедне, разбудил меня. Встал я и вижу толпу, окружившую дом, и около нее Федора Васильевича. «Это что?» – я спросил. – «Муж жену избил; да ведь это почти каждый праздник ходят к Федору Васильевичу разбираться с каждым делом». – «Кто же это завел?» – «Да завелось само собою; мужики очень любят; уж как положит батюшка, так тому и быть; уж очень он, братец, справедлив и внимателен», – поясняет сестра.
Выхожу на задворки. Где была голая луговина, спускавшаяся к ручью, там теперь густой сад с отборнейшими сортами яблонь; ветви ломились от плодов, подпертые палками. Пили в саду чай при оригинальной музыке: то там, то здесь шлеп, шлеп, падали яблоки на землю. Спускаюсь к ручью: высокие ветлы на прежнем пустом пространстве, а в середине нижней луговинки высочайший осокорь, сажен в 20, по крайней мере смотреть наверх надо, заломя голову, чистый, ровный, прямой как стрела. «Федор Васильевич вырастил и всегда за ним ухаживал, обчищал».
Когда преосвященный Алексий вступил в управление Рязанскою епархией в конце шестидесятых годов и Федор Васильевич представлялся ему в качестве благочинного, с неудовольствием преосвященный вскинул на него взор: «Что это, какого молодого сделали у вас благочинным! За что это? Сколько тебе лет?» И когда мнимый юноша объявил о своих шестидесятых годах, можно представить изумление архиерея. Моложавость шестидесятилетнему старцу придавали небольшой рост, худощавость, быстрые движения с подпрыгивающею походкой, живые глаза и совершенное отсутствие седин.
Итак, «не женись, брат, никогда», вспоминалось мне, и я не мог не убеждаться всеми виденными примерами в прозе семейной жизни. Но проза не в семейной только жизни, а в духовенстве вообще. На кого ни посмотришь, всякий, поступая на священнослужительское место, опускается, начинает растительную жизнь, наращивает брюшко, засыпает умственно. При довольном доходе ленится, при малом доходе приходит в движение, но изощряясь в одном – добыть материальные средства. Я не давал себе отчета, но чутьем слышал, что изо всех званий духовное есть самое ложное, хотя самое высокое по идее, и именно потому ложное, что слишком высоко. Солдат, крестьянин, купец, врач, профессор – каждый есть то, что он есть: воюет, пашет, торгует, лечит, учительствует. А пастырь, о котором извествуется в пастырском богословии, и батюшка в действительности – две разные сущности; последний есть футляр, оболочка, скорлупа, вид, механизм без души. Отсюда пустота жизни. Федоры Васильевичи – единицы из десятков тысяч. То, о чем зазубривалось в пастырском богословии, умом принято и сердцем, пожалуй, но в практику не проходит и при данной обстановке перейти не может. На практике он – обыкновенный, подобострастный всем человек, с тем различием, однако, что у других профессиональная практика и профессиональная теория не расходятся, и не расходятся, потому что требование теории не поднимается выше механики действия; а от пастыря по богословию требуется не механика.
Ближайшим, но малоутешительным примером был брат. Он служил добросовестно, добросовестнее сотен; он проповедовал. Но его проповеди были литературным произведением. Написанное после предварительного обдумывания и потом прочтенное или же вылившееся из души, сказанное и потом записанное – это два отдельные рода, и чутье мне сказывало, что брат занимается хотя почтенным, но праздным и даже ложным делом: он мнил себя проповедником, когда был в сущности сочинитель.
Если тогда и мелькало впереди духовное звание для меня, то единственно в виде монашества. Здесь по крайней мере не будет затягивающей прозы: так мне казалось, и если я найду в себе достаточно сил на подвиг, думал я, то я его приму. В этом смысле мечтали мы вдвоем даже с братом. Никогда и он не манил меня во священство. Если заходила речь о возможности мне поступить в академию, то в общих размышлениях о моем будущем конечною точкой мы оба единогласно полагали монашество и, следовательно, архиерейство как естественное последствие, потому что монаха-магистра не останавливают на полпути, если только не совершил он чего-нибудь зазорного. Брат высчитывал года, когда я должен получить архиерейскую митру, если даже и не выдвинусь ничем. В академию поступить с тем, чтобы потом вернуться в епархиальное ведомство и занять рядовое место приходского иерея после профессорской должности, этого, у меня по крайней мере, и в голове не укладывалось. К чему же, думал я, вся наука после того? И, в частности, удивлялся я добровольному отречению от гражданских прав, на которое шли профессора, принимая священство. По порядкам гражданской службы, профессор семинарии чрез шесть, а бакалавр академии чрез четыре года приобретал право на переименование в VIII класс и, следовательно, право на потомственное дворянство, которое соединено было тогда с VIII классом.
В смысле карьеры уже и продолжать бы им дорогу, на которую вступили, вычислившись из епархиального ведомства при поступлении в академию. Отказаться от прав, жертвовать независимостью, обращаться в крепостное состояние епархиального ведомства, бросать книги и науку для того, чтобы где-нибудь в Замоскворечье или Заяузье кланяться невежественным купцам, а дома обзаводиться кучей ребят да женой, которая сама кулебяка, ничего, кроме кулебяки, и утешить не может: я этого не постигал. Затем вечное стеснение, вечная обязанность держать себя, невозможность жить нараспашку, сюда нельзя идти, при этом неприлично быть и т. д.
Итак, или академия, и притом без возвращения в епархиальное ведомство, или университет – вот представлявшиеся виды. А если решиться на университет, то не будет ли потерей времени пребывание в семинарии, начиная со второго года Философии? Из опередивших меня на один курс некоторые перешли в университет из Среднего отделения. Был бы и я теперь с ними, размышлял я, когда бы не оставался в училище лишние два года. Отсталость меня мучила, тем более что в семинарии я не ожидал впереди узнать ничего, кроме повторений более или менее известного. В университете наука свежее и обильнее. Без доступа к ученой литературе все мои приготовления по языкознанию пропадут даром, а доступ к науке видится только чрез университет.
Раз заикнулся я о своем желании брату (это было еще в Низшем отделении); тот не отринул моего намерения решительно, но восстал против намерения бросить семинарию среди курса. «Сперва надобно кончить курс здесь, а затем вольная дорога, иди, куда влечет. Положим, поступишь в университет; а ну, там тоже не кончишь курса? Мало ли какие могут случиться неожиданные обстоятельства! Помимо всего, можешь заболеть, и болезнь вынудит бросить университет прежде времени. Что тогда? Останешься получеловеком на всю жизнь». Совет брата подействовал глубже, нежели он мог ожидать. Я усомнился не только в благополучном окончании университетского курса, но даже в том, выдержу ли вступительный экзамен. Примеры, по-видимому, должны были меня успокоить; в университет поступили же если не из посредственных, то во всяком случае не из отличнейших, даже не из лучших семинаристов. Но я приписывал их успех случайности; себя ценил я очень низко. Свое первенство среди сверстников я склонялся объяснять тоже случайностью или недоразумением профессоров, тем более что брат меня не баловал отзывами. На «дурака» он не скупился в приветствиях мне; когда попадалось ему сочинение, не читанное им и не правленное, он усиленно, по ниточке разбирал его, клеймил сарказмами и мысли, и выражения. Иногда же выставлял в таком высоком свете университетскую науку и познания университетских и в таком презрительном виде семинарию и даже академию, что я терялся и со страхом думал: куда ж мне до университета и его науки? То ли дело старые времена, горевал я; бывало, можно было держать экзамен, не представляя увольнительного из семинарии свидетельства. Между прочим, брат Иван Васильевич не только допущен был до экзамена, но несколько недель даже посещал лекции Медико-хирургической академии, не быв уволен из духовного звания, и потом ушел. Может быть, несмотря на советы брата, я попытался бы по крайней мере держать экзамен, когда бы старые порядки продолжались; но бросить все, оторваться от одного берега и, пожалуй, не пристать к другому, нет, страшно!
Робость моя еще тем усиливалась, что ближайших сведений об университете мне неоткуда было получить. У других были у кого родной брат, у кого какой-нибудь родственник в университете; студенты знакомы, бывают в доме; университетские новости известны в тот же день; студенческие интересы принимаются к сердцу семинаристом-братом или родственником; рассказы о профессорах и лекциях слушаются с участием, как бы о своих семинарских. А я об этом университете слышал, хотя довольно, но из третьих рук, от В.М. Сперанского, у которого два брата были студентами: на медицинском факультете один, на словесном другой. Лично же ни с одним студентом в четыре года не пришлось сказать ни слова. Все знакомство ограничивалось лицезрением посетителей «Великобритании» (трактира) и лицезрением еще студента-соседа, жившего на уроке в доме протопопа, наискось от братниного дома. Но кто такой этот студент? Чем он занимается? Что читает, как судит? Напрасно было любопытство; я видел и слышал, что возбуждавший мое любопытство синий воротник играл иногда на гитаре, а это единственное сведение не говорило, конечно, ничего.
Был и еще студент; раза два, три он даже приезжал в дом брата, близкий его родственник, родной ему племянник по жене. Но я сидел в своем углу при этих визитах; никто меня не вызывал, никто не представлял гостю, и гость едва ли ведал о моем существовании, хотя я сильно им интересовался. Я знал, что он кончил курс с отличием в гимназии; слышал, что он в гимназии читал Софокла. Но что он теперь? Девочка-племянница сказала мне раз, что гость-студент привез, между прочим, ноты и сидит теперь, их читает. Это известие окончательно повергло меня в ничтожество: читает ноты как книгу!
Этот гость-студент, племянник моей невестки, был А.Н. Островский, столь известный теперь драматург. Чрез шестнадцать лет потом мне пришлось с ним встретиться и познакомиться, но при других обстоятельствах. Для «Русской беседы» в одну из начальных ее книжек назначалась пьеса Александра Николаевича, и автор должен был прочесть ее в кругу ближайших к редакции лиц, к которым и я принадлежал. Кроме Кошелева и Филиппова тут были Хомяков и Константин Аксаков. Кто был еще и где это происходило? У Кошелева и Хомякова? Нет. У Елагиных, у Аксаковых? Не помню. Но это было в 1856 году, и событие запечатлелось во мне, может быть, именно по воспоминанию о студенте, читавшем про себя ноты в том доме, где другой юноша, ему незнаемый, так сильно им интересовался, между прочим, из желания знать поближе, какие такие бывают студенты, кончившие курс с отличием в гимназии.