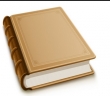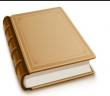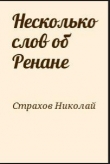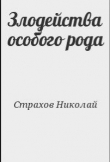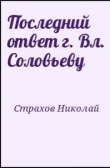Текст книги "Из пережитого. Том 2"
Автор книги: Никита Гиляров-Платонов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
Закончу описание учительского персонала, к которому мы поступали, Александром Федоровичем Кирьяковым, преподававшим церковную историю. Это был сама воплощенная деликатность, необыкновенно мягкий в обращении, никогда ни в каком случае не возвышавший голоса, даже тогда, когда раз, возмущенный каким-то грубейшим незнанием ученика, решился наконец вымолвить: «Садитесь… болван!» Но самое это слово «болван», невольно вырвавшееся, произнесено было нежным, почти плачущим тоном. Его любили, но в науке он ограничивался «от сих до сих», и ни одной свежей мысли, ни одного рассказа, который оживил бы внимание и возбудил любознательность, мы не слышали от него.
Если не считать преподавателей греческого и еврейского (на первом был известный уже читателю Алкита, а второй преподавался только желающим, которых, однако, не было и десятка), то вот и весь состав преподавателей факультетских, долженствовавших ввести нас в науку, венчающую наше образование, по отношению к которой все остальное было только преддверие, само о себе сказывавшее, что оно есть первая ступень, знание низшее, недостаточное.
Большинство моих товарищей не рассуждало, училось механически: так сказано или так написано в книжке, и довольно. Но я растерялся. Мученик формальной истины, ум мой искал оснований, сообразия, последовательности. С первого же дня в Богословском классе душа послышала, что здесь я нового ничего не приобрету и в приобретенном крепче не утвержусь. Пробегал я письменные уроки, которыми будут назидать нас в Богословии. Они мне показались детски составленными, нескладно, с противоречиями, никакого вопроса не решающими и ни одного серьезного даже не затрогивающими. Года полтора назад я прочитывал «Богословский курс» Кирилла, рукописный же. То были даже академические уроки, но и они мне показались слабыми, все до перетертости знакомым; я не находил, к чему прицепиться живою мыслию. А семинарский учебник и еще более страдал теми же недостатками. Я не решал себе, чем буду заниматься в последние годы образования, но предшествующим ходом развития само собою предрешалось, что заниматься, чем другие, не буду. Душа не будет в состоянии принять к сердечному убеждению то, чему предложат уверовать; уму не останется работы кроме критической, отрицательной. Таково и оставалось на оба года мое умственное настроение. Все официально преподаваемое казалось мне непоследовательным, неточным, противоречащим, произвольным, даже ложным в том отношении, что сами учители, казалось мне, в сущности не верят проповедуемой истине, а только говорят по заученному, не трудясь размыслить.
Впрочем, не буду прерывать повествования. Достаточно сказать, что я с поступлением в Богословский класс внутри свернулся. Я не сделался решительным отрицателем, потому что к отрицанию ум требовал тоже основания. Вместо одного произвола подставить другой произвол – это мне равно претило; строгий к формальной истине, я остался к ее внутреннему содержанию в раздвоенном состоянии: «Может быть, и это верно, может быть, и то истинно; но то и другое равно неосновательно. Где же основание всепримиряющее и всерешающее, и есть ли оно?» Самый этот вопрос еще только мерцал предо мной где-то вдали, не выступая определенно и не понуждая к поискам. Я оставался в готовности все принять и все отвергнуть, когда предстанут неотразимые основания убедиться. Стоя на полдороге, я напоминал ту простодушную крестьянку, которая сначала неумышленно поставила свечку или приложилась к изображению сатаны на Страшном суде. «Что же это ты делаешь? – укоряют ее. – Ведь ты приложилась к нечистому». – «И, батюшка, – отвечала она, сознав ошибку, – ничего; ведь еще неизвестно, к кому-то попадешь, может, и к нему».
Глава LI
ДВА РЕКТОРА
Продолговатая зала со столами в два ряда, расположенными покоем по наружной стене и примыкающим к ней двум внутренним. В середине третьей внутренней – профессорский стол со стулом. Таково расположение Богословского класса. Мы уселись. Приходит ректор и вслед за обычною молитвой тихим голосом дает вопрос, ни к кому не обращаясь: «Что такое Богословие?» Это было первое его слово к нам, как учителя к ученикам.
– Что такое Богословие? – повторяет он, немного возвысив голос. – Ты!
И ректор пальцем указывает на ученика.
– Что такое Богословие?
Ученик молчит, но можно сказать, что прежде, нежели успел он замолчать, уже ректор обращается к другому, затем к третьему:
– Ну, говори, здесь пришли не дремать, а дело делать: что такое Богословие?
– Богословие происходит от слов Бог и слово, – отвечает, наконец, один.
– Бог и слово! – одобрительно повторяет ректор. – Что же это: слово Бога к человеку иль о человеке, или слово человека к Богу или о Боге?
И прежде, нежели успел задумавшийся ученик ответить, он уже обращается к другому, повторяя вопрос.
– Слово человека к Богу или о Боге, – отвечает кто-то.
– Почему?
– Слово Бога к человеку и о человеке, – решается сказать один из поднятых.
– Почему? Отчего не слово человека к Богу или о Боге? Ты, ты, ты!
После многих таких обращений, вопросов, возражений профессор добивается объяснения, что слово Бога к человеку и о человеке – в Откровении, а слово человека к Богу есть молитва, Богословие же есть слово человека о Боге. Анализ кончен. Все «ты» и «ты», несколько раз поднятые, несколько раз посаженные, получили позволение садиться окончательно. Начался синтез.
Кратко повторяется все то, что добыто перекрестными вопросами и ответами. И объясняя это, ректор все ходит; скажет, пройдет два шага, обернется мгновенно в другую сторону и снова с усиливающимся жаром повторит сказанное.
Так прошел весь первый класс, все два часа, и мы едва переползли через «определение» науки. Пояснив, повторив, подтвердив, ректор еще не удовольствовался, но заставил кого-то снова резюмировать слышанное.
Второй урок был подобием первого; затем третий, четвертый и далее, тот же порядок: «Здесь пришли не дремать, а дело делать!» Урок, еще не пройденный, проходится первоначально в виде гадательных ответов, даваемых учениками; за ними следует изложение самого учителя, иногда повторенное изложением ученика.
Вместе со введением в Богословие нас принялся учить ректор и проповедничеству. Тотчас после поступления в Богословский класс нам всем уже назначено по проповеди. Но прежде чем писать самую проповедь, мы обязаны были подать ее «расположение», то есть существо и порядок мыслей, которые в ней будут изложены. Чрез несколько дней, когда часть «расположений» уже подана, класс начинался с их разбора.
– Архангельский, – по обыкновению тихим голосом начинает ректор, – мысли твоего расположения?
Архангельский или там какой Воздвиженский начинает:
– В приступе говорится то и то; затем в трактации излагается такая и такая мысль.
– Соколов, как ты находишь это расположение?
– Оно неправильно.
– Неправильно! А я скажу: правильно. Почему неправильно?
– У него члены деления совпадают.
– А что такое члены деления совпадают? Ты, ты… ты!
– Члены деления совмещаются, – отвечает кто-то.
– А что такое «совмещаются»?
– Нет, члены деления у меня не совмещаются, – отзывается проповедник.
– А он говорит – совмещаются! – живо откликается ректор. – Ты объясни: почему?
И так перетирал он нас каждый класс. Острые языки из нас говаривали, что если бы не постоянная обязанность быть наготове к ответу, то после первой четверти часа можно уснуть, с тем чтобы проснуться к концу класса и вновь услышать уже слышанное. Но я с глубоким благоговением вспоминаю об этом наставнике и истинном отце. Лично я и, может быть, многие узнали от него мало нового; содержание уроков было не обширно и не щеголяло глубокомыслием. Но ученики избавлены были от обязанности долбить учебник, хотя и не избавлялись от обязанности готовиться. Они надалбливались вдосталь в аудитории, а готовиться приходилось им, чтобы не мешкать ответом на вопрос, к следующему уроку, который будет разбираться завтра в классе. Выходя из аудитории, ученик уже знал твердо урок, не мог его не запомнить, заучивал тексты и не мог их не заучивать, потому что в каждом тексте, который приводится учебником, каждое слово прошло чрез ту же процедуру перекрестных вопросов и ответов, смыкаемых окончательным изложением учителя. Тетрадки учебника обращались в конспект, только напоминающий о слышанном и уже усвоенном. Ученики узнавали, пожалуй, и немногое, но знали твердо и знали почти одинаково отчетливо все, первые, как и последние. Какой великий плод и какое изумительное терпение учителя!
Терпение! Нет, я употребил неподходящее выражение. Ректор в классе редкий раз не одушевлялся; от спокойствия он приходил постепенно в больший и больший жар; голос возвышался, движения становились живее; слышались ноты растроганной души.
Урок шел о страданиях Спасителя, отречении Петра. Как живо помню, как ясно представляю фигуру! Слышу патетические слова:
– И кто же? Петр, избраннейший из апостолов, первый исповедавший Его Сыном Божиим. И что же? Отречешься!.. И когда же отречешься? В сию самую нощь, прежде, нежели петел возгласит. И как же? Трижды!., трижды отречешься… прежде, нежели петел возгласит…
Голос уж дрожит, но фигура оборачивается к другой стороне залы, и аудитория слушает снова:
– И кто же? Петр… и проч.
Это в трогательном роде. Вот пример другой, из истории воскресения. Воины объясняют, что тело Распятого и Погребенного украдено.
– Украдоша нам спящим, – приводит ректор с усмешкой это показание стражи. – Хм!.. Украли, когда они спали! Хм! Спали и видели. Как же они видели, когда спали? Если спали, то не видали, а если видели, то как же допустили?
– «Украдоша нам спящим», – повторяется по обыкновению опять то же еще горячее, и еще язвительнее улыбка. – Спали и видели! Видели и спали!.. Видели и допустили!..
Как следовало по семинарскому обычаю, кроме проповеди назначено было нам еще сочинение. Единственная тема дана была ректором во все первое полугодие. Но помимо заданной, обязательной (на латинском языке), от нас принимались, а тем самым и требовались косвенно диссертации произвольные. По утвердившемуся обычаю, они состояли в развитии вопросов, объяснение которых слышано было в классе. Каждый день при выходе из аудитории ректор получал по вороху таких сочинений, понятно, всегда более или менее коротких по краткости времени, в которое изготовлялись. Писали, можно сказать, вперегонки, и к этому поощряла внимательность ректора, прочитывавшего поданные упражнения немедленно и сдававшего обратно с рецензиями редко позже завтрашнего дня. На чтение посвящался у него вечер, причем почти неизменно приглашался кто-нибудь из казеннокоштных в качестве чтеца, а кстати, и соучастника в рецензии. О количестве труда, который на это клался, можно судить по тому, что из числа моих товарищей некоторые подали до декабря сто упражнений и даже более. А нас было с лишком девяносто. Я не последовал этому примеру. Я привык от сочинения требовать умственного усилия и только духовною работой определял ему цену; я не мог приладиться; мне даже претило под видом собственного сочинения подать механически повторенную другими словами часть прослушанного урока. Не помню, дошло ли у меня даже до дюжины к концу семестра число произвольных сочинений, и я удивляюсь теперь, каким образом еще сохранил я к рождественскому экзамену свое место второго ученика в списке, – второго, а не первого, потому что в Богословский класс переведены два параллельные отделения предшествующего класса: первого Среднего отделения, в котором был свой первый ученик, и – второго, где был я. Судя по тому, как я отнесся к произвольным диссертациям, а еще более к проповедям, по всей справедливости заслуживал я быть отнесенным к числу заурядных, а никак не отличных!
Недолго, однако, мы пользовались своим беспримерным педагогом. К Рождеству он оставил нас, получив назначение на викариатство в Москву же. В силу чего, недоумеваю, но по назначении (однако до посвящения) Иосифа в новый сан рассудилось митрополиту навестить наш Богословский класс и произвести беглый экзамен вызовом нескольких учеников. Владыка был необыкновенно любезен, так любезен, что я вспомнил слова одного князя, сказанные брату, что в обращении со светскими людьми митрополит обворожителен. Зная его как «владыку», которого подчиненные трепетали, к которому идя, молились, чтобы Бог пронес счастливо, я тщетно усиливался представить его в виде светского, любезно беседующего человека. Но таким он явился в помянутое посещение Семинарии: очень хвалил учеников, пересыпал свои отзывы рассказами и, между прочим, на один ученический ответ сказал: «Вот вы умнее г-жи Сталь. Эта известная писательница, говоря о том-то…», и проч.
Таким образом мы остались сиротами. Наступило междуцарствие, длившееся не один месяц. Тревожно осведомлялись мы: кто же будет назначен? Указывали некоторые на Никодима, бывшего тогда ректором, кажется, Одесской семинарии, москвича родом. Другие прочили Филофея, харьковского ректора, бывшего инспектора Петербургской академии. Мекали более на последнего, ждали его не без трепета, но с удовольствием; было известно, что он кончил курс первым магистром, что ему бы черед быть скоро ректором академии, но что-де не угодил обер-прокурору и отправлен в незаслуженную ссылку. Не ручаюсь, насколько было достоверного в молве, но, кажется, действительно Филофей был переведен в Харьков за то, что в его инспекторство распространился по России русский перевод Библии Павского. Самый факт перевода найден был преступным; наряжено было целое следствие; переводы отбирались. В Московскую академию послан был нарочный чиновник, допрашивавший студентов и наставников поодиночке. Среди учащихся и вообще в той части духовенства, которая соприкасалась со школой, этот поход, поднятый графом Протасовым, и вообще все новое направление, называвшееся в тесном смысле «православным», встречено было сильным неудовольствием, так что слово «православие» долгое время школьным миром употреблялось в насмешливом смысле. Дотоле говорили «греко-восточное» или «греко-российское» исповедание, «кафолическая» церковь, или просто «христианство» и «христианский». Самый Катехизис Филарета в первоначальных изданиях назывался просто «христианским» и уже после к своему наименованию прибавил «православный». После того понятно сочувствие и почтительное уважение, с которым ожидали Филофея. Лично я, по слухам заранее уважая будущего ученого ректора, занялся работой, которою намеревался зарекомендовать себя, когда он приедет. В этих-то видах я и приготовил диссертацию «De lapsu angelorum», о которой говорил в одной из предшедших глав.
Но сбылось совершенно вопреки ожиданиям. Никто не думал не гадал, чтобы ректором в Москву назначен был наш же инспектор Алексий, не знавший слово паним. И, однако, так случилось. Филофей, на шесть лет старший по службе и без сравнения превосходивший познаниями, переведен был только чрез несколько лет, да и то сперва в Вифанскую, а потом уже в Московскую семинарию, когда Алексий, шагая быстро, возвысился уже до ректора академии.
Как пошли уроки при Алексии? Ни сократического метода, ни произвольных сочинений, ни тех неутомимых разборов, которыми не давал ни себе, ни ученикам отдыха Иосиф, не было в помине; потянулось зауряднейшим образом, вяло и механически. Я, в частности, находил удовольствие, выражусь так, дразнить и сбивать ректора. Я бы не дерзнул на то пред Иосифом, хотя подобные же вопросы тревожили меня и тогда. Но Алексия я любил приводить в досаду, хотя пользовался его благоволением и сам его любил.
С поступлением Алексия я мало даже посещал классы. Едва ли много преувеличу, когда скажу, что пропустил целую половину. К концу первого учебного года я схватил перемежающуюся лихорадку, которая потрепала меня сперва несколько недель дома, потом в Голицынской больнице, куда вынужден был я наконец лечь, видя безуспешность домашнего пичканья хиной и прохладительными микстурами. А на второй, окончательный, год часто пользовался возможностью подавать донесение о болезни, тем более что достоверности донесения никто никогда не поверял. Приходилось засесть за какую-нибудь книгу, от которой не желаешь оторваться, или увлечешься каким-нибудь добровольным письменным занятием, и на неделю, на две заболеваешь. Этим дням притворной болезни я обязан первым изучением английского языка и начал итальянского, ради чего обзавелся грамматиками и хрестоматиями (на немецком). В те же гулевые дни я почти вполне перевел с немецкого «Богословие» Клеэ. Это была первая система богословия, которая поколебала мое предубеждение против богословских книг вообще. Всегда жадный до чтения, я просил себе из семинарской библиотеки книг для пособия при сочинениях. Долго не получал ничего, кроме средневековых фолиантов; но они общими местами, которыми переполнены, и схоластическими препирательствами протестантов с католиками мало меня удовлетворяли. Попросив раз толковника на Библию и получив Мальдоната, я даже вознегодовал на себя, что оттянул руку, таща домой увесистый фолиант, в котором потом не обрел ничего, кроме пустословного перифраза вроде того, что белизной называется качество белого, а черным именуется черное. На просьбу дать что-нибудь поновее и притом на современном языке я получил три части Клеэ и поразился с первой страницы, увлекшись содержанием, а далее во всем сочинении восхитившись необыкновенно красивою системой, выдержанною до щепетильности. Авторитет Гегеля во время автора был еще в полной силе, и католический богослов изложил свою науку в гегелевской симметрии, отыскивая всюду два момента, замыкаемые третьим. Введение же сжато сосредоточенным языком излагало понятия о скептицизме, идеализме и (псевдо) реализме, которых, выражаясь гегелевски, отрицание есть религия. Эти страницы очаровали меня и засадили за перевод.
Изучение еврейского языка привело к другой работе. Этимология еврейская движется внутри слов, выражаясь переменой гласных, тогда как согласные остаются постоянно те же. Я поразился существованием подобного явления в некоторых русских глаголах, из которых первым представился мне губить и гибнуть. Перемена залога, достигаемая переменой внутренних гласных, напоминала еврейское спряжение, и я принялся за составление списка, где повторяется то же явление. Пытался сличением проникнуть даже закон и смысл изменений. Но недостаток лингвистической подготовки остановил работу, и уже долго спустя, через шестнадцать лет, я возобновил ее, но в более широких размерах и на более прочных основаниях, не доведя ее, впрочем, до полного конца даже доселе. Тем не менее и в те юношеские лета, в 1842 году, сличение глаголов отняло довольно времени, оставив по себе памятник в виде нескольких рапортов о болезни.
Несмотря на свое более нежели равнодушное отношение к классным занятиям, я все-таки кончил курс первым студентом. Соперник мой, поступивший первым из первого параллельного отделения Философии, оставил Богословский класс к концу первого же года и поступил в Петербургский университет. Никого затем не предпочли мне, и я заключаю отсюда, что состав учащихся в моем курсе, должно быть, стоял вообще не на высоком уровне.
Глава LII
ПРОПОВЕДНИЧЕСТВО
Проповеди нам не только были заданы, но предполагалось, что они будут и произнесены, по крайней мере некоторые. С этою целью между нами поделены были все воскресные и праздничные дни наступавшего семестра. Для произнесения назначались монастыри: Заиконоспасский, где помещалась сама Семинария, Богоявленский и Златоустов – словом, те самые, где жили бурсаки и полубурсаки. Дозволение произнести в Заиконоспасском считалось особенною честью и было признаком, что эта проповедь есть лучшая из других приготовленных на тот же день. Помимо того, что настоятелем был здесь сам ректор, который обыкновенно и совершал богослужение по праздничным дням, проповеданию в Заиконоспасском придавала особенную торжественность имевшаяся в нем кафедра. В обыкновенных церквах и соборах проповеди произносятся с амвона, для каждого раза ставится аналой, а в Заиконоспасском красовалась постоянная проповедническая кафедра вверху над левым клиросом у стены, наподобие того, как водится в костелах и кирках. Это был, очевидно, остаток еще от времен Симеона Полоцкого и вообще от ректоров-малороссов; другая подобная кафедра устроена была в церкви Иоанна Воина, на Якиманке, и только две их было во всей Москве. Настоятелем церкви Иоанна Воина был знаменитый по своему времени проповедник Десницкий, впоследствии митрополит Петербургский (Михаил). Думаю, что его проповедническая слава и повела к устройству кафедры.
С первых же дней некоторые из нас, лучшие, в числе полдюжины или с чем-нибудь, представлены были семинарским правлением к посвящению в стихарь. Представление такого рода продолжалось потом в течение целого курса, по мере ученических успехов; некоторые, впрочем, так и оканчивали, не удостоившись посвящения. Я не успел оглянуться, как объявлено было, что в числе других я должен исповедаться у такого-то заиконоспасского иеромонаха, а затем явиться на Саввинское подворье в церковь для посвящения. Исповедь и определенный духовник назначались не только потому, что в день посвящения мы будем причащены и вообще должны явиться к руковозложению (хиротесии) очищенными, но и затем, что засвидетельствовать, достойны ли мы вступления в церковный клир, помимо семинарского начальства, обязан еще духовник. Есть грехи, с которыми принимать к посвящению запрещают правила, и совести духовника предоставляется veto, без объяснения причин, которые остаются тайной между им и кающимся. «Каяться ли?» – спрашивали друг у друга некоторые из товарищей. Никто из них неповинен был, конечно, ни в татьбе, ни в убийстве, но не все сознавали себя чистыми против седьмой заповеди. Я не решился потом допрашивать, они ли ко греху добавили еще тягчайший смертельный грех, посмеявшись таинству, или же духовник, из снисхождения к современной немощи общества, удовольствовался келейною епитимией, не лишив молодых грешников предстоявшего посвящения? Скорее, было последнее, и на это, в чем нимало не сомневаюсь, имелась общая инструкция от архиерея. Какие строгие епитимии, даже отлучения от таинств, предписываются правилами за грехи, по-нынешнему маловажные! Но уже «Духовный регламент» предписывает, ввиду общего расслабления нравов, прибегать к снисходительности. Если бы духовники судили по строгости, то изо ста едва ли бы даже один, при теперешних нравах, допускаем был до причастия. Строгость может довести кающегося до отчаяния и совсем оттолкнуть от церкви.
Исповедались. Свидетельство об исповеди с письменным разрешением от духовника получено и в общей бумаге переправлено на подворье. До начала обедни мы были уже там. Так как нас предполагалось посвятить в «чтеца, певца и проповедника Слова Божия», то чтение часов пред литургией возложено было на нашу обязанность. По идее чтение нам было экзаменом, а на деле пустою формой. Да не все мы, кажется, и читали; читавшие же пробормотали псалмы не лучше простого дьячка. Тут же совершено руковозложение, причем мы должны были прочесть по строчке и пред архиереем, во свидетельство уменья нашего читать, а он нас «постриг», постриг буквально, то есть снял ножницами несколько волос с головы. Как рекрут под руководством дядьки, механически исполняли мы по команде иподиакона разные формальности пред облачением нас во священные ризы. «Целуй крест, руку преосвященного, кланяйся в землю; кланяйся в землю, целуй крест, руку преосвященного…» – читком, скороговоркой повторял иподиакон, водя нас, и мы ходили куда приказано, кланялись и целовали по команде, некоторые со сдержанною улыбкой.
Подняло мой дух до религиозного восторга первое зрелище рукоположения, которого довелось быть свидетелем в Новодевичьем монастыре, тринадцати лет от рода. Холодом обдала меня церемония полученного самим руковозложения при такой механической обстановке.
Нас облачили сначала в малый фелонь, или фелончик, как его называют, потом в стихарь. Фелончик только и употребляется для таких случаев; никто из клира никогда его не носит. Большинство читателей, вероятно, не имеет о нем даже понятия. Круглый кусок материи и в середине его отверстие для головы, вот фелончик. Когда его наденут, он имеет вид пелеринки, и так как материя очень небогатая, едва ли даже шелковая, то мы и сами себе представлялись комичными фигурами, и присутствующие в церкви, нам казалось, должны смотреть на нас как на шутов. А напрасно. Фелончик, на мой взгляд, даже красив; он есть первообраз действительного фелоня, притом удержавший основной тип в чистоте, чего уже нет в обыкновенном фелоне, то есть священнической ризе. Представим себе тот же кусок, но большего размера, достаточный, чтобы покрыть все тело, а не одни плечи. Представим то же отверстие для головы в середине, да по краям кайму из другой материи, и вот вам фелонь обыкновенный или священническая риза. Таковым он и был в древности. Так как, однако, подобный сплошной мешок не дает свободы рукам, то придумали изменения. Западная церковь усвоила разрез или выемку с боков, давшие свободу рукам; а на Востоке та же цель достигнута тем, что перед вздергивался до груди и тут прикреплялся на петлях к пуговицам. После, из экономии материала или не знаю уже из чего, вместо вздергивания на пуговицы предпочли вырезывать весь перед, с сохранением, однако, пуговиц и позумента, идущего неправильною линией по изуродованному краю. Таков теперешний фелонь, покроем своим бесспорно уступающий древнему и в изяществе, и в чистоте стиля. Но фелончик сохранил чистоту стиля, и если проигрывает в изяществе, то единственно потому, что шьется едва не из рубища; но зато он верный представитель предания.
Первая проповедь мне, как перваку второго отделения, назначена была в ближайший праздник – Воздвижение; первому ученику первого отделения досталась, вероятно, неделя пред Воздвиженьем. Проповедь, а предварительно, как водится, «расположение ее», были написаны, поданы и возвращены с одобрением; однако проповедь не произнесена. Почему? Твердо не помню. Во всяком случае, не потому, чтобы ректор нашел ее негодною, а, вероятно, предоставлено было мне произнести ее в любой церкви. Может быть даже, мне предложено было произнести в Заиконоспасском, но сам я нашел чем-нибудь отговориться. В Заиконоспасском, помнится, говорил на этот раз мой приятель Николай Алексеевич (вышедший из Философии вторым). Помню, как накануне я слушал всенощную в Заиконоспасском, простоял в самое Воздвижение и обедню. Возле меня стоял какой-то господин, и когда во время причастного стиха Николай Алексеевич начал в виду всех подниматься по лестнице и затем стал на кафедре, бледный как пред смертною казнию, сосед мой воскликнул с выражением досады и сожаления: «Что это такое! Возможно ли так трусить!» Мне, в свою очередь, стало досадно на непрошеного критика, и было жаль своего приятеля, почти потерявшего голос от смущения.
Почему же, однако, я не говорил проповедь? Потому что моя проповедь была для меня отвратительна. Если бы не обязанность представлять все письменные упражнения к экзамену, я бы непременно изорвал свой первый плод церковного красноречия. Я не имел духа даже ни разу посмотреть на него впоследствии. И не потому, что мое произведение было неудачно; со школьной точки оно было сносно. Но оно было плохо в моих глазах уже потому, что оно проповедь. По мне пробегала нервная дрожь, когда я вспоминал, что там, в тетрадях, есть моя проповедь.
Многим в зрелых летах и даже до старости продолжают сниться экзамены, страх пред ними, ощущение мучительной боли от полученной двойки; в холодном поте просыпается сорокалетний муж, отдыхая мыслию, что, слава Богу, это только сон; кошмар принял только форму мучительнейшего изо всех гнетущих впечатлений, которым пришлось в жизни подвергаться.
Снились и мне экзамены; чувство не из приятных, но никогда не доходило до полного угнетения. Понятно: и наяву экзамены в семинарии и академии не имели того всерешающего значения, как в гимназиях и университетах. Можно было, в мое по крайней мере время, сдать посредственно устный экзамен, даже вполне срезаться и тем не менее числиться в отличных, первых учениках; на дальнейшую судьбу устный экзамен, свидетельство о памяти и зубрежке, оказывал малое влияние. Но меня десятки лет посещал кошмар в виде приближающейся обязанности писать проповедь. Беспокойство, страх, невероятное напряжение ума и… полное бессилие! А срок приближается; вот уже остался день, нет, несколько часов, и я неспособен выжать из себя что-нибудь. Я чувствую срам оказанной неспособности изготовить произведение, легко дающееся самому заурядному таланту, даже бездарностям.
Что же это такое? В самом ли деле я неспособен был составить риторическое произведение? Чего! Я писывал проповеди чуть не дюжинами для семинаристов, для дьяконов и священников. Раз, также еще семинаристом, составил для будущего своего тестя такую проповедь на память об освящении храма, что благочинный цензор не находил слов хвалить ее всем как замечательное произведение. Брат Александр, искусившийся в проповедничестве и очень щекотливый в авторстве, прибегал на старости к моим советам, выслушивал замечания и принимал поправки. Но то было для других, а не для себя. Случалось, когда измученный бесплодными усилиями, не находя ни мыслей, ни слов, я в отчаянии обращался к себе: «Да вообрази, что готовишь не для себя, что тебя просил N. N. О, Боже, хоть бы кто-нибудь обманул меня и попросил на этот день сочинить ему проповедь, а потом сострадательно сказал: я пошутил, это вам именно и назначено». Но моего мучения никто не знает; признаться в нем было мне стыдно, да и приняли бы за шутку, никто не поверил бы. Пишет головоломные диссертации и затрудняется такими пустяками! Но и не затрудняюсь, напишу легко, только не для себя; а когда доходит до собственного лица, теряю всякую способность, в голове путается; я не могу сочетать мыслей, и не приходят слова на ум, не найду о чем писать. Одна тема кажется слишком пошлою, другая слишком натянутою, третья пересыпанием из пустого в порожнее.
Тринадцать лет я носил стихарь на правах «проповедника»: два года в семинарии, четыре на студенческой скамье в академии и семь лет на академической службе. В тринадцать лет я ухитрился подать всего пять проповедей, из них три в семинарии; в одиннадцать же лет академического поприща – только две, тогда как, начиная со старшего академического курса, по крайней мере по одной проповеди в год было обязательно. Произнес же по заказу из пяти проповедей всего одну. Это было в семинарии, как помню, в неделю Мытаря и Фарисея, какие-то общие места о милосердии, совершенно ребяческие. Но чего они мне стоили! В остальных случаях находил способ увертываться, за исключением последнего, о котором стоит сказать особенно.