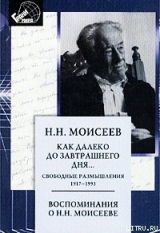
Текст книги "Как далеко до завтрашнего дня"
Автор книги: Никита Моисеев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 30 страниц)
Тайна вопроса «Зачем»?
Мне всегда казалось, что самым удивительным и загадочным в нашем мире, является существование того, что существует. Я об этом уже говорил в настоящем очерке и назвал это удивительное – тайной вопроса «ЗАЧЕМ». Но приняв эту тайну, как неразрешимую загадку, мы уже способны смириться и с тем, что существует и случайность. В самом деле, ведь мы этим просто подтверждаем факт её существования и то, что законы природы могут носить и статистический характер. И требуют соотвествующего языка для своего описания. Однако речь идёт все-таки о законах природы, а не о случайном хаосе хаосов.
Но ведь наука, она и родилась для того, чтобы помочь человеку предвидеть результаты своих действий. и, кажется, что она детерминистична – это по существу: если из A следует B, а из B следует С, то из A следует С. Если же всё хаос, непредсказуемость, то не может быть и науки. И мне стоило большого труда понять, что между стохастичностью и детерминизмом уж и нет такой большой разницы. Пример Фейгенбаума мне дал дополнительные аргументы, показывающие, что так по-видимому и обстоит дело. И в тоже время, если мы откажемся от существования принципиально непредсказуемого, то это будет означать и отказ от всего качественно нового, что может происходить в мире и так сузит наш горизонт, что и думать о науке уже не захочется. Вот почему, уже чисто эмоционально, я никогда не мог принять классического детерминизма. Жить без неожиданностей, вероятно очень скучно и неинтересно!
Тем более, что и сама наука имеет смысл лишь тогда, когда мы принимаем изучаемое, то есть существующее, существующим. Так я снова прихожу к тому эмпирическому обобщению, которое признает фундаментальным факт существования стохастической природы существующего. И, следовательно, подлежащий изучению.
На меня огромное впечатление произвело открытие антропного принципа. Суть его в следующем. Если бы мировые константы – скорость света, гравитационная постоянная и другие, были отличными от современных всего лишь на десятые доли процента, то мир был бы совершенно иным. В нем не могло бы возникнуть стабильных образований, не могла бы возникнуть та форма эволюции, которая привела к рождению звезд, планет, живого вещества, следовательно, и человека. Вселенная бы развивалась, но как то совершенно по-иному и, что самое важное, – без наблюдателей, без свидетелей. Ученые-физики, – а в нынешнем мире все беды идут от физиков – сформулировали антропный принцип так: мир таков, потому, что мы (то есть люди) есть!
Как показывает антропный принцип, развитие Универсума идёт, как бы по лезвию. Чем более сложна система, тем более её подстерегают опасности разрушения и перестройки.
Сейчас антропному принципу посвящена огромная литература. Антропный принцип вряд ли имеет, во всяком случае в настоящее время, какое либо практическое значение. Но его общепознавательное, философское значение огромно. Для меня же он имел важнейшее значение и ложился в ту схему размышлений и исследований, которыми я занимался последние пару десятилетий.
Занимаясь стабильностью сложных систем, я всё время сталкивался с одной их особенностью: чем сложнее система, тем она менее устойчива. Но на каком то этапе её усложнения, в течении которого происходит снижение её уровня стабильности, в рамках системы появляются новые механизмы, которые стабилизируют её развитие. Так популяция живых существ вроде бы не имеет права быть
Глава X. Эпопея ядерной зимы и об отставке, которая за ней последовала
Новая метамарфоза: биосфера и общество
Само по себе, исследование феномена ядерной зимы было более чем второстепенным событием в той большой работе, которую я задумал и начал на грани 60-х и 70-х годов. Анализ этого феномена был всего лишь её фрагмент, причём, как увидит читатель, достаточно случайный. Но именно «история ядерной зимы», которая сначала меня особенно и не интересовала, получила широкую известность и сделала большую рекламу всему направлению, которое я начал развивать в Вычислительном Центре Академии Наук СССР. В то же время, научные результаты, которые мне представлялись наиболее интересными также как и общее понимание смысла проблемы «человек -биосфера» или особенностей самоорганизации материального мира, остались просто незамеченными а, вероятнее всего, и непонятыми. Я думаю, что такая ситуация достаточно типична в науке: далеко не всё то, что считается исследователем главным, таковым воспринимается остальными. А, может быть и является главным: ведь позиции исследователя и читателя совершенно разные.
Конец 60-х и последующие годы были, может быть, самыми напряженными и плодотворными годами моей жизни. К этому времени я уже потерял интерес к преодолению чисто технических трудностей доказательства тех или иных теорем, что характерно для людей более молодого возраста. Я уже внутренне ощутил всю условность «строгой науки», и любого «абсолютного знания». Меня всё больше тянуло к содержательному естествознанию и гуманитарным наукам и их объединению. Так, вероятно происходит со всеми стареющими учёными, у которых пропадает спортивный азарт, уступая место стремлению к «сути вещей», обретению ясности, к углубленному проникновению во что – то, по настоящему непонятное и лежащее на грани логического и чувственного. Может быть такое же достижение ясности, ясности для себя самого было источником размышлений, приводивших однажды к той прозрачности видения мира, которым обладали отцы церкви. Именно эта ясность, обретенная в себе для себя, для своего внутреннего мира, внутреннего равновесия, давала им силы жить, привлекала и привлекает к ним людей погруженных в суету повседневности. Даже и теперь!
Когда я начал заниматься проблемами эволюции биосферы, взаимоотношением процессов её развития с развитием общества, мне стало казаться, что я прикасаюсь к святая святых и начинаю догадываться о нечто таком, что мне ранее было совершенно недоступно. Все это наполняло жизнь новым содержанием и меня начала тяготить большая административная работа, которая лежала на моих плечах в последние четверть века, когда я исполнял обязанности заместителя директора Вычислительного Центра Академии Наук СССР академика Дородницына, глубокого и талантливого исследователя, однако человека недоброго, удивительно высокомерного и совершенно мне чуждого по своему мировосприятию. Я стал подумывать об изменении своего общественного статуса. К тому-же мои новые интересы наполнившие жизнь новым содержанием, значительно отдалили меня от старого круга деятельности. Да и тех людей, с которыми я был близок по старым интересам.
Я понемногу старел, подходил к концу шестой десяток и я понимал, что вступаю в совершенно новый этап своей жизни с новыми ценностями, которые ещё предстоит осознать. Тогда в семидесятых годах, в отличие от девяностых, я был вполне метериально обеспечен и, получая свою тысячу рублей, мог не думать о заработке. Я искал повода освободиться от служебных обязанностей, которые мне мешали думать над тем, что мне было интересным и занимали время, необходимое для изучения множества вопросов, ставших для меня очень нужными. Однако расстаться с официальным положением мне удалось только в восьмидесятых годах, когда вышло постановление о том, что членам Академии предоставляется право оставить свои официальные посты, называться советниками и получать, при этом свое полное жалование – кажется я был первым членом Академии, который по собственной инициативе отказался от занимаемых постов задолго до достижения предельного возраста. Расставшись с Вычислительным Центром и кафедрой, я начал жить очень интересной и насыщенной жизнью.
И всё же удачливым себя, в этот период, назвать я не могу, поскольку большинство из моих замыслов тех лет, так и остались замыслами. Да и само расставание с Вычислительным Центром происходило не совсем так, как мне бы хотелось – просто я уже не мог не уйти!
Причин, почему я не могу считать этот период своей жизни удачливым, было много. Были объективные. Гибель Володи Александрова, отход от меня кое кого из моих сотрудников и учеников, начало перестройки, а вместе с ней и конец бюджетного финансирования работы в области моделирования биосферных процессов и т.д. Но были и субъективные, сыгравшие вероятно, основную роль. Работа, которую я затеял требовала коллективных усилий, работы «на равных» большой группы людей, в которую каждый вносил что-то своё, работая «на себя». Но, в тоже время и понимая общую цель, работая синхронно с остальными членами команды и со мной лично. А именно такой работы я организовать и не смог. И причина была, прежде всего, во мне самом.
У меня довольно удачно получалась та административная работа, которая сводилась к выбору направления деятельности, с последующим подбором руководителя новой темы или задачи. Сделав те или иные первые шаги, иногда даже чисто административные, я затем обычно отходил от работы, отходил в сторону, полностью доверяя её тому, кому я поручал руководство и присматривал за ней издали, стараясь предельно не вмешиваться. И надеюсь, что младшие коллеги практически не замечали моей опеки. Я думаю, что такая политика в организации целенаправленной деятельности, в целом, правильная. Тем более, когда речь идет о работах инженерного типа, то есть когда результаты можно предугадать заранее, когда надо сделать нечто вполне конкретное. В выборе такой стратегии, я ориентировался, прежде всего на самого себя, на свой стиль работы: я ценил самостоятельность, очень не любил какого-либо вмешательства и работал без него куда быстрее.
То, что я смог проработать более двадцати лет заместителем А.А.Дородницына – факт малопонятный моим друзьям, объясняется очень просто: до поры до времени, мой директор никак не вмешивался в мою деятельность. Ему, вероятно было просто удобно то, что, делая успешно свое дело, я никак не затрагиваю вопросов, которые он считал своими прерогативами – иностранные связи, общая стратегия развития вычислительной техники, представительство, к которым я, на самом деле был абсолютно равнодушен. Он всегда чувствовал себя настоящим сталинским директором и всё, что происходит в ЕГО учреждении, есть ЕГО собственное достояние. Как только он изменил своё поведение, и начал вмешиваться в мою работу, я тут же подал в отставку.
Я думаю, что подобный стиль организации исследований, который сложился и, который я практиковал и в МФТИ и в ВЦ, достаточно эффективен. С одной стороны, выбирая какой либо новый вопрос и делая в нем первые шаги, я определял целенаправленную деятельность целого коллектива, то есть держал ее в определенном русле. А с другой, как только становилось ясным перспектива получения новых результатов, я уступал место инициативам моих младших коллег. Конечно, такая схема научной жизни не универсальна, но в среднем она очень рациональна. Хотя и требует от руководителя быть не директором с указующим перстом, а непрерывным искателем.
Но тогда, когда речь заходит о проблемах, в которых погружаешься сам с головой, которые начинают составлять в данный момент смысл собственной жизни – что бывает совсем не часто, то такой стиль работы неприменим. Здесь надо уметь работать вместе и превращаться из руководителя в партнёра. Вот этого я делать так и не научился. Я не умел становится просто партнёром. Для этого нужно было иметь иную психическую конституцию. По существу я был очень одинок и все свои работы, за очень малым исключением, писал один и был их единственным автором. У меня много учеников – и кандидатов и докторов наук, есть среди них и академики. Но ни с одним из них, несмотря на добрые человеческие отношения, я не был близок, как «искатель». Я видел этот дефект собственной психической конституции, но поделать с ним ничего не мог.
Свое повествование я начал рассказом о нескольких часах, которые я провел наедине с Ладожским озером. Такое состояние, похожее на медитацию мне было свойственно с детства и очень мне помогало всю жизнь. Мне бывает трудно рассказать то, о чем я думаю в это время. Но в конце такого пребывания наедине с собой, во мне обычно вызревало, вырисовывалось какое то смутное понимание того предмета, о котором я думал. Настолько смутное, что я всегда стеснялся о нем кому бы то ни было рассказывать. Тем не менее, я доверял этому внутреннему зову и следовал ему. Я привык доверяться своей интуиции: она меня не подводила. Но и не давала никаких разумных аргументов для объяснения своей позиции. По этой же причине я не выдерживаю долгих споров и критических обсуждений. Порой случалось, что я признавал справедливость замечаний и ...делал всё же по-своему. Такая особенность моего образа мышления и поведения очень затрудняла совместную работу «на пару». Попытки совместной работы и даже писания совместных статей или книг, обычно оканчивались неудачей. А иногда даже и ссорой.
Я помню только два случая в моей жизни, когда я смог работать вдвоем «на равных». Первый раз в конце 50-х годов, когда мы вместе с В.Н.Лебедевым старались создать численные методы устойчивого расчёта траекторий космических аппаратов. Второй – когда вместе с В.В.Александровым мы разрабатывали первоначальную версию модели, имитирующую динамику биосферы. Это была действительно работа на равных, поскольку каждый вносил в неё своё, свойственное собственному пониманию.
Что же касается изучения биосферы, как единой системы, объединяющей и косную природу, и живое вещество, и человеческое общество, систему взаимодействующую с космосом, то такая деятельность требовала надёжной компании единомышленников, равно увлеченных этой проблемой, понимающей и разделяющей цели работы. Такой компании мне создать не удалось.
Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский
Среди моих учеников была весьма неординарная личность – Юрий Михаилович Свирежев. Он окончил физтех и учился в той знаменитой группе на кафедре Лаврентьева, из которой вышло много талантливых ученых, в том числе и Володя Александров. После успешной защиты своей кандидатской диссетртации, где я был его руководителем, Свирежев стал работать в Обнинске у знаменитого биолога и генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского. Свирежев занялся биологией и постепенно превратился вероятно в квалифицированного математического биолога. Мне трудно судить сколь высока была, им обретенная новая квалификация, но всякими терминами он разбрасывался столь небрежно, что вызывал, не только у меня, но и многих других, невольную зависть своей эрудицией. Во всяком случае в Пущине он вполне успешно защитил уже докторскую диссертацию по математическим вопросам биологии. Ему я и обязан знакомством с Николаем Владимировичем.
О Тимофееве-Ресовском и его неординарной деятельности в последние годы писалось довольно много, и о его непростой судьбе, и о его весьма странном характере, его научных заслугах и т.д. В этих писаниях перед читателем является некоторая весьма экзотическая личность, которая не очень соответствует моим впечатлениям. Конечно он был зубром – сильным, умным, способным увлекать людей, как и многие настоящие большие ученые, как тот же П.Л.Капица или А.Н.Крылов. Но никакой экзотики я в нем не почувствовал. Он был очень русским, с болью переживал малую востребованность нашего научного потенциала, понимал наши возможности. Он был таким же ругателем, как и все мы технари, что нас очень роднило. Он так же старался работать на благо нашей страны и также как и мы говорил о том, что брежневы приходят и уходят, а Россия остаётся. И самое главное -ДЕЛО! Одним словом, он никогда не был диссидентом. А нормальным думающим очень смелым исследователем и мыслителем, что не одно и тоже. Одним словом, он был очень НАШ!
Иногда, приезжая в Москву, и оставался ночевать в городе, Тимофеев-Ресовский звонил мне и предлагал устроить небольшой семинар. Я приглашал несколько человек, которым может быть интересен разговор и вечером в моем кабинете в Вычислительном Центре бывали очень содержательные обсуждения. Пожалуй слово «обсуждение» не совсем точно отражает то, что там в действительности происходило. Говорил в основном Тимофеев. Он рассказывал о русском естествознании, его истории, его идеях, его философии. А, самое главное, о людях русского естествознания. Особое расположение он питал к Вернадскому и Сукачеву. Впрочем много хорошего рассказывал и о Вавилове, Шмальгаузене, Четверикове и других представителях Великого Русского естествознания. Он нам действительно сумел показать, сколь велико это русское естествознание и заставлял нас чувствовать, что мы не иваны, родства непомнящие, а наследники великой культуры, за которую еще и в ответе.
Я не помню, чтобы мы когда либо говорили о Лысенко и лысенковщине. Он просто считал эту тему недостойной ученых, да и вообще серьезных людей.
На самом деле эти семинары – они были весьма редки и их было немного – можно пересчитать по пальцам, представляли собой довольно продуманный природоведческий ликбез, который Тимофеев-Ресовский устроил нам, машинным математикам. И не без задней мысли. Дело в том, что Николай Владимирович был глубоко убеждён в том, что пришло время, когда естествознание, также как и физика потребует для своего развития всей мощи современной математики. Он понимал, что самим биологам и естествоиспытателям с такой задачей не справится и старался привлечь внимание и интерес профессиональных математиков, прежде всего тех, кто интересовался методами компьютерного моделирования. И его выбор нашей компании был совсем не случайным, также, как и выбор материала для обсуждения. И я думаю, что он добился определенного успеха – мы начали серьезно изучать работы Вернадского, подружились с очень интересным почвоведом Виктором Абрамовичем Ковдой и начали искать свой собственный путь в науках о природе.
Пару раз мне не удалось собрать семинар и тогда мы встречались вдвоем. Оба эти разговора имели для меня важные последствия.
Однажды Николай Владимирович попросил меня прикинуть – сколько жителей планеты смогут при нынешнем уровне технологического развития вписаться в естественные циклы кругооборота веществ. Я провозился с этой проблемой довольно долго. Месяца три-четыре. Как-то он позвонил мне по телефону и спросил о том, могу ли я сказать ему, хоть что-нибудь по этому вопросу. Я сказал, что очень высок уровень неопределенности, поэтому мой ответ не точен, но по моим расчётам получается что-то между двумя и восмью стами миллионами людей. Он расхохатался и сказал,"почти правильно – 500!" и без всяких расчётов. В самом деле, лишь 10 % энергии используемой людьми, составляет возобновимая энергия, то есть энергия, которая участвует в кругообороте. Все остальное даёт кладовая былых биосфер или запасы радиоактивных материалов, полученные Землей при ее рождении. Значит для того, чтобы не расходовать земных запасов, которые уже нельзя возобновить, чтобы не нарушать естественного круговорота веществ и жить в согласии с Природой, как и все другие живые виды живых существ, человечеству надо, либо поубавить свои аппетиты и найти новые технологические основы своего существования, либо в пойти на десятикратное сокращение числа жителей планеты.
Оказывается, что Тимофеев-Ресовский знал заранее такой ответ и хотел посмотреть, как я до него дойду сам – элементарный розыгрыш в его стиле. Но он заставил меня задуматься над другим вопросом – человечество взаимодействует с Природой как единый вид. Что из этого должно следовать?
А должно следовать многое. В том числе и новое представление о прошлом настоящем и будущем общества. Попытка проследить то, что должно вытекать из этого факта, привела меня к полной перестройке моего представления о диалектике общественного развития.
Другой разговор состоялся значительно позднее, в Обнинске, когда я уже начал серьезно размышлять о биосферных проблемах, внимательно читать Вернадского и думать о том как научиться изучать взаимодействие человека как биологического вида и биосферы, неотделимой частью которой он является. Видя всё бесконечное разнообразие культур, образов жизни, экономики, я старался понять что же может стать отправной позицией для изучения этого взаимодействия. Да и вообще – как можно изнутри системы изучать её всю в целом, когда мы можем располагать только локальной информацией: опыт над биосферой просто невозможен, хотя бы потому, что он бесконечно опасен!
И однажды, после какого то семинара или совещания в городском доме культуры в Обнинске, в ожидании электрички мы и разговаривали с Николаем Владимировичем о всех этих проблемах. Я ему подробно рассказал о своих сомнениях в возможностях эффективного научного анализа и о том, что я не вижу других проблем столь же значимых для человечества. Я сказал и о том, что без машинной имитации глобальных биосферных процессов нам просто не обойтись. Но как к этому подступиться?
Итак, в отличие от обычных, этот разговор начался с моего монолога. Тимофеев долго не перебивал. Когда я кончил, он сказал примерно следующее:"Я вижу, что Вы дозрели. Без моделирования здесь не обойтись, хотя это и невероятно трудно. Но игра стоит свеч. Никто кроме Вас сейчас этим заниматься не сможет, и не станет, а заняться этим необходимо". Вот такое я тогда получил благословение. Очень для меня важное.
Это был мой, по существу последний разговор с Николаем Владимировичем. Вскоре у него скончалась жена и он сам начал очень быстро сдавать. Как то вместе с Ю.М.Свирежевым мы поехали его навестить а Обнинск. Тимофеев был уже другим – исчез блеск в глазах, ко многому он потерял интерес. Николай Владимирович задавал вопросы как бы по инерции, не очень вслушиваясь в ответы. Мне казалось, что у него начала сдавать память.
Через некоторое время я узнал, что он скончался.








