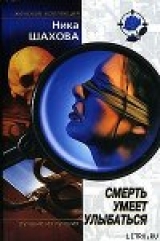
Текст книги "Смерть умеет улыбаться"
Автор книги: Ника Шахова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 17 страниц)
После того, как я получила телеграмму, Дашка покидала мои вещи в сумку, я отловила в курятнике упирающегося всеми четырьмя лапами Сем
Семыча, прыгнула в "ниву" и помчалась в Озерск.
Потом пять часов за рулем. В аду, пропахшем плавящимся асфальтом и выхлопами. Но все бы ничего, если бы не шизанутые иномарки, мечтающие то ли о ближайшем столбе, то ли о первом встречном – моем, разумеется! – бампере. И естественно, ими управляли мужчины – агрессивные и прямолинейные до обморока. Однажды еле вывернулась, послав пару дружеских слов упертому кретину в "мерсе". Поцелуй меня в карбюратор, красавчик! И по газам от греха подольше.
И вот, после всех пережитых ужасов неуемная судьба подкидывает происшествие с Павликом. Это чтобы жизнь не казалась липовым медом.
Думаю, хватит с меня на сегодня. Но кто знает, не готовит ли щедрый денек очередную пакость, поэтому в срочном порядке ставлю на нем жирную точку, пока он не поставил на мне.
– Нюся постелила тебе в угловой спальне, – крикнула в спину Грета.
Когда я нырнула под хрустящую простыню, пахнущую ромашкой, дверь приоткрылась, тихонько скрипнув, кто-то бесшумно подкрался и засопел, устраиваясь в ногах. Сем Семыч, – подумала я, улыбаясь, и мгновенно заснула.
***
Я лежала на Дашкином сеновале, широко раскинув руки и подтянув колени к животу. Я была пушистым белым облаком, которое бережно баюкает синий ветер.
Внезапно неведомая сила навалилась на меня: закрутила, потащила в темную бездну, а потом и вовсе швырнула камнем вниз.
Пролетев сквозь колючую толщу, пахнущую клевером и ромашкой, я пару раз кувыркнулась в воздухе и вошла солдатиком в воду, которая бесшумно разомкнулась у меня под ногами и тут же сомкнулась над головой.
Я стала погружаться на дно.
Я погружалась миллионы лет, а дна все не было.
Опомнившись, я заработала руками и ногами, направляя безумно тяжелое и неуклюжее тело вверх.
Наконец, почувствовала, что всплываю, но – увы! – слишком поздно. Над головой – все та же темная, мутная толща, и нет ей конца. Ни дна, так сказать, ни покрышки.
Невыносимая боль тупым скальпелем вспорола пустые легкие. Захотелось одного – избавления. Любой ценой.
Прости и прими рабу твою. Все. И...
И я захлебнулась влажным воздухом, пахнущим тиной и гнилью. Не веря своему счастью, я забилась на поверхности и все-таки нахлебалась воды – солоновато-сладкой, что-то напоминающей по вкусу. А еще вода была вязкой и, почудилось в кромешной темноте, алой. Бред, конечно, но так показалось.
Вдалеке виднелся спасительный берег. Я погребла к нему.
Плыть было трудно. Мокрые шорты и майка тянули вниз. Вязкая вода сковывала движения, цеплялась за меня, словно утопающей была не я, а она.
Чтобы сэкономить силы, я перевернулась на спину и поплыла, ориентируясь по звездным россыпям.
Вот и берег. Стараясь не думать о пиявках (может, в темноте они спят?), я нащупала ногами скользкое илистое дно и встала. Осталось сделать последнее движение – и я спасена.
– А!
Последнее движение оказалось крайне неудачным – я поскользнулась и шлепнулась в воду, подняв фонтан алых брызг. Ой, мамочки, здесь могут быть пиявки! Я быстро подскочила, отряхнула беззащитный перед злобными пиявками зад и снова попыталась выбраться на берег. И снова неудачно.
Распугав всех мерзких кровососов в радиусе тридцати метров упражнением номер шесть (глубокое приседание) и вконец намаявшись, я догадалась опуститься на четвереньки – так устойчивее – и упрямо поползла вперед.
Вскоре рука наткнулась на склизкую деревяшку. Это было бревно, один конец которого съехал в озеро. Я ухватилась за него, как за канат Ариадны, и, подтянувшись, выбралась на берег. Уф. Можно перевести дух.
Только я хотела отпустить спасительную корягу, как она блеснула глазами, широко раскрыла пасть, высунула тонкий, раздвоенный на конце язычок и лизнула меня в ободранную щеку. Ай!
С визгом я отбросила гадину и бросилась бежать куда глаза глядят. А глаза мои глядели, видимо, на Пушкинскую площадь, потому что в конце концов я оказалась там, на лавочке возле нашего всего, немилосердно загаженного голубями и прочими птахами.
Не берусь рассудить, кто из нас двоих выглядел лучше.
***
Я проснулась, но открыть глаза не решалась. Долго лежала, прислушиваясь к себе и к окружающему миру – солнечному, по-утренне свежему, аппетитно шкварчащему салом на большой Нюсиной сковородке.
Мир был прекрасен. Его портил только солоновато-сладкий привкус на языке.
Алая, вязкая, солоновато-сладкая – это, безусловно, кровь. А кровь, известное дело, снится к скорой встрече с родственниками. Но я уже у родственников. Хиромантия какая-то... Может, сон задержался в пути?
Или я подсмотрела чужое сновидение? Натка говорит, такое случается.
Я встала с постели, подышала у открытого окна, тренируясь в пранаиаме, которая является четвертой ступенью раджа-йоги. После упражнений, цель которых – особым образом упорядочить дыхание и очистить нервы от нежелательных примесей, осадок, оставленный дурацким сном, растворился вчистую. Я бодро спустилась на кухню, ощущая приятное покалывание во всем теле и необычайную легкость. Это благотворный прилив могущественных токов праны. Я на пути к совершенству.
– Привет!
– Не спится? – удивилась Нюся, – Вчера на тебе лица не было – худущая,
бледнущая, – запричитала домоправительница, как уважительно называл Нюсю дядя Генрих. Она принялась выставлять на стол обильный завтрак – желтую вареную картошку, посыпанную зеленью, прожаренные до цвета кофе с молоком куски сала, яйца, фаршированные лисичками с луком, гренки с хрустящей корочкой, мед, яблочный сок и горячий кофе. Н-да, Нюсины представлении о завтраке весьма своеобразны. Весьма.
– Хочу, пока все спят, сходить на кладбище, – объяснила я и закинула в рот половинку яйца.
Чистая правда. Мне совсем не улыбалось тащить за собой буйное семейство, которое непременно потащилось бы, заикнись я о кладбище. А мне хотелось тишины, покоя и уединения.
Нюся вдруг хлюпнула носом и вытерла глаза белоснежным фартуком.
– Хозяин ждал тебя, я знаю. Кто скажет, помер и все, – не верь, – она понизила голос до шепота.
– Нюся, – я напомнила себе, что йог воздержан в еде, и решительно отодвинула тарелку с гренками.
Надеюсь, этот подвиг мне зачтется, когда придет срок, – О чем ты говоришь и почему шепотом?
Она обтерла табуретку длинным подолом, присела на самый краешек и наклонилась ко мне:
– Они все сидели в гостиной. Максим вслух читал книгу, а хозяин с хозяйкой и Гретой раскладывали казлы. (Пазлы, – перевела я.) Вдруг хозяин налился краской и упал. А я была в чулане. Слышу – Лизавета кричит: "Нюся! Нюся". Ну, думаю, опять блажь нашла. А она: "Воду неси, капли, скорее!" Я собрала, что она велела, вхожу в гостиную – никого. Слышу – за стеной хрип.
Вошла в кабинет и вижу – хозяин помирать собрался. Я к нему, – она часто заморгала, сдерживая слезы, кончик ее остренького носа покраснел. Мне стало неловко. Нюся заботится о нас, а мы... Свиньи неблагодарные – вот кто мы.
Увлеклись собственными переживаниями и не замечаем, что Нюся горюет. А мы: "Принеси то, убери это" . Будто Нюся каменная. Тьфу ты, свиньи и есть.
Я коснулась маленькой руки, покрытой пигментными пятнами, и погладила ее. Нюся заплакала – тяжело, молча, как плачут старые люди, у которых не осталось ни одной, даже самой захудалой иллюзии. Я молчала. Что тут скажешь?
– Я подошла к хозяину, – продолжила она через некоторое время, вытирая слезы все тем же фартуком, – А он лежит колодой. Я наливаю капли, а сама вижу: он рот открывает – хочет сказать, да видно, язык не слушает. И смотрит в бок, словно показывает. Ну я и посмотрела, куда он показывал.
– И что? Куда он смотрел? – заинтересовалась я.
– На бюро. Аккурат на твою собаку.
– На ту фарфоровую фигурку, которую я ему подарила?
– На нее, – закивала Нюся.
Я задумалась. Мы с дядей часто ссорились, особенно в последнее время.
Он стал невыносим: постоянно придирался, упрекал, угрожал, закатывал истерики с тривиальным битьем посуды и метанием бронзовой пепельницы в головы домочадцев. Слава богу, до снайпера дяде было так же далеко, как до примы кордебалета.
Когда тяжеленная пепельница свистела мимо моего уха, я всерьез подумала о том, чтобы окончательно и бесповоротно послать дорогого дядюшку по адресу, широко известному в народных массах. А мои помыслы, надо учесть, обычно не расходятся со словами. Что и было доказано в следующую секунду...
Началась такая кутерьма, что... лучше бы она не начиналась.
Нет, скорее всего дядин взгляд случайно упал на ту статуэтку.
– А что тетя, Макс?
– Они ничего не заметили. Разве такие заметят? С них и взятки гладки, – беззлобно заключила старушка.
– А что было потом, Нюся?
– Я побежала вызывать скорую – они-то не догадались, а в кабинете, сама знаешь, телефона нет. И пока я звонила, хозяин умер. Лизавета сказала, сразу, как я ушла.
Мы помолчали.
– Мне, пожалуй, пора. Пойду, – сказала я после того, как Бэн прокашлял семь часов, и встала из-за стола.
– Да что же ты, опять не поела, – огорчилась Нюся.
– Твоими медовыми гренками, Нюсечка, выстлана самая прямая дорога в ад. Думаю, мне туда рано.
Успею еще. А шкварочки подай к обеду. Смотри, я на них буду рассчитывать, – и, послав ей воздушный поцелуй, я вышла из кухни, но попятилась задом и бросила через плечо:
– А как Сем Семыч?
– Есть не хочет.
– Не может быть. Он, часом, не заболел? – забеспокоилась я.
– Да не заболел твой бусурман, – засмеялась домоправительница, – Просто не до еды ему нынче.
– Что так?
– Он занят важным делом.
– Каким таким делом?
– А соседских курей гоняет – вот каким.
– Серьезное занятие, – одобрила я, – Ну, до встречи.
***
Большое городское кладбище расположилось на вершине холма, поближе к небу. Для того, чтобы туда попасть, надо либо отдать бренные концы (и тогда беспокоиться не о чем – мимо не провезут), либо на своих двоих выйти на окраину Озерска со стороны улицы Строителей коммунизма, которую в перестроечной спешке забыли переименовать, потом пройти по тропинке, пересекающей изумрудный луг, и подняться по довольно крутому склону холма.
Я прошла большую часть скорбного пути и присела передохнуть на прогретый солнцем камень, стоящий у обочины. Отсюда, с высоты, виднелись крыши домов, уродливое здание городской администрации, над которым безвольной тряпкой болтался триколор, бесконечные яблоневые сады, парк
Героев, разделенный надвое хиреющей речкой Тьмакой, озеро с грязно-свинцовой водой, трактор, ползущий букашкой по полю, и темная полоса дальнего леса.
Думаю, отсюда нашим мертвым удобно наблюдать за своими живыми.
Я прошла через кладбищенские ворота и остановилась в нерешительности. Только такая идиотка, как я, могла не спросить у Нюси, где похоронен дядя.
А кругом – никого. Ни одной души – ни живой, ни, брат Чичиков, мертвой. И сторожка смотрителя закрыта на большой амбарный замок. Остается одно – искать свежие могилы. Я медленно побрела по одной из утоптанных дорожек, вьющихся между сколоченными наспех, почерневшими от частых дождей крестами и солидными гранитными памятниками.
Проблуждала я долго. Наконец, сопровождаемая невыносимо радостным щебетом птиц, вышла к вырытым, видимо, с вечера ямам. Вид пустых могил, ожидающих своих квартирантов, ужаснул меня. Дурнота подкатила к горлу, и, чтобы не упасть в крайнюю яму, я намертво вцепилась в высокий резной крест.
Негнущимися пальцами, дрожащими и мокрыми, я нащупала в кармане пачку сигарет. Прикурила с восьмой попытки.
Передо мной зияло раз, два, три... шесть ям. Шесть покойников разом – явный перебор для городка с населением чуть больше трехсот тысяч. Неужели могильщики не смогли вовремя остановиться и копали, копали, копали, пока хватало сил и водки?..
Я обошла все ближайшие захоронения, начав с резного креста, поддержавшего меня в трудную минуту.
Все напрасно. Могилу дядюшки я не нашла. Тогда я расширила зону поиска. И опять результат оказался нулевым. Я присела на голубую скамеечку и задумалась. И было над чем подумать.
Обнаружилось странное обстоятельство: озерчане мрут как мухи, и если они будут продолжать в таком же духе, то в весьма скором времени вымрут как мамонты. Я посчитала, загибая для верности пальцы. За шесть дней умерло, не считая пропавшего дяди, двадцать восемь человек. Ну и статистика, – невесело присвистнула я.
Но статистика статистикой, а дядю искать надо. Вопрос – где.
Я знала, что другого кладбища в Озерске нет. Значит... Значит...
Ексель-моксель! Прадедушкин склеп!
Но как им удалось впихнуть туда еще и дядю?
Ругая себя на чем свет стоит, я вернулась назад, к сторожке смотрителя, свернула налево, прошла мимо заколоченной церкви и оказалась в самой старой части кладбища.
Белую фамильную часовенку я нашла быстро. Нагнувшись, пошарила под камнем, поросшим мхом, и нащупала полуистлевшую тряпицу, в которую был завернут обильно смазанный жиром ключ. Шагнула вперед, наступила на третью слева плиту и вставила ключ в замочную скважину. Замок охотно щелкнул, и дверь отворилась.
Кромешная тьма, обступившая меня, удушливо пахла замурованными цветами. Значит, я не ошиблась: он здесь. Протянув руку, я нащупала керосинку и чиркнула зажигалкой. Потом спустилась по узким крутым ступенькам.
Букеты умерших цветов стояли повсюду – на полу, на каменном парапете,
на плитах с именами моих предков. Егор Привалов. Александр и Кузьма
Егоровичи. Сашенька и Екатерина Ланская-Привалова.
Прасковья Егоровна и Карл Приваловы. Рядом с дедушкиной плитой стояла штуковина, отдаленно напоминающая усеченный артиллерийский снаряд. Ее подпирал еловый венок с алой лентой, расправив которую, я прочитала:
"Любимому брату и дяде от безутешных родных" .
Запалив лампадку возле темного образа, я разобрала витиеватые строки:
Моряк, ступивший на берег родной, Охотник, спустившийся с гор, – Я там, куда шел давно...
По стенам метались тени, разбуженные неярким светом лампы. Но это свои тени, родные. С ними не страшно. Я могла бы поклясться, что под ногами больших теней путалась одна маленькая и самая шустрая.
Сашенька?
А? а? – разнесло эхо.
Странная штука – память. Можно забыть, что было вчера, кто ты и откуда, а можно помнить о людях, которых никогда не знал.
Одной рукой я смахнула слезу, другой – пыль с образа. Свалила завядшие розы в кучу. Потом расставила по углам полевые цветы, которые нарвала по дороге на кладбище. Получилось скромно, но со вкусом. Присела. И вдруг услышала пение. Нет, не ангелов. Если ангелы и поют, то не оперные арии.
"Тучка со-громом сгова-ари-ва-лась..." – старательно выводил тонкий, вибрирующий голосок, сильно приглушенный стенами часовни, – ...выйдут девицы за я-а-агодами..."
Нет, в таких условиях скорбеть невозможно!
"Вслед им молодцы увя-яжу-утся..."
Поспешно задув лампадку, я вынырнула из фамильного склепа и огляделась в поисках певуньи.
Ни-ко-го. Стояла мертвая – мертвее не бывает – тишина. Ни щебета птиц, ни шелеста листвы. Опять глюки? Я закрыла замок, спрятала ключ под камень и направилась к воротам.
Прощайте, позже я еще зайду.
Навстречу бежал огромный, худой, с ввалившимися боками и свалявшийся шерстью пес. Из его открытой пасти капала слюна. Пес бежал так, словно боялся опоздать. "Должно быть, это кобель," – сразу решила я.
Зверь остановился в шаге от меня, вывалив из пасти длинный язык. Я присела на корточки.
– Хороший.
Никогда не боялась собак и не вижу достаточных оснований, чтобы начать бояться.
– Красавец.
Зверь повел ушами и присел на задние лапы. Я мучительно долго шарила по карманам: должно что-то быть, должно. (У меня пунктик на почве кормления бездомных животных.) Есть! Нащупала обломок печенья, достала его из кармана, сдула табачную крошку и протянула псу.
– Прости, но больше ничего нет.
Пес беззлобно оскалил пасть, примерился и очень осторожно вынул желтыми зубами угощение из моих пальцев. Бросив прощальный взгляд, полный печали и милости, он скрылся за надгробиями.
Это действительно был кобель.
***
– Как, ты не знала? – спросила тетя, потирая кулачками опухшие веки.
Она сменила черный бархат на темно-синий шелк, искусно задрапированный на могучей груди. Ее волосы были тщательно уложены в пышный валик, а губы накрашены светлой помадой. "Хороший признак," – отметила я. Нюся неодобрительно шваркнула чугунной сковородкой о плиту.
– Хозяин хотел, чтобы его кремировали.
– Ужас, – резюмировал Макс.
– А вот и не ужас, – вмешалась Грета, которая сидела за столом, положив ногу на ногу, и короткий голубой халатик рискованно приоткрывал верхнюю часть ее длинных загорелых конечностей. По сравнению с ней я выглядела бледной немочью. И это меня раздражало. Каюсь.
– Кремация – это так благородно, – говорила кузина, раскачивая вышитый бисером шлепанец на кончиках напедикюренных пальцев, – Только плоть и очищающий огонь. И никакой мерзости гниения.
– Грета, заткнись, – скорее попросил, чем потребовал позеленевший
Макс.
– А ты не хами!
– Дети, дети, успокойтесь! – прикрикнула на них тетя Лиза, – Во всем виноваты гены, – обратилась она ко мне, – Генрих был очень похож на нашего отца, Карла Августовича, а мы, девочки, – на маму, Прасковью Егоровну.
Правда, наш папа часто повторял, что он русский если не по крови, то по духу. Мне кажется, папа хотел оторваться от корней – не случайно он взял мамину фамилию, окрестился в местной церкви и даже не возражал, когда соседи называли его Карпом. А Генрих наоборот хотел вернуться к истокам, – тетя тяжело вздохнула, – Дети склонны отрицать опыт своих родителей, с этим ничего не поделаешь.
– Нехорошо это. Грех, – пробубнила Нюся, обращаясь к сковородке, на которой дожаривалась свиная шейка, – Большой грех. Увидите, добра не будет.
– Ну, заладила, ворона! Накаркаешь чего доброго, – всплеснула широкими шелковыми рукавами тетя.
Обед прошел в молчании. Каждый думал о своем. Тетя рассеянно ковыряла вилкой в тарелке. Все еще зеленый Макс, принебрегший луковым супом, шейкой и салатом из помидоров, налегал на кисель со взбитыми сливками. Грета сосредоточенно, как хорошо отлаженный механизм, двигала челюстями, перемалывая все подряд. Примостившаяся в углу Нюся больше не ела, а следила за тем, достаточно ли на столе хлеба и не пора ли убирать грязные тарелки.
Луковый суп с расплавленным в нем сыром был восхитителен. Тоже самое могу сказать обо всем остальном. Мясо, кисель – м-м... пальчики до самых локотков оближешь.
И все-таки грустно. Грустно, спасу нет! Дядя умер, и с ним ушло нечто важное, объединяющее семью и придающее ей неповторимый приваловский колорит. При дяде никто не посмел бы усесться обедать на кухне.
("Вы не на помойке себя нашли," – твердил он неустанно.) А без дяди кухня оказалась единственным местом в доме, куда тянуло, где было, несмотря на необычайно жаркий август, тепло и по-настоящему уютно.
После обеда домашние неохотно разбрелись по своим комнатам. Когда мы с
Нюсей остались одни, она спросила:
– Ну как там, на кладбище?
– Тихо и пусто. Я встретила только бездомного пса. Даже смотритель куда-то исчез. Представляешь?
Нюся перекрестилась:
– Это был твой дядя.
– Что дядя? – не поняла я.
– Пес этот... Вы не успели попрощаться, вот его душу и отпустили на время, – она смахнула рукой навернувшуюся слезу, – Это был кобель?
– Кобель, – подтвердила я.
– Вот видишь! – горячо зашептала Нюся, – Он приходил попрощаться.
– Нюся!
– Ты дала ему что-нибудь вкусное? – не обращая внимание на мой протест, спросила домработница.
– Дала. Кусочек печенья. А что?
– И он взял?
– Спрашиваешь! Конечно, взял.
– Так вот, дочка, помяни мое слово, от простил тебя. Это добрый знак.
И она снова перекрестилась.
***
Я постучалась и заглянула в комнату. На всех горизонтальных поверхностях – на столе, на единственном стуле, на полках, на шкафу и даже на полу лежали кипы журналов в ярких обложках.
– Макс, как ты?
Кузен приподнялся с кровати, накрытой светло-коричневым пледом.
– Ничего, сестренка. Могло быть и лучше, конечно, но в целом ничего. А как ты? Садись, – он подвинулся.
– Аналогично, – я присела. Легкий ветерок забавлялся с открытой оконной рамой, и та недовольно, по-стариковски поскрипывала. Край короткой занавески цвета "последний закат в джунглях" вился над письменным столом.
– Знаешь, я рассталась с Петренко, – выложила я свою главную новость.
– Да что ты! – Макс нырнул вниз и достал из-под кровати, на которой мы сидели, пепельницу и сигареты. Мы закурили.
– Я все больше думаю, что семейная жизнь не для меня... – призналась я с горечью, – Сначала Аркадий, потом Петренко... Ладно Аркадий! Он был молодым ученым, подающим большие надежды, изобретателем. И я знала, ради чего терплю его занудство и свою скуку. Ради его лучей! В этом был хоть какой-то смысл. И я продержалась целых три года. А Петренко... он просто завел бабу, – я печально вздохнула, – Знаешь, Макс, мне тут сказали, что женская мудрость состоит в том, чтобы терпеть, молчать и улыбаться, когда хочется плакать. Я спрашиваю: какой смысл в такой мудрости, зачем она?
Чтобы, мучаясь, страдая, удерживать банального бабника? А зачем? Лучи – это я понимаю, это нужно для человечества, чтобы воевать и врачевать. А зачем тратить себя на бабника – нет, не понимаю. Чтобы сохранить семью? Какую?
Неужели ту, из которой муж сбегает при первой возможности? Кому нужна такая семья? Или чтобы перед смертью было кому воды подать? Так, знаешь, как в том анекдоте – самое страшное, что пить не хочется... К тому же, по статистике, женщины живут дольше мужчин. Представляешь, терпишь ты изверга ради стакана воды, а он и тут обдуривает – помирает раньше тебя. И стакан воды подаешь ему ты. Опять ты и снова ты. Каково, а?.. Нет, Макс, такая мудрость не про меня. Я не извращенка какая-нибудь и не мазохистка. Так что пусть мудреют другие, если им так хочется, а я побуду глупой, бестолковой, безмозглой, легкомысленной идиоткой, – я закончила длинную тираду, которая, признаться, меня саму изрядно утомила, и примолкла.
– Ты не идиотка, – ласково произнес Макс и погладил меня по голове, -
Идиот твой... ну извини... не твой Петренко. Пошли его к едрене фене и забудь. Он не стоит тебя. Ты же у нас умная, красивая, добрая и ласковая, ты самая замечательная кузиночка на свете! Просто тебе пока не повезло.
– Пока!.. Мне за тридцать, Макс, за тридцать!
– И что? Жизнь прошла – завяли помидоры?
– ...Да нет, – засмеялась я, – Пока не завяли.
– Вот видишь! Все уладиться, – он обнял меня за плечи, – У всех нас все уладится.
Я ему поверила. Легко поверить в то, во что хочется верить.
– Макс, что ты думаешь делать дальше? – сменила я тему.
– Я думаю купить гараж.
– Что? – удивилась я такому повороту.
В дядином хозяйстве один гараж имелся. И не какая-нибудь там ракушка или мыльница, а настоящий – кирпичный, утепленный, с погребом. А в гараже простаивал новенький "пежо" . Правда, дядя и на пушечный выстрел не подпускал племянника ни к гаражу, ни к его содержимому. И сам не подходил – боялся. В случае необходимости его безропотно возил на своей "девятке"
Фаба. А кузену волей-неволей приходилось довольствоваться стареньким мотоциклом.
Но то раньше, а теперь... Зачем ему второй гараж? Он что, решил их коллекционировать?
– Если мне перепадет что-нибудь от дядиного наследства, я куплю большой гараж с ямой, чтобы там можно было ремонтировать машины, и займусь автосервисом, – пояснил кузен, заметно оживляясь, – Один надежный человек обещал мне помочь.
– Т-ты... с-с-серьезно?
Нет, я дождусь, что бедовые родственнички доведут-таки меня до клинического заикания.
Ну, что прикажете делать – радоваться или трусить? С одной стороны, хорошо, что кузен начал принимать самостоятельные решения. Давно пора! С другой стороны, первый блин всегда комом. Может, Макс и подкован в автотеории, о чем свидетельствуют кипы журналов, – я посмотрела на них с тихой ненавистью, – но на практике – профан каких мало. У него нет ни деловой хватки, ни надежной крыши. Он безотказный, и этим будут пользоваться все кому не лень, а пользоваться никому не лень. Естественно!
Он наивный, скажи ему про крышу – не поверит, подумает, что пошутила.
Ексель-моксель! Он разорится в первый же день! И хорошо, если просто разорится, но может и по рыжему кумполу получить. Вот это и страшно, признаться, мне дорог его рыжий кумпол.
– Де-ти, де-ти! – раздался снизу воинственный клич красноокой валькирии, прервавший мои размышления, – Дети, Фабий Моисеевич приехал. Он хочет поговорить. Слышите? Ника! Мы ждем вас в гостиной!
– Доб'гый день, – прокартавил старик, когда мы с Максом вошли в комнату, – Ба, кого я имею честь лицез'геть! Ве'гоника Васильна, душа моя, наконец-то! Позвольте вашу `гучку, – он вышел из-за стола и галантно склонился к моей руке. Фаба был невысокого роста, полноват и лысоват, но карие глаза – все понимающие и все заранее прощающие, и манеры светского льва притягивали к нему женщин, как магнит притягивает неразумную металлическую стружку. В силу чего Фаба, органически не умеющий отказывать дамам, был женат четвертым браком и имел в общей сложности шестерых отпрысков, младшему из которых едва исполнилось четыре года, – Очень `гад, очень... Хоть и п'гиходится вст'гечаться п'ги печальных, я бы сказал, т'гагических обстоятельствах. Да, – он опустил гладко выбритый подбородок на грудь. Из кармана его пиджака, отутюженного до блеска, выглядывал черный шелковый платок – знак глубокого траура.
Мне захотелось поговорить с Фабием Моисеевичем с глазу на глаз: если кто и знает про завещание – так это он. И я решила дождаться удобного случая, чтобы прижать любвеобильного старика к теплой стеночке и ласково-ласково, осторожно-осторожно, чтобы невзначай не просыпать труху, вытрясти из него полезную информацию.
– Елизовета Ка'гловна, вы п'гекгасно выглядите. Этот цвет, голубушка, вам оп'геделенно к лицу. Оп'геделенно.
– Ах Фаба... Если бы ты знал, как мне трудно, – заговорила тетя, заламывая руки, на которых позвякивали тонкие золотые браслеты, – У молодых короткая память и стальные нервы, а я... а я... – у нее опять покраснели глаза. Тетя полезла за платком.
– Знаю, душечка, – он легко похлопал тетушку по руке, – Нам, ста'гикам, не хватает Ген'ги, его смелости, его п'гинципиальности и обаяния. Но ему бы не пон'гавилось, если бы он увидел нас `гыдающими. Не таков он был, наш Ген'ги. И нам надо де'гжаться изо всех сил. Да, – Фаба изъяснялся многословно и витиевато, захлебываясь рычащими звуками и гнусавя, но слушать его отчего-то было приятно.
Нюся подала чай. Взметнув шелковым крылом, тетушка взяла тонкую фарфоровую чашку, пододвинула к себе колоду карт и принялась сбоку раскладывать пасьянс. Грета застыла над своей пиалой каменным изваянием Будды. Макс ерзал на стуле, украдкой смотрел на часы и хмурился. Я потягивала кофе – густой, со слабым чесночным ароматом, какой умела варить только Нюся. Рассыпаясь в благодарностях, Фаба отказался от чая, но сдобную булочку с корицей, еще горячую, пышущую жаром духовки, сцапал и сунул прямо в карман пиджака. Ого, да он йог! Может, и на углях станцует?
– Я забежал буквально на пять минут. Буквально... У Машеньки опять темпе'гатуга, так что, сами понимаете, не до визитов. Но я хотел немедля сообщить вам следующее... Мой д'гуг Ген'ги был выдающимся человеком.
Выдающимся, – чем больше Фаба волновался, тем чаще повторял отдельные слова, – И, что немаловажно в наше тяжелое в'гемя, состоятельным человеком.
Я не сомневаюсь, что он оставил вам п'гиличный капиталец. П'гиличный.
Однако, – он обвел собравшихся всепрощающим взглядом, – Вче'га я был в
Москве и заходил в банк, где мы с Ген'ги а'гендовали сейф. Да-да, один на двоих – так мы дове'гяли д'гуг д'гугу и ни `газу – ни `газу! – не пожалели об этом... Но я, кажется, отвлекся, – он провел пятерней по седым волосам,
– Так вот, я п'гедполагал, что в сейфе, с'геди бумаг, лежит копия завещания
Ген'ги. Но, увы, я ошибся – ее там не оказалось, – Фаба развел руками.
– А был ли мальчик? – оторвалась Грета от созерцания чашки.
– Мне всегда казалось, что завещание – миф, – поддержала я кузину.
– Смею заве'гить вас, ба'гышни, что завещание было... В смысле есть.
Накануне своей кончины Ген'ги...
Словом, пове'гьте, он дал понять об этом самым недвусмысленным об'газом.
– Вот видите? Он дал вам понять. Именно так – не сообщил, а дал понять. Когда дядя не шутил, он говорил ясно и четко, без полунамеков и двусмысленных улыбок. Вы же знаете... знали... – заблудилась я во времени,
– ...его, и не мне вам объяснять... Если завещание есть, то почему никто толком об этом не знает? И если дядя говорил с вами серьезно, то вы должны хотя бы приблизительно знать, что в нем написано. Вы знаете? – насела я на старика. Н-да, хотела прижать наедине и ласково, а получилось, кажется, не очень.
Фабий Моисеевич растерянно пожал плечами:
– К сожалению, Ген'ги не сказал ничего конк'гетного. Он был ск'гытен и суеве'ген, когда `гечь шла о последней воле. Его можно понять, как я полагаю.
– Фаба, – тетя решительным жестом смешала разложенные перед ней карты,
– А нельзя ли обойтись без завещания? Мерзко говорить о деньгах... сейчас, когда...
– Отчего нельзя? Можно. Если Ве'гоника Васильна п'гава и завещания нет, а она не п'гава – это я вам га'ганти'гую, то имущество Ген'ги будет `газделено между всеми его ближайшими `годственниками. Таков закон.
Тетя и Макс облегченно вздохнули, и кузен опять посмотрел на часы.
Грета продолжала неотрывно изучать правую запонку Фабы. По ее застывшему лицу невозможно было понять, интересует ли ее что-нибудь еще.
– Но нам важно соблюсти не закон, а волю покойного, не п'гавда ли? К тому же я надеюсь, что вместе с завещанием Ген'ги подписал бумагу, в кото'гой огово'гил некото'гые моменты, касающиеся его лите'гату'гного наследия. Для меня это че'гтовски важно. Мне необходимо знать, кому и в какой с'гок я должен пе'гедать дела. Вы меня понимаете?
Мы дружно молчали, не поднимая голов. Фаба переводил беспомощный взгляд с одного родственника на другого, тщетно пытаясь найти хоть в ком-нибудь из нас понимание и поддержку. Пауза неприлично затянулась.
– Уговорили, – решила вступить я, чтобы спасти положение, – Мы поищем завещание, да? – все, кроме тетушки, синхронно закивали головами, – Дом большой, может, и найдем, хотя после обыска, который учинил дотошный
Павлик, надежды, честно говоря, никакой. Если бы завещание было, он бы его нашел. Но так и быть: мы поищем, – заверила я Фабу.
На том и порешили.
– Вы поищите здесь, а я схожу к нота'гиусу, – сказал Фаба, – Позвольте откланяться. Удачи и целую `гучки.
– Ну?.. Что вы об этом думаете? – спросил Макс, когда Фаба просочился за дверь. Грета равнодушно пожала плечами. Тетя Лиза молча налила себе вторую чашку чая, положила сахар и принялась старательно – слишком старательно – размешивать его, позвякивая фамильной серебряной ложечкой.







