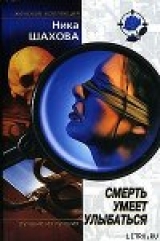
Текст книги "Смерть умеет улыбаться"
Автор книги: Ника Шахова
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
– Да ляпать-то пока не о чем, – сказала подруга, удовлетворенно поглаживая плоский живот, – Я сама недавно узнала.
Мне показалось, что жизнь сдвинулась с мертвой точки. Теперь, я уверена, все у всех будет в порядке.
***
Отпуск подходил к концу, и я засобиралась домой, в Москву.
В Москву! В Москву!
Накануне моего отъезда забежала Натка, чтобы попрощаться. Увидев праздно тусующегося во дворе Андрея, она спросила:
– Оу, так у тебя новый роман? Поздравляю...
– Да нет. Ты же видишь...
– Вижу, – улыбнулась подруга, – Красавчик. Если хочешь знать мое мнение – одобряю.
– Вот именно – красавчик, – недовольно буркнула я, – С такими забот невпроворот: то пылинки с них сдуй, то протри влажной фланелевой тряпочкой, то натри благовониями, то следи, чтобы не увели из-под самого носа. А я категорически не умею этого делать. От меня и обычные мужики сбегают... – прав Павлик, чего скрывать, прав! – не то что красавцы...
– Не преувеличивай, подружка. Не настолько он и хорош. Мой Николаша, к примеру, – лучше, но спокойно обходится без благовоний и тряпочки. Не сомневайся, я еще погуляю на твоей свадьбе, так погуляю... – она мечтательно прикрыла глаза, – Не забудь купить безалкогольное шампанское – я пью полусладкое – и соленые огурцы. И не тяни резину, дорогая, а то – знаю я тебя – дождешься, что я рожу прямо на твоей свадьбе, между вторым и третьим тостом.
В комнату вошел Макс. Заметив, что мы смотрим в окно, глянул тоже.
– Он что, поселился у нас? – осведомился кузен.
– А тебе что? – спросила я его, – Его уматерила наша Нюся.
– Слушай, сестренка, не пудри мне мозги. Выкладывай, это у вас серьезно?
– Макс, ты – олух царя небесного. Может, это и серьезно, да только не у нас.
Натка с Максом лукаво переглянусь. Ну их. Пойду попрощаюсь с садом.
Не успела я выйти, как напоролась на Нюсю.
– Ника, – окликнула она.
– Да?
Я вспомнила, что она давно хотела поговорить со мной, но все как-то недосуг было – то одно, то другое, то третье.
– Да, Нюсечка, я слушаю тебя.
– Я хотела сказать, что ухожу, – она не юлила, не уворачивалась и не отводила глаза, как у нее это принято.
– Не поняла, – растерялась я.
Я на самом деле не поняла.
– Мне надо уехать.
– Куда, Нюся, зачем, почему? – недоумевала я.
– Я списалась с Богоявленским монастырем, – заявила старушка, – И они готовы принять меня. Вот закончится следствие – и в путь, к ногам господа нашего. Прости меня, девочка, – добавила она тихо, смахивая набежавшую слезу накрахмаленным передником, – Если что не так. Поверь, вы мне как родные, я буду молиться за вас.
Силы небесные. Я потрясенно молчала. Да как же это? Ничего не понимаю и не могу представить наше гнездо без нашей Нюси.
– Нюся...
– Так надо, поверь мне, девочка. Так надо.
Я по инерции вышла в сад, потому что до разговора с Нюсей направлялась именно туда. Посидела под грушей. Нет, так нельзя, она не может бросить нас, особенно сейчас, когда нет дяди. Заставлю ее объясниться и уговорю остаться. Соглашусь на любые условия, лишь бы мама Нюся осталась. Приняв такое решение, я немного успокоилась. Сходила к разрушенной беседке, где мы с Наткой прятались от злопамятного вождя краснокожих. Рядом с беседкой росло старое-престарое дерево. Я вспомнила, что в его дупле мы с Наткой хранили нехитрые детские сокровища – цветные стеклышки, фантики, блестящие пуговицы и прочую муру.
Тогда мы поклялись друг другу, что ни один человек не узнает о хранилище наших несметных сокровищ. Если уж я не проболталась, то Натка и подавно. Интересно, осталось ли там что-нибудь. Не помню. А вдруг там лежит, дожидаясь меня, какой-нибудь привет из детства. Я сунула руку в дупло и замерла.
Разрази меня гром.
Не даром сердце чувствовало, что история с чашкой сомнительна.
Вернувшись в дом, я опять столкнулась с Максом. Братец поджидал меня, ерзая от нетерпения. Не иначе задумал какую-нибудь пакость. С него станется.
– Ты неподражаема, сестренка, – сказал он, кривляясь, – Весь дом кишит твоими женихами, а ты где-то шляешься, – кузен подмигнул Бэну и громко запел, – Сердце краса-авиц склон-но к изме-ене и к переме-ене трам-па-па-пай-рам...
Из кухни выглянула Нюся и пристыдила:
– Умолкни, бесстыжий.
– Ага, – Макс расставил ноги и картинно задрал подбородок, – Как я -
так бесстыжий, как она – он величественно поднял руку с вытянутым в мою сторону указательным пальцем, – Так святая. Меня – меня! – здесь не понимают. Ну что ж, пойду искать по свету, где оскорбленному есть Максу уголок. Карету мне, господа хорошие, карету!
Дверь за ним захлопнулась.
– Паяц, – прокомментировала я.
Дверь приоткрылась и в щелку просунулась пегая борода.
– Да, я шут, – патетически пропела она, – Я циркач, так что-о же?
Дверь захлопнулась.
Тянуть не имело смысла.
– Нюся... – я пошла на кухню.
Восхождение на персональную Голгофу было мучительным. Все из-за
Павлика. Я предупреждала, что он – нелюбимый кузен. С тех пор в этом смысле ничто не изменилось.
Ах, как я была права, когда думала, что Павлик – особый случай.
Совершенно особый.
Дело в том, что то дупло нашли не мы с Наткой. Мне его показала мама
Нюся.
– ...это сделала... ты?
Она не стала отпираться.
Яд Нюся держала для себя. Сначала думала отравиться с горя, когда муж-пропоица выгнал ее из дома без гроша в кармане. Оказавшись в одночасье на улице, Нюся была вынуждена скитаться по вокзалам, подвалам и отстойникам, зарабатывая на хлеб черной поденной работой. Рано оставшись круглой сиротой, работы она не боялась, но ты пойди найди эту работу, если тебе негде жить: негде выспаться, негде помыться и привести себя в порядок!
Бутылка кефира и батон – максимум, что она могла позволить себе, да и то далеко не каждый день. Жила одной надеждой, ею питалась и ею же укрывалась, прикорнув где-нибудь под открытым небом. Если удавалось подзаработать, то деньги она не тратила, а зашивала в блузку. Так прошло лето, и наступила осень. Небо заволокли тучи, и в белесом тумане, набухшем дождем, растворились и солнце, и надежды на чудо, на подарок небес. Скопив немного деньжат (жалкие крохи, которых не хватило бы даже на самое захудалое пальтецо), там же, на вокзале, она купила у какого-то барыги герметичный флакон с отравой, но медлила, зная, что задумала неискупимый грех. Она загадала, что умрет, когда выпадет первый снег и укроет ее белым и чистым саваном. А пока отчаянно мерзла в блузке и старой засаленной кофте, которую ей подарила какая-то сердобольная бродяжка, такая же несчастная, как она сама. И тут свершилось чудо, а на следующий день на город обрушилась стена снега.
Чудо явилось в образе Генриха Привалова, который пожалел незнакомую женщину и поверил ей: дал кров, обул, одел, накормил, вылечил от педикулеза и хронического кашля, исправно перечислял деньги на сберкнижку за необременительную, даже приятную работу по дому – о, дому! Наконец, и у нее появился дом, – и относился с большим почтением, что поначалу очень ее смущало. "Домоуправительница", – уважительно называл он Нюсю и от сестер требовал того же. А потом один за другим появились мы – я, Павлик, Макс и
Грета, и ее жизнь, разбитая вдребезги некогда любимым человеком, приобрела новый смысл. Она стала счастливой. Вот так однажды проснулась, услышала плач в детской, который издавали три луженые глотки (ну хорошо, четыре), и поняла, что безмерно счастлива. Но флакон с отравой она не выбросила.
Носила его на груди, как напоминание, с одной стороны, о божьей милости, которая неотступно сопровождает человека, и, с другой стороны, о собственном грехе, потому что отчаяние – безусловный грех, накрывающий душу черным крылом. Человек, впавший в отчаяние, забывает о боге или не доверяет ему.
В последнее время дядя, которому Нюся была обязана сначала жизнью, а потом счастьем и перед которым благоговела, часто жаловался на Павлика.
Говорил, что не единожды ловил племянника на откровенной лжи. Говорил, что тот тянет из него деньги, нервы и здоровье. А однажды Нюся застала Павлика, когда тот рылся в дядином столе. Неприкосновенном столе! Это все равно что переворачивать камни на Олимпе. Застигнутый с поличным, Павлик нагло ухмыльнулся и сунул Нюсе деньги за молчание. Деньги, которые только что выклянчил у дяди! Нюся, конечно, деньги не взяла, но промолчала, боясь навредить не Павлику, а дяде. В другой раз услышала обрывок телефонного разговора, в котором кузен насмешничал и крыл дядю сплошь непарламентскими выражениями, а потом как ни в чем ни бывало лебезил и заискивал перед состоятельным родственником в ожидании очередной подачки. Слышала она и разговор, который проходил на повышенных тонах и в котором Павлик вымогал у дяди наследство, со злорадным удовольствием втаптывая в грязь остальных
Приваловых.
Она была удручена, так скажем. А когда любимый хозяин умер, то совсем ошалела от горя. Но последней каплей, добившей ее, стала отвратительная сцена, которую кузен устроил после дядиных похорон.
В исступлении она решила, что просто обязана избавить от зловредного Павлика остальных Приваловых, коль не сумела защитить горячо обожаемого хозяина. "Кто скажет, помер и все, – не верь... не верь... не верь..."
Кажется, я поняла, что она имела в виду. В скоропостижной смерти дяди Нюся обвинила Павлика. Надеюсь, в философическом смысле – что Павлик довел и все такое, но не больше того.
Лично я всегда подозревала, что Павлик способен довести до ручки любого святого. При условии, что ему попадется святой. Не знаю, как насчет святых, а Нюся ему попалась. Они оба друг друга нашли.
Вспоминается, что на мой прямой вопрос "кто", который я задавала всем домочадцам подряд, Нюся ответила весьма уклончиво – "спаси и помилуй".
Тогда я засчитала ее ответ как "нет", но можно было, нет, нужно было понять как покаянное "да". Однако я спросила ее для порядка, чтобы другим не обидно было, и не прислушалась к ответу. Прикидывая так и эдак, я совсем не думала о Нюсе, я вообще не принимала ее в расчет, поскольку смерть Павлика очевидно не была ей выгодна (а я, как упертая дура, считала что деньги – главный мотив любого преступления) и поскольку наша Нюся – оазис. Далее – по тексту. Не хочу цитировать Андрея, не дорос пока, но по сути он прав: Нюся была настоящим оазисом.
Я поняла. Нюся была предана дяде до беспредела, она любила его всем сердцем и рикошетом от него любила всех нас. Мы были для нее продолжением дяди. Но у всякой большой любви есть изнанка, и иногда изнанка становится больше и сильнее самой огромной и всесильной любви.
– Вот ты и знаешь, – сказала Нюся, переставляя дрожащими руками, покрытыми пигментными пятнами, вазочку с вареньем, – Я сразу хотела, да не решилась. Страшно признаться – такой грех на душу взяла. А потом вроде бы не до того стало. Но ты не думай, я бы не дала, чтобы из-за меня пострадал невиновный, и чашку аккурат на такой случай оставила. Теперь ты понимаешь, почему мне нельзя тут оставаться. Я должна уехать.
Нюся... Я ничего не успела. Давно хотела отблагодарить за то, что она была для меня больше, чем просто Нюсей, за тепло, за сердечность, за заботу, которую я всегда чувствовала даже на расстоянии в сотни километров.
Хотела, но думала – успеется. Не успелось...
Прижаться бы сейчас к теплому брюшку Сем Семыча и послушать его хриплую песенку. Но он бродит неизвестно где. И некому меня, бедную, утешить.
Зря я бранила Семыча. Он лежал на кровати и, заметив меня, призывно заурчал. Я прилегла, не раздеваясь, и свернулась калачиком вокруг кота.
Ексель!.. Я подскочила как ошпаренная. Былинский!.. Хочешь верь – хочешь нет, но первая часть предсказания сбылась. Я действительно поняла и больше никогда не буду тянуть, а буду отоваривать благодарностью сразу, не дожидаясь удобного случая, поскольку таковой может просто не наступить. Что ж, один-ноль в пользу Былинского. Однако интересно, банальное совпадение или?.. Никаких или. Или придется признать, что в скором времени я покушусь – страшно сказать! – на закон. И тогда закон может в ответ покуситься на меня.
Сорок минут тишины и полного покоя сделали свое дело. Отринув все второстепенное и сиюминутное, я приняла нелегкое решение. До сих пор не знаю, правильно ли я поступила. Будем считать, что на меня, как на Нюсю, тоже нашел черный морок. Неловко признаваться в совершенном преступлении, но надо. Значит так: я скрыла от следствия важную улику. Более того, на следующий день я увезла ее с собой в Москву, подальше от Хмурого. Пусть думает на Ванду с Гоутом. И другие тоже пусть думают, от врагов не убудет.
Как их ни наказывай – все покажется мало. А Нюся...
Нюся... Нюся старая, я не допущу, чтобы она умерла в тюремной камере.
Мало, что ли, горя у нее было?.. Да, это самое меньшее, что я могу сделать для нее.
Два-ноль. У-у, Былинский!
Я знаю, Нюся сама себе страшный суд. Она сама себя осудила, сама вынесла приговор и безропотно понесет рукоположенное собой наказание. Без амнистии и досрочного освобождения за примерное поведение. Так что преступление не окажется безнаказанным. А это главное. Разве не так?
Поворочавшись с боку на бок, я поняла, что не засну. Набросила махровый халат, сунула ноги в сланцы и вышла на крыльцо. Вид глубокого звездного неба подействовал на меня успокаивающе. Я прислонилась к перилам и замерла, вглядываясь в непостижимое пространство.
Как странно все переплелось. Не будь Павлик Павликом, Нюся бы его не тронула. Не тронь Нюся кузена, я бы не вскинулась. Не вскинься я, Пан с Вандой и Гоутом могли... Страшно подумать, что они могли.
Это что же такое получается – спасибо Павлику?..
От старой груши, расколотой надвое молнией, отделилась тень.
– Ни?
– Ты?..
– Не спится? – спросил Андрей шепотом. Ночью люди обычно перешептываются, чтобы их не подслушали звезды. Кому охота стоть объектом межпланетных сплетен. Андрей притянул меня за плечи и признался, – Мне тоже. Поговорим?
Его дыхание касалось моей щеки. Жжется, однако.
Мы молчали, вслушиваясь в монотонный стрекот цикад. Я судорожно вздохнула и отмахнулась от назойливого комара. Андрей перехватил мою руку и легко пожал ее. Потом на месте старого кострища мы развели костер, чтобы согреться и разогнать полчища оголодавших кровососов. Андрей проворно нырнул в кусты и выкатил оттуда деревянную колоду – для меня, а сам устроился прямо на земле. Языки пламени жадно облизывали звездное небо.
Мне понравилось, что он ничего не обещал. А что?.. Может, стоит рискнуть еще разок – всего один?
Костер догорел. Андрей залил угли водой из бочки, и мы распрощались, молча пожав друг другу руки.
***
Вернувшись в Москву, первым делом я заглянула в почтовый ящик и выудила оттуда кипу пестрых рекламных проспектов. Вторым делом я позвонила Ляльке. Разговаривая с подругой, скинула обувь, переместила себя в любимую пижаму, разобрала принесенную кипу, обнаружив в сердцевине два письма, и вскрыла ножом конверты. Так, что тут у нас? Первое было от родителей, которые сообщали, что через неделю будут проездом в Москве по пути из Токио в Озерск. Понятно. Второе было... Я выронила телефонную трубку.
– Алло, алло! Ты где? Что случилось? – надрывалась с пола трубка, – Я спрашиваю, что случилось?
"Дорогая Ни, – писал дядя, – Я долго думал и наконец решился довериться почте, потому что здесь, у нас, творится невообразимое. Объясню при встрече. Высылаю тебе свое волеизъявление, береги его (не ешь на нем пончики, дорогая, оно еще пригодится, надеюсь, однако, что не скоро) и спрячь понадежней. Понадежней, поняла? Жду тебя в гости недельки на две, а то и на три. Сходим по грибы, заодно помиримся. Как считаешь? Ну все, привет. Твой любящий дядя."
Подняв телефонную трубку, я грохнула ее на рычаг. Дрожащей рукой отложила в сторону первый лист и начала читать второй, проигнорировав поднявшуюся телефонную истерику.
"Я, Привалов Генрих Карлович, находясь в здравой памяти..."
Это не было завещание в традиционном смысле слова. Это был его наказ персонально для меня. В принципе, я не ошиблась в своих рассуждениях о том, какое завещание мог бы написать мой дядюшка, дай ему полную волю. Хоть в этом я не ошиблась. А то в связи с озерской историей совсем начала было сомневаться в своих выдающихся умственных способностях. Ан нет, все, кажется, при мне.
Сначала дядя привел полный перечень наследственного имущества с пометками где что находится и почем куплено. Ниже он указал кому что причитается и действительно огородил каждый пункт забором невыполнимых условий. Грете предписывалось выйти замуж за любого совершеннолетнего мужчину, с которым она познакомиться до оглашения завещания, Максу – заняться делом, тете – "покончить с духами и прочими паровыделяющими объектами" (интересно все же: можно ли считать Былинского паровыделяющим объектом?), Павлику – не опротестовывать завещание, поскольку бесполезно – каждая закорючка в нем проверена и одобрена юристом, тете Поле – переписать свою часть озерского дома на Макса, а мамуле – вернуться и осесть на родине. Только два наследника – Нюся и Фаба – получали свое без всяких на то условий.
Для меня дядя придумал целых три условия (хорошо, что не сто тридцать три).
Во-первых, я должна опекать родственников и следить "подозрительным оком" за неукоснительным соблюдением вышеперечисленных условий. В случае невыполнения дядиной воли, доля ренегата переходила в доверительное управлениие на благо семьи. Управлять поручалось мне. Во-вторых, права на дядино литературное наследие и "связанные с ними обязанности" должны были тоже перейти ко мне. Нет чтобы права передать мне, а обязанности – кому-нибудь другому. Против такого варианта я бы возражать не стала, но меня никто, как всегда, не спросил. Дальше – вырученные от посмертных изданий деньги я должна буду распределять между родственниками, "опираясь на жизненные обстоятельства и советы моего преданного друга, помощника и просто мудрого человека". Ага, это он о Фабе. И в-последних, чтобы получить конкретно Дали в свое безраздельное пользование, я должна написать книгу о любви, "какую я сам никогда бы не написал".
Ну дядя, ну удружил!
Я не могла опомниться. Долгое время сидела, тупо глядя в стену. Обои поблекли, надо бы сделать ремонт... – без конца вертелось в голове. Потом я заварила зеленый чай и продолжила чтение.
"Это моя последняя воля. Зная твою принципиальность, я совершенно уверен, что ты выполнишь ее, поэтому в завещании, заверенном нотариусом, будет фигурировать только твое имя", – писал дядюшка Генрих.
Так вот, что он имел в виду, когда сказал, что все оставит мне, но и о других родственниках не забудет.
Длинное письмо заканчивалось такими словами: "Выгляни из кухни в окно и очень тебя прошу – будь счастлива". Я сорвалась с места и помчалась к окну. Двор как двор – пустующие детские качели, лужи после дождя, торец двухэтажного здания с грязными стеклами и вывеска со стрелкой, показывающая, куда поворачивать. На ней большими буквами было написано – "нотариальная контора".
Прости, дядя Генрих, как я простила те...
Ну Былинский! Ну свинтус! Четыре-ноль в твою пользу.
***
– Все было совсем не так, – сказал Андрей, перевернув последнюю страницу. Он оккупировал мой девичий диванчик и под шумок приватизировал единственную подушку. Сем Семыч, свернувшись уютным клубком, лежал у него под боком и сладко причмокивал во сне, это он мамку вспомнил.
А этот – узурпатор чистой воды, как я и предполагала.
– Нет так! – возмутилась я.
– Нет не так.
– Так!
– Нет.
– Ну хорошо, а что по-твоему не так? – смирилась я.
– Например, – улыбнулся Андрей, – Я не такой красавец, каким ты меня расписала. Просто ты сразу влюбилась, признайся, Ни, что влюбилась!
Во блин. С его повышенной доставучестью надо что-то делать. И с моей покладистостью тоже, причем незамедлительно.
– Ну если только это... то я, пожалуй, готова подумать... и пересмотреть некоторые эпизоды... убрав из них героя второго плана, который ни на что не влияет, а только запутывает сюжет.
– Я тебе исключу! И что значит герой второго плана? Имей в виду, дорогая, что ты попалась. Со вчерашнего дня я для тебя просто герой, без всяких там посторонних планов. Можешь не слушать меня, но тогда как быть с Генрихом Карловичем? – лукаво улыбнулся супостат.
– Как это?
– А так это. Твой дядя часто рассказывал о тебе: Ни у нас такая да Ни эдакая, это Ни любит, а этого не переносит. Сватал нас – я так понял.
Сначала, признаюсь, посмеивался, не принимал всерьез, но там, в саду, когда ты заявила про шабаш, вдруг понял, что Генрих Карлович угадал. Или просчитал, кто его знает. Мы подходим друг другу, как иголки дикобразу. Ты хоть представляешь, как выглядит дикобраз без иголок?
Жалкое, я скажу, зрелище. Так и мы с тобой. Так что готовься, дорогая,
мы будем вместе, какие бы отговорки ты ни придумывала снова и снова. Ход моих мыслей понятен?.. Перехожу к главному: план у нас с тобой такой...
Ух эти мужчины! Глаза б мои не видели.
– ...Устроим тетю Лизу в драмкружок, женим Макса, пристроим Грету, нарожаем детишек и заживем тихо-тихо, по-семейному.
– Во-первых, солнце мое нещадное, учти: как показала практика, в неволе я не размножаюсь. А во-вторых, Грета уже пристроена Кшысем, разве ты не понял?
И куда смотрят эти мужчины? Они вообще куда-нибудь смотрят?
Гретка с Кшысем – прекрасная пара. Правда, моя сестрица выше своего жениха на полных две головы (это без каблуков), но смотрит на него снизу вверх, а он – в обратном направлении. Гармония в чистом виде. И я счастлива, что могу быть спокойной хотя бы за Гретку.
Я счастлива, но... я несчастна. Судьба – злодейка.
Все бы, кажется, отдала, чтобы не видеть эти карие глаза с прожорливыми солнечными крапинами.
Они проглотят меня. Они уже проглотили с потрохами. Честно скажу: пятки так и чешутся сбежать подальше.
Но за время вынужденного простоя у меня накопилось много разнообразных теорий насчет мужского рода-племени. Довольно теоретизировать, пора вернуться к практике и проверить их все – одна за одной...
– Ты слушаешь или я снова разговариваю сам с собой?
– А? Что? – очнулась я от своих раздумий.
– Хотел спросить, что за авгур такой?
– Это древнеримский жрец, а ты что подумал?.. Эти самые авгуры толковали волю богов, судьбы и предназначения по всякой хиромантии типа полета птиц. Говорят, что эти ребята сколачивали огромные состояния на доверчивости и невежестве соплеменников.
– А почему улыбка?
– Говорят, что когда они обменивались взглядами, то не могли сдержать ехидной улыбки.
– Да кто говорит-то? Вроде бы все они умерли.
– Знающие люди говорят. И вообще, дорогой, чего ты ко мне привязался?
– Любимая...
Это я? Неужто?
– Да, ненаглядный?
– Ты должна обещать...
У меня екнуло сердце: во-первых, не люблю быть должной, а во-вторых, не люблю обещать.
Наобещаешь бездумно с три короба, а потом выполнять приходится...
– ...Что больше никогда не сунешься ни в одну подозрительную историю.
Ах это! Да пожалуйста! Да на здоровье! Сама, мон плезир, не хочу.
– Никогда больше, – с легкостью пообещала я, не успев поймать себя за язык. Считай, что сглазила.







