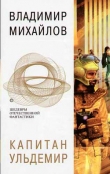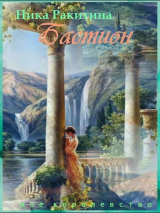
Текст книги "Мое королевство. Бастион (СИ)"
Автор книги: Ника Ракитина
Жанр:
Детективная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Проводник постучал и сунул голову в двери:
– Сударь, чаю изволите?
– Два стакана, спасибо.
Даль присел на диван к Алисе и взял ее за руку:
– Вы все молчите и молчите. Вас Зина смутила?
Государыня слегка повернула голову:
– Почему они ставят сирень в чайник?
– Это моя… мое клеймо сотворенного, – он криво ухмыльнулся. – Простите, мона. Я готов распахнуть все шкафы и выпустить оттуда скелеты, но только не те, что причинят вам боль.
– Это страшная история?
– Скорее, глупая. Но в ней участвовал магистр Халецкий. И ваш покорный слуга – дурак дураком. Но это первая осознанная сцена, которую я помню.
– Расскажите.
Мир в теплом круге настольной лампы был безопасен и прост. Часть стола, раскрытая тетрадь, ручка, небрежно брошенная на недописанную страницу. Сан выцедил последние капли из проклятой антикварной чаеварки. Так станешь пьяницей. Рука дрогнула, и рубаху окропило вишневое. Банально до оскомины. А юноша уже сидел в вычурном кресле с атласной обивкой, подтянув к подбородку худые колени, ноги у него были чересчур длинные, едва поместился. Темно-русые волосы падали на лоб. Сидел, ласково теребя кортик в бархатистых ножнах. А рядом, на краю стола, стоял чайник – обыкновенный белый чайник, даже без цветочков: широкий носик, откинутая ручка. А из чайника лезла сумасшедшими гроздьями, пенилась сирень. Откуда? Выпускной бал, конец июня. Юноша усмехнулся серыми глазами:
– Ты забыл. Майнотская сирень цветет всегда. Кроме зимы, конечно, – уточнил он.
– Нет такого города – Майнот.
– Есть. Ты забыл.
Халецкий задохнулся то ли от боли в голове, то ли от немыслимой надежды. Игла прошла через сердце, вниз, заставив похолодеть пальцы.
– Послушай.
Губы пересохли и не повиновались. Сан покачал в руке чашку – она была пустой. Тогда он выволок из чайника сирень и стал пить из носика.
– Ты что! – возмутился собеседник. – Я обещал ее Лидуше!
Почему Сану кажется, что перед ним мальчишка? Года на два младше, не больше. Молодой – он сам.
– Послушай. Я... предлагаю тебе сделку.
Юноша в кресле сощурился удивленно и недоверчиво:
– Разве ты дьявол?
– Может быть, это неправильно, – продолжал Сан, стараясь не останавливаться, – может, ты проклянешь меня за это, но в той войне, что начнется завтра... выживешь ты...
– Ты что! – двойник покрутил пальцем у виска.
– Не погибнешь... на болоте... Станешь взрослым, писателем.
Юноша крутанул кортик:
– Я стану морским офицером. Как прадед.
– И потом, потом ты найдешь одну женщину. Я не могу, а ты... у тебя получится. Правда, там другой мир, средневековье. Но ведь писателю можно. Защити ее! Даже от меня, если понадобится, – сказал он, словно бросаясь в омут. – Ладно?
– Ну... – парень выкарабкался из кресла. – Как я ее узнаю?
– Даль, ты ее узнаешь. Узнаешь. Обязательно. Ее зовут Алиса. А, вот. Ты пройдешь по мосту. Я напишу, напишу про Мост, связующий берега и времена. Там будет маяк, такой, как здесь, только ближе к Эрлирангорду. Ну, тот, на который Алису привозил Хранитель. Чтобы подарить кораблик. Даль, Крапивин, ну пожалуйста... Будь счастливей меня.
– Какое смешное имя... – парень стоял, перекатываясь с пятки на носок, словно очень спешил и в то же время не мог уйти. Сгреб свою сирень, засунул в чайник. – Это я? Прости, я обещал, ребята ждут.
Будет лес. Осенние листья. Атака, в которой, кроме Даля, не выживет никто. Смешной, он похож на кузнечика.
Халецкий очнулся. Было темно. От окна тянуло предутренним холодом. Он наощупь зажег лампу и увидел, что свечной воск закапал недописанную страницу.
– Я был щенком: дерзким, упрямым, бесконечно самонадеянным. Нахальным. Воспитанным на идеалах и верящим в светлое будущее.
– А сейчас вы в него верите?
– Только когда читаю опусы таких же романтичных наивных щенят, прежде чем навечно положить под сукно.
– Вам не кажется это несправедливым?
– Не кажется. Лучшие умы были собраны, чтобы справиться с бедой. Вопрос обсуждался не раз: и отдельно, и в Круге. Эксперты, ходящие под карабеллой, общественная элита – все высказались за. Если бы был другой способ… Но его нет. Это вопрос выживания мира. Без розового сиропа идеализма. Идти у создателей на поводу было бы слишком дорого. Малейшая ссора с девушкой – и горят дворцы, вокзалы и заводские корпуса. Как-то вот так. А если каждый еще и потянет в свою сторону, амбиций щенкам не занимать, то настанет сплошной раздрай.
– Вы жестоки.
– Я? – Даль наигранно распахнул глаза. – Они нас придумывают и бросают – в бой, в несчастную любовь, как в омут – потому что-то сами не могут что-то решить для себя. А нам выкручивайся, как знаешь. Вот почему он моих одноклассников положил, всех? И не надо пенять на абсолютный текст, который сам себя пишет. От Создателя тоже зависит многое.
Крапивин перевел дыхание.
– Впрочем, мне его беспринципности и жестокости не понять, я же не создатель. Но вот о чем я никогда не пожалею: о том, что он послал меня к тебе. Все, достаточно, пора тебе ложиться.
– Даль, вы нашли «иглу»?
Из неловкого положения – не отвечать же: «Нашел, но вам я ее не дам», – спас Крапивина проводник. Постучав, бочком внедрился в купе:
– Покорнейше извиняюсь, пришел опустить жалюзи согласно инструкции. Въезжаем на Чаячий мост, и дамы и барышни, бывает, пугаются…
– Пожалуйста. Я выйду покурить пока.
Даль сделал несколько затяжек, когда проводник, деликатно притворив двери, вышел из купе и остановился у него за спиной.
– Как можно было придумать такой: от берега моря до берега моря? Что там барышни! Каждый раз едешь и дрожишь: а вдруг упадет? В осенние шторма пена выше окон сигает!
– Не беспокойтесь, этот мост не упадет. Инженеры ошибаются, Создатели никогда. Этот Мост придумал мессир Халецкий, чтобы встретиться с государыней.
– И сплошные нелады от этого вышли. Ох, еще раз прошу прощения, милсдарь, я когда пугаюсь, много говорю, – проводник поднес два пальца к козырьку форменной фуражки и пошел дальше стучаться в занятые купе.
Даль курил и смотрел в бездну с редкими огнями за окном. Пролетали фермы бесконечного моста, поезд нервно погромыхивал. Сладковатый дым царапал горло и уходил в форточку, воздух, словно мокрая простыня, касался щеки.
Из пустоты за окном спланировало чаячье перо. Даль проводил его взглядом до ковровой дорожки под ногами.
Снова вспомнил, как нежно рука государыни коснулась стекла, укрывающего литографию. Словно гладила невидимую щеку. Комиссар безопасности и информации раньше не задумывался об этом, но вдруг дворцовые сплетники не так уж и не правы? И Александр Халецкий вздурил не из-за жестокости Круга к Создателям. И не из-за страстных амуров с Воронцовой. Не потому, что разлюбил… Алису. Феликс Сорэн, внук генерала Сорэна и внезапно мелкий управляющий мелкого поместья под Эрлирангордом… даже если и не мелкого – не суть. Хранитель, воплощение господа нашего Корабельщика, оберегающий Равновесие: чтобы под напором думающих в разные стороны Создателей реальность не рвалась, как гнилая ткань, при прорывах абсолютного текста; чтобы урожай был обилен и не горел в огне. Чтобы реки текли если и не молоком, то хотя бы не смолой. Чтобы созданные люди были равными рожденным и умирали не по чьей-то прихоти, а когда наступит положенный срок. И еще тысяча этих «чтобы», известных только Корабельщику. Хранитель может куда больше обычного человека; он не может одного – соединить хотя бы несколько фраз, осененных благостью Творца. И даже самый последний графоман в этом смысле счастливее.
И если в мире Сана Алиса погибла на заснеженном поле от случайно сорвавшегося арбалетного болта, то в сказке – выжила. Хранитель свернул ради нее с дороги, подобрал, вылечил, сделал знаменем мятежа против ее убийцы. Спас Создателей от ужасной участи загораться молниями над Твиртове. И погиб, когда мятеж был завершен.
Феликса забыли. Может, не как человека, но как Хранителя точно. Храм Кораблей не простил ему привязанности к одной единственной женщине. Его имя не поминали в святцах и по церковным праздникам. Его словно вычеркнули, будто никогда и не было. Ему не нашлось места в чужой овеществленной сказке.
Фермы моста проплывали мимо, поезд дрожал на стыках, стараясь скорей проскочить Чаячий мост, судорожно гремел сцепками, раскачивался, как пьяный.
Глава 6
Глава 6
В Эйле показалось еще холодней, чем в Эрлирангорде. Ветер с моря дул сырой, пронизывающий. Низкие серые тучи над городом то и дело срывались коротким дождем. Капли искрились в маслянистом фонарном свете.
При маскировке нехорошо сорить деньгами, но Даль, не торгуясь, взял носильщика и нанял экипаж, приказав ехать в пансион, указанный в телеграмме, подтверждающей бронь – лишь бы государыня поскорей оказалась в тепле.
Сжимая ее холодные руки, глядя на синие круги вокруг глаз, комиссар жалел, что вовсе поддался на авантюру. И не смотрел ни на липнущие к мостовой кленовые листья, ни на лавчонки в полуподвалах – с прямоугольными вывесками, ни на украшенные лепниной фасады, ни на теплые огоньки свечей и позолоту в распахнутых дверях многочисленных храмов. А экипаж плелся как назло, колеса расхлябанно скрипели, бурая лошадка, потемневшая от дождя, казалось, едва передвигала ноги. Да и хозяин то и дело придерживал ее, кланяясь каждой храмовой маковке.
Но вот старый город закончился, и потянулись плетни, кособокие хибары, глинистая жижа заплюхала из-под колес. Даль поймал себя на желании стянуть возницу с облучка и не раз и не два окунуть в эту грязь, чтобы не смел издеваться над интеллигентом. Но дорога неожиданно свернула в липовую аллею и уперлась в низкую железную ограду с фонарями по обе стороны от ворот.
Коляска въехала во двор и развернулась у пологого крыльца, ведущего в стеклянные до полу двери, тоже обрамленные фонарями, на этот раз кованными, чугунными, с горящими в масле фитилями.
– Добавить бы за скорость, милсдарь, – возница почесал под бородой и стал снимать с запяток и ставить на мокрое крыльцо вещи.
– Да куда ж ты ставишь, зараза? Портплед промочишь! – выскочила к нему громогласная толстушка с кудрями, лезущими из-под накрахмаленного чепца. – Сударь, сударыня, простите великодушно, нет местов.
Крапивин протянул ей подмокшую телеграмму.
– Ой, так это вы! Прошу! – она сделала книксен. – Зараза, заноси! А мы за вами нашу пролеточку посылали, а что ж вы на нее не сели? Верно, проглядели в толчее?
Продолжая щедро сыпать словами, хозяйка ввела их в низкую уютную залу с фикусами, диванами и ярящимся в зеве камина пламенем. И закрыла высокие двери, отсекая пронзительный ветер и дождь.
Даль поставил саквояж на низкий столик, усадил на диван государыню и подошел к стойке, за которой на доске висели ключи от нумеров.
Толстушка раскрыла амбарную книгу:
– Меня Даля звать. А вас как записать, сударь? И по какой причине прибыли? Мне не любопытно, но полиция приезжими интересуется.
А блеск глаз выдавал, что ей еще как любопытно.
– Супруга родом из Эйле, захотела посетить родные места, а я сопровождаю. Такой к именинам подарок. Но я потом вам, Даля, все обскажу, – комиссар погладил бородку, проверяя, не отклеилась ли от сырости. – А пока проводите нас. Ляля простужена и в поезде совсем не спала.
Толстушка закивала и выскочила из-за стойки:
– Да-да! В поездах этих вовсе спать невозможно! Сударь, пожалуйте! А Наташка, горничная, вам чуток погодя горячего чаю отнесет с медом и молоком. Ликера бутылочку и завтрак. А может, послать по дохтура?
– Погодим, может, обойдется, – он поцеловал Дале руку. Та зарделась и подоткнула локон под чепец.
– И вещи наверх подымут. Прошу.
Они поднялись на два пролета по крутой деревянной лестнице, укрытой ковром – Даль старался идти степенно и не перепутать, на какую ногу хромает, – и по короткому коридору до нужной двери. Хозяйка пансиона вошла первой и, подцепив крюком, раздвинула тяжелые портьеры. Оглядела, все ли в порядке и, наконец, оставила гостей одних.
Но не успел комиссар запереться и заглянуть под кровать и в гардеробы, как, громко постучав, вперся разбитной юноша с вещами. Сгрузил их на ковре посреди комнаты и убрался, напевая во весь голос, подкидывая в ладони горсть мелочи, полученной «на чай». За ним следом явилась обещанная Наташка. Постучав так же громко (точно постояльцы были глухими), толкнула двери крутым бедром, внесла огромный поднос с двумя чайниками, поставленными друг на друга, молочным кувшином, фарфоровыми баночками и судками под крышками. Даль заподозрил у горничной третью руку, иначе чем бы она стучала, не коленом же? И чем отбросила бархатную скатерть с круглого стола, обнажая льняную белую, чтобы поставить поднос?
Горничная пальцем подоткнула кудряшки под крахмальный чепчик – ну копия хозяйка, такая же полная и румяная. Уставила на Крапивина обиженные круглые глазищи:
– А что вы потеряли под кроватью, сударь? Нет там пыли, я за этим строго слежу.
Даль покряхтел и покашлял, наклонился к ушку Наташи:
– Ночную вазу ищу.
– О, в ней нет нужды, милсдарь, – Наташа улыбнулась, – у нас хоть освещение газовое, зато есть ванна и ватерклозет, пойдем, покажу, как ими пользоваться.
Комиссар беспомощно оглянулся на государыню, – увлекаемый сильной рукой Наташи в двери и по коридору. К счастью, и коридор был пуст, и идти всего ничего. И осмотр технических благ не отнял много времени. И Крапивин смог быстро вернуться, со всем возможным пиететом поцеловав девице ручку на прощание, щекотнув бородкой. Наташа захихикала.
– Сейчас вещи разберу.
– Нет-нет, – воспротивился Даль. – Мы сами управимся.
Сунул горничной в руку двойную «карабеллу» и за плечи решительно выставил девицу вон. Запер двери и устало привалился к ним спиной.
– Эва, гляди, че мне прохвессор дал! – пробился через тонкую филенку громкий Наташкин голос. – А руку как целовал деликатно! Точно ровне…
– Ну и не мой ее три дня, – грубо ответила явно умудренная жизнью Эва. – А «карабеллу» не трать: заметит, что ошибся, и назад затребует. А не затребует, так намерения не чистые. При больной-то жене… Борода, как у козла, и в штанах почесуха. А такую дуру, как ты, он в столицу не повезет.
– Ой, Эва, да что ты такое говоришь! – пискнула уязвленная в сердце горничная.
– Знаю, что говорю. И никакой он не прохвессор, у нас прохвессор бы селиться не стал. А если поселился – точно говорю: жмот. Попользуется тобой и выбросит. Пообещает жениться, когда станет вдовцом, а жена еще тридцать лет проживет. И выкопал же очкастую: сова совой. До-о, хватит зубы сушить, как бы Даля не заметила!
Голоса спорщиц отдалились, и комиссар шагнул в комнату. Развязал Алисе, сидящей на кровати, ленты капора и снял его. Расстегнул пелерину. Стянул ботиночки и стал растирать ладонями ступни в нитяных чулках.
– Давайте, вылезайте из пелерины окончательно, ее просушить надо. И все равно мы никуда в такой дождь не поедем. А будем завтракать и спать.
Алиса покорилась.
Даль подсунул низкий пуфик на гнутых золоченых ножках ей под ноги. Развесил верхнюю одежду на плечиках в прихожей, а обувь выставил за порог. Сполоснул руки в тазу для умывания. Разлил чай по чайным чашкам, разбавляя молоком. Намазал рогалики медом.
– Не хочется.
Крапивин вздохнул и полез за градусником.
Стеклянная уплощенная трубочка блестела холодно и маслянисто – как оголовье недоброй памяти «искоростеньской иглы», лежащей в футляре у Даля в нагрудном кармане, где сердце. Нежелание отдавать ее Алисе оказалось сильней мук совести. Он полночи простоял вчера в вагонном коридоре, куря одну папиросу за другой, и уже захлебываясь горькой слюной, вернулся в чернильно-черное купе. Дыхания Алисы не было слышно за стуком колес. Даль малодушно не стал ее окликать, а свалился на свой диван и уснул, не раздеваясь. Проводник поднял их за час до Эйле, и за суетой сборов об «игле» они не заговорили.
Даль помог государыне справиться с верхними пуговками на блузке. Отвернулся, щелкнул крышкой карманных часов и уложил их на столик. Глотнул чаю, обжегся и мужественно терпел, пока проходила боль в языке.
Получив градусник назад, долго разбирал риску, до которой достала подкрашенная ртуть.
– Вы плохо держали. Поставьте еще раз.
Придавил руку Алисы к телу, ощущая пальцами тепло кожи через тонкий, костяного цвета шифон рукава.
«Спасибо вам и сердцем и рукой
За то, что вы меня – не зная сами! —
Так любите…»
На секунду Даль поверил, что так и есть. Застонал и, опрокинув государыню на постель, улегся сверху. Правой рукой продолжая прижимать ее руку, чтобы градусник не выпал, левой раздвинул блузку и указательным пальцем провел по краю жесткого корсета, не смея коснуться груди.
Комиссара настиг образ женщины: большеглазой, с неправильными резкими чертами лица и темными, коротко остриженными волосами. Аноним обвинил ее в преступлениях против Метральезы: частью надуманных, частью реальных, особливо упирая на то, что «она – не дама». Марину привезли в столичный комиссариат для допроса, но вместо этого она три часа читала Далю свои стихи. Дрожащие тонкие пальцы, синеватый дымок от пахитоски, горка сломанных спичек в стеклянной пепельнице. И каждое слово – прорыв абсолютного текста.
«В лоб целовать – заботу стереть.
В лоб целую.
В глаза целовать – бессонницу снять.
В глаза целую...»
Комиссар сделал все, чтобы определить Марину на вольное поселение. Дважды в неделю поэтесса должна была отмечаться у цензора в местном комиссариате и ежедневно не позже заката возвращаться в монастырь, где ее обязали проживать. Почти курорт.
В комнате ощутимо потемнело. Брякнула форточка. Шрапнель дождя ударила в подоконник.
Крапивин целовал рот Алисы. Словно розу, ее нежнейшие лепестки. Не замечая, что губы запеклись.
Целовал шею под мочкой уха, щекоча бородкой, вбирая кожу губами и слегка прикусывая. Государыня не шевелилась, дивные глаза ее были полуприкрыты. Но когда ладонь Даля втиснулась под пояс юбки…
– Саша, не надо! – ковшом ледяной воды за шиворот.
Даля сбросило с кровати – на колени. Ведомый страхом и желанием, он предал государыню дважды за сегодня. Крапивин все бы сейчас отдал за то, чтобы просто сидеть возле Алисы, придерживая теплое плечо, и читать вслух стихи, которым место в самых дальних хранилищах спецхрана. И чтобы тонкий шифон блузки оказался прочнее крепостной стены.
Каждый день видеть в Крапивине Сана – пытка. Мог бы и догадаться.
Какое догадаться! Он знал. Но упорно отталкивал от себя понимание, загонял в дальние уголки подсознания, пренебрегал им – потому что не в силах был уйти.
– Я дурак, Алиса. Простите меня, если сможете.
«В губы целовать – водой напоить.
В губы целую.
В лоб целовать – память стереть.
В лоб целую.»
Если абсолютный текст что-то может во благо, пусть будет так!
Даль поцеловал Алису в складочку между бровями и бережно усадил. Намешал меду в остывший чай. И поднес вместе с порошками.
– Если не хотите есть – хотя бы выпейте. Нужно.
Самым честным сейчас было бы застрелиться. Но Крапивин не мог себе позволить оставить государыню одну, в чужом городе, с фальшивыми документами и неясными намерениями в голове. Потому проверил грим перед зеркалом, подобрал трость и отправился добывать экипаж.
Алиса встретила его полностью готовая к дороге, исключая обувь, которую комиссар как раз принес. Словно уродливой верхней одеждой пыталась отгородиться от новых посягательств. Даль покраснел и опустился на колени, чтобы помочь государыне обуться. Вывел ее к коляске.
Дождь закончился, ветер прекратился, и выглянувшее солнце делало погоду почти сносной. Крапивин даже расстегнул верхнюю пуговицу пальто.
Лошадки трусили по подсыхающей грязи, колеса натужно вертелись, а возчик болтал не переставая, не обращая внимания, слушают его или нет, и только на въезде в город изволил спросить:
– Вам куда?
– На Старое кладбище, – отозвалась государыня.
Даль, скрипнув зубами, кивнул.
На мостовой коляска разогналась, а под гору и вовсе летела. Крапивин ухватился за дверцу, прижав государыню к себе, но отпустил, едва остановились. Она благодарно кивнула и оперлась на его руку, выходя из экипажа.
Не успел Даль расплатиться, как их окружили продавцы цветов, свечей и лампадок и проводники по некрополю, наперебой предлагая услуги. Тем более, что и окружать было больше некого. Комиссару пришлось отгонять их взмахом трости и зверским выражением лица. У кладбищенских ворот галдящая публика отпала, только нищий пацан юркал следом, не оставляя надежды стибрить что-нибудь или просто напакостить. Швырнул куском мрамора, отколовшимся с надгробия и, насвистывая, исчез между могилами.
– Сволочь мелкая, – выругался Даль. – Как ты?
– Все хорошо. Спасибо, – Алиса беспомощно оглянулась.
Крапивин обрадовался, что она не молчит. Каждое из оброненных слов было ступенькой к прощению.
– Подними воротник. И куда мы?
Она молча повиновалась, близоруко вглядываясь в бесконечную аллею, осененную плакучими ивами. Даль подумал, что под кладбищем хорошая ливневка: песок на аллее был совершенно сухой.
– Не знаю. Туда, – государыня указала на лабиринт дорожек и надгробий. Комиссар передохнул. Он думал, что Алиса потребует отвезти ее на могилу Сана. Кенотаф, поправил он себя. Могильщики похоронили горсть пепла и не пойми чьих костей, а Сана там нет.
Но Алиса не попросила. А Старое кладбище потому и зовется старым, что здесь уже мало кого хоронят, разве что в родовых склепах или могилах родственников.
Чем глубже они заходили, тем сильнее Далю казалось, что кладбище сопротивляется вторжению. Раскисшая глина разъезжалась под ногами, зубец ограды порвал рукав пальто, а ежевичный стебель, за который он ухватился в тщетной попытке не упасть, пропорол толстую кожу перчатки и впился колючками в ладонь.
И вдруг все закончилось. Дикая роза обвивала каменное подножие, на котором стояла коленопреклоненная деревянная женщина с крыльями. Ягоды алели среди увядающей листвы. Часть листков усеяла аккуратно выстриженную траву вокруг памятника.
Алиса обошла его и рукой в перчатке раздвинула колючие стебли, пытаясь разобрать надпись, высеченную на мраморе. Буквы и цифры никак не желали складываться во что-то осмысленное.
Кто-то кашлянул у них за спиной. Пара резко обернулась. Даль увидел рослого симпатичного мужчину в рубахе тонкого полотна с закатанными рукавами; в темных панталонах и высоких сапогах, заляпанных глиной; с ведром и губкой в руках. Должно быть, это его куртка лежала на низкой скамейке рядом с памятником.
Алиса, вероятно, увидела нечто большее. Потому что вскрикнула и упала вниз лицом, очки звякнули, разбиваясь о случайный камешек.
Незнакомец перевернул ее на спину, поддерживая под плечи и затылок. Очки не упали, к сожалению, повиснув на дужке. Осколок стекла наискось впился Алисе в щеку. Незнакомец отбросил оправу, скомканным платком выдернул и вытряхнул осколок, промыл царапину водой из ведра. Обильно потекла кровь.
– Платок дайте! – скомандовал он. Даль повиновался. Незнакомец зажал царапину свежим платком.
Поверх лица государыни мужчины взглянули друг на друга. Было в лице чужака что-то волчье. Вытянутое лицо, не совсем правильное, с волевым ртом. Глаза большие, серо-зеленые. Волосы густые, темно-русые, зачесанные наверх. Лоб высокий, нос прямой.
«Словно полицейскую сводку читаю, – подумал Даль. – Вроде бы мы знакомы, а вспомнить не получается».
– У меня снаружи экипаж.
– Благодарю вас, вы очень любезны.
Они понесли Алису вдвоем между могил. Дорога оказалась прямой и совсем короткой.
Крапивин уселся в двуколке, устроив голову Алисы себе на плечо, плотно прижимая к ее щеке платок, пропитавшийся кровью. Незнакомец отвязал поводья.
– Куда?
Даль извернулся, вытаскивая письмо доктора Веска из кармана пальто.
– Знаю, тут рядом.
Экипаж плавно стронулся с места: элегантный, новый, на рессорах и резиновом ходу, он точно плыл. Бежали ровной иноходью гладкие, упитанные вороные.
Миновав просторное поле, они въехали на гору так же легко, точно катили по ровному месту, и вовсе разогнались, заставляя прохожих отпрыгивать, а коляски и редкие авто подаваться в стороны. Свернули под арку башни с часами, накренясь, черканув бортом по беленой стене, и остановились в тесном дворике.
Комиссар взлетел на побеленное крыльцо из двух ступенек и загрохотал кулаками в крашеную белую дверь.
Приоткрылась верхняя створка. Выглянула баба в белом плате, обхватившем лоб и щеки, в белом складчатом платье под грудь и переднике. Глаза навыкате, лицо плоское, туповатое.
– Приема нет!
– Моя жена поранилась!
– Нет приема.
Даль сузил глаза и выпятил подбородок, заставляя бабу попятиться. Выложил на узкую полку сложенное письмо от Веска с купюрой посередине:
– Извольте Михаилу Антоновичу передать! Срочно!
Ждать пришлось не долее пары минут. Дверь распахнулась настежь, выпуская на крыльцо молодого доктора, упитанного и гневного. За ним вилась и трепетала, как вымпел на ветру, давешняя баба.
Доктор указал глазами на нагрудный карман, откуда торчала Далева ассигнация:
– Уберите это. Где?
Решительно прошагал к двуколке, взял Алису за руку, нащупал пульс.
– Каталку. Камфару. Вера!
Дальнейшее комиссар воспринимал осколками. Шприц с чем-то густым и желтым. Слабый стон. Скрип половиц. Склянка у рта – с бледно-желтым дурманом валерьянки на спирту. Пронзительная вонь нашатыря.
– Оклемался? Посиди тут.
Мир стал единым, вытянувшись в бесконечный белый коридор с редкими скамейками и щелястым полом. Напротив наискось черные линии обозначили проем двери, куда ушла Вера. Вдалеке чугунная круглая печка торчит из стены. Там коридор перегорожен сверху донизу, стекло над дверью замазано побелкой. Чуть выделяется над притолокой статуэтка святой лекарки Тумаллан, склонившейся над чашей. Стукни створкой посильнее – непременно упадет на чью-то голову.
Даля неодолимо притягивала эта дверь. Он прошагал к печке, словно собирался погреть руки, и непременно бы проник в санктуарий, не появись нянька с объемным узлом из клетчатого платка, огрызком карандаша и мятой исписанной бумажкой. Обслюнив карандаш, она сунула его с листком Крапивину:
– Распишитесь вот туточки, что ничего не пропало, – а узел свалила на скамью.
Даль второй раз за этот день свалился бы в обморок, если бы не спокойные слова нового знакомца, явившегося за нянькой:
– Ее просто переодели в больничное. Так положено. Ну, дайте, я сам распишусь.
Даль вышел на крыльцо и глубоко вздохнул. Следом появился волчеликий с узлом в руках, бросил его в коляску. Закурил, небрежно отгоняя рукою дым.
– Не знаете, надолго ее оставили? – спросил Даль.
– Михаил Антонович сказал, на две недели. И еще поклялся пенять вам на жестокое обхождение с супругой, несмотря на связи в Твиртове.
– Но это невозможно!
– Поедемте ко мне. Вам нужно выпить. А того лучше, упиться до свинячьего визга. Там и обсудим, как выдрать Алису из цепких лап юного эскулапа.
Он легонько подтолкнул комиссара к коляске:
– Поедемте, Даль Олегович. Не надо давать лишний повод для сплетен.
Они уселись. Коляска мягко выкатилась из больничного двора. Крапивин откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, из-под ресниц следя за улицами, которыми они проезжали. Играть в игры, прикидываясь кем-то другим, у него не было сил.
Улица, куда они приехали, была немощеной и узкой. Дома теснились по одну ее сторону, и задние дворы и сады выходили к обрыву, по вторую был пустырь. Солнце припекло, раскисшая глина дороги высохла до каменной крепости, и коляска вихлялась и подскакивала на колдобинах. Кони сердито ржали, оси скрипели, пестрые куры с кудахтаньем разбегались из-под колес. Пробежали мальчишки с воздушным змеем. Женщина с ведрами на коромысле, оглянувшись, нырнула во двор.
Здесь застоялось лето. По обе стороны от рыжей разъезженной колеи курчавились спорыш и клевер, белели мелкие ромашки, желтели сурепка и одуванчики, нежно бирюзовела травка, имени которой комиссар не знал, с семенами-баранками. В детстве, которое ему Сан придумал, Даль пробовал кормить этими баранками стрекоз. У стрекоз были прозрачные чешуйчатые крылья, черные зубы и похожие на шарики коричневые глаза. Он жил на похожей улице, где дома вот так же врастали в землю, а на окна со ставнями сползали позеленевшие крыши. Вот только запах моря – соленый и резкий – не заглушал вонь навоза и усыхающей зелени. Хотя иногда казалось, что в конце улицы за углом дома вот-вот откроется голубая гладь.
Но глаза упирались в небо и облака.
Хозяин загнал выезд в тесный двор, вынул ключ из-под крыльца.
– Не боитесь, что вас ограбят?
Он улыбнулся углом рта:
– Что вы, здесь не столица. Здесь все всех знают и запирают дом только на ночь или если отлучаются надолго.
Сунул ключ Далю:
– Рукомойник прямо по коридору в кладовой. Избавьтесь от грима и этой жуткой бороды, кожа под ней должна чесаться нестерпимо. А удобства, увы, на улице.
– У вас большой опыт маскировки? – спросил Крапивин ехидно.
– Есть немного.
Умывшись, Даль стал осматриваться. Раз уж волчеликий знал его и государыню, хотелось слегка сравнять счет.
Изнутри дом оказался больше, чем снаружи, и все в нем дышало уютом и сдержанной роскошью, достижимой не при избытке денег, а правильном воспитании. В доме не было ничего лишнего, каждая вещь на своем месте и готовая служить века. Полосатые кресла с высокими спинками и кружевными подголовниками, круглый чайный столик с инкрустацией, столик шахматный – эбеновые и серебряные фигурки выстроились рядами, готовые к бою. Огромный книжный шкаф с позолотой корешков за радужными стеклами, с бульдожьими головами по углам дверец, готовыми, казалось, вцепиться в протянувшего к ним руку чужака. Бархатные шторы, делающие солнечный свет из окон приглушенным. Болтаются шарики. Пылинки дрожат в лучах.
В таком доме хотелось жить.
Но жил хозяин один. На полке над рукомойником стоял только мужской парфюм, на двери висела пара мужских халатов, на полке у двери обувь была тоже лишь мужская. Прекрасно выделанная, дорогая, столичная.
– Вы еще мастерской моей не видели! – веселый голос заставил Даля вздрогнуть и разогнуться: он как раз залез в тумбочку с банками варенья под придавленными резинками бумажными крышками. – Прошу.
В мастерской под лампой-корабликом стоял стол с инструментами и деталями часов, на углу на салфетке примостились серебряный стакан с недопитым кофе, кофейник и ложечка с дудящим в дудочку мальчиком на черенке. Потертый плюшевый диван был придвинут к стене, на нем лежала синяя рабочая куртка. А все пространство стен, комода и секретера занимали часы. Они наигрывали легкомысленные мелодии, шуршали, стрекотали, басовито били, и от их присутствия, движения маятников и фигурок комната казалась живой.
– Осматривайтесь. Я налью коньяк и согрею чай.
Он возвращался дважды, первый раз с пузатой чаеваркой, в дырочках под дном которой тлели угольки. Второй раз с парой надколотых бисквитных чашек и темной бутылкой, в которой настоянный в дубовых бочках ровенский ром превращался в совсем другой напиток: мягкий, золотистый, благородный. Хозяин разлил его на донышки и сдвинул чашки: