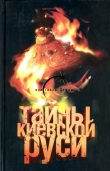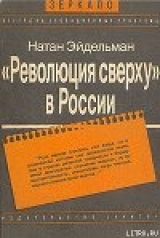
Текст книги "«Революция сверху» в России"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 11 страниц)
Тридцатилетняя контрреволюция
Очень часто в российской и советской истории мы встречаемся с существенными переменами, крутыми поворотами, выявляющимися через 20–30 лет:
1801, 1825, 1856–1866, 1881, 1905–1907…
В советское время – 1917, 1937, 1956, 1985…
Тут не простой случай – смена правителей. Дистанция длиною в одно поколение – от рождения родителей до рождения детей. Новые поколения, не сразу отменяя старых, – выходят на сцену, «давят», все сильнее выдвигают свои принципы и идеи.
Конечно, при эволюционном развитии подобные ритмы не столь заметны (хотя, наверное, тоже существуют), но в России движение вперед всегда более взрывное, а вехи, вспышки – заметнее…
Легкое объяснение того, что почти никаких реформ с 1825 по 1855 год не случилось, часто отыскивают в личности царя-реакционера Николая I – не захотел…
Не станем обелять малосимпатичного монарха. И все же – «Николай враг, но истина дороже»!
Ведь после того, как Александр I не решился, а декабристы не сумели произвести революционные преобразования в стране, Николай I, без сомнения, некоторое время пытался взять на себя роль «революционера сверху», всячески подчеркивая преемственность с Петром (вспомним пушкинское: «Во всем будь пращуру подобен…»).
Ряд реформ (главнейшая – ослабление и затем отмена крепостного права) были задуманы действительно, а не на словах. Были созданы десятки тайных проектов, 11 секретных комитетов по крестьянскому вопросу (сама секретность при самодержавном режиме – залог серьезности, хотя одновременно и символ ненадежности: ведь практические шаги требуют гласности!). Не получились же у Николая реформы прежде всего из-за сильного и все нарастающего эгоистического, звериного сопротивления аппарата, высшей бюрократии, дворянства. Умело, мастерски они топили все сколько-нибудь важные антикрепостнические проекты, для чего имелось несколько надежных способов. Во-первых, затянуть время, отложить их в долгий ящик, передать бюрократическим комиссиям и подкомиссиям. Во-вторых, если царь настаивает, то выдать проекты практически неосуществимые. Скажем, когда Николай пожелал, чтобы очередной Секретный комитет все же определил возможности эмансипации (дело было около 1840 г.), ему представили идею о личном освобождении крепостных, в то время как вся земля остается за помещиками. Николай на это не пошел, о чем заранее знали высокопоставленные крепостники, авторы проекта: царь опасался новой пугачевщины, экономического упадка.
Третий прием – запугать монарха бунтами, непослушанием народа, для чего, между прочим, нередко завышались «сводки» о крестьянском сопротивлении. Царю указывали на какой-то очередной эксцесс и восклицали: «Вот к чему дело придет, если дать послабление!»
В-четвертых, умели (тоже преувеличивая) сообщить царю о недовольстве помещиков, опасающихся за свою собственность.
В-пятых, уже знакомые ссылки на революцию в Западной Европе, на «ихние беспорядки», в то время как у нас все же «благостная тишина»…
Искусно используется влияние фавориток и фаворитов, при случае не исключаются и прямые угрозы (рассказывали, будто Александр I находил в своей салфетке записки, напоминавшие о судьбе отца, Павла I). Нередко срабатывало и простое самолюбие главы государства, когда ему втолковывали, что стыдно уступать «заграничным влияниям», стыдно отступать перед смутьянами; что если крестьян освободить, получится, будто находящиеся в Сибири «государственные преступники» были правы…
Известный славянофильский публицист Ю. Ф. Самарин писал о бюрократии и высшем дворянстве: «Это тупая среда, лишенная всех корней в народе и в течение веков карабкавшаяся на вершину, начинает храбриться и кривляться перед своей собственной единственной подпорой […] Власть отступает, делает уступку за уступкой без всякой пользы для общества».
Николай I был категоричнее, «громче», самодержавнее своего покойного брата Александра; известен случай, когда он рявкнул над ухом уснувшего на посту офицера, и тот скончался (царь выплачивал особую пенсию семье). Казалось бы: гаркнуть царю на своих министров, чтобы исполняли приказ, и все выйдет. Однако и этот монарх не забывал о силе бюрократии, об удавке.
1830–1840-е годы были сравнительно спокойными, внешне империя смотрелась недурно, противники реформ были, к сожалению, «непугаными». А потому не сомневались, что можно и дальше погодить.
Николай не решился стукнуть кулаком по столу. Со временем же вошел в новую роль – свое вынужденное отступление стал все более считать за собственную волю. Тем более что практика, а также самодержавный инстинкт подсказывали: при либеральных реформах «угроза справа» действительно страшна, вплоть до удавки, зато, начав по самодержавному прижимать всех и вся (даже самых высших бюрократов), монарх рискует куда меньше…
Конечно, все это реально, пока в стране «все молчит»…
Иначе говоря, пока нет явных признаков пугачевщины или других форм «революции снизу».
Декабристский «эпизод» самим фактом неучастия широкой массы (впрочем, петербургская толпа, метавшая каменья, – по крайней мере, намек на другие возможности) заставляет задуматься о завтрашних перспективах.
В Европе же одна за другой вспыхивают и побеждают как раз революции снизу (1830-й, 1848-й), хотя там давно нет ни крепостного права, ни самодержавия вроде российского. А может, именно оттого, что – нет…
Чего же ждет, почему молчит российский крестьянин?
Народ пытались понять, «расколдовать» и Пушкин, и Чаадаев, и западники, и славянофилы, и Герцен, и Белинский, а позже – революционные демократы, Чернышевский, народники.
Они сумели проникнуть в особый мир девяти десятых населения страны; понять и объяснить его мышление, язык, фольклор, делая нередко оптимистические прогнозы на будущее и пессимистические, взирая на день сегодняшний. Чаадаев, например, заметил: «Было бы притом большим заблуждением думать, будто влияние рабства распространяется лишь на ту несчастную обездоленную часть населения, которая несет его тяжкий гнет; совершенно наоборот, изучать надо влияние его на те классы, которые извлекали из него выгоду. Благодаря своим верованиям, по преимуществу аскетическим, благодаря темпераменту расы, мало пекущейся о лучшем будущем, ничем не обеспеченном, наконец, благодаря тем расстояниям, которые часто отделяют его от его господина, русский крепостной достоин сожаления не в той степени, как это можно было бы думать. Его настоящее положение к тому же лишь естественное следствие его положения в прошлом. В рабство обратило его не насилие завоевателя, а естественный ход вещей, раскрывающийся в глубине его внутренней жизни, его религиозных чувств, его характера. Вы требуете доказательства? Посмотрите на свободного человека в России! Между ним и крепостным нет никакой видимой разницы. Я даже нахожу, что в покорном виде последнего есть что-то более достойное, более покойное, чем в озабоченном и смутном взгляде первого».
Чернышевский, размышляя о старинных чертах российской жизни, придет к выводу:
«Основное наше понятие, упорнейшее наше предание – то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильными и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения… Первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие слепо и беспрекословно повиновались ему. Каждый из нас – маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и по зрелому соображению, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же беспрекословно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам – простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно. От этой одной привычки, созданной долгими веками, нам отрешиться едва ли не потруднее, чем западным народам от всех своих привычек и понятий. А у нас не одна такая милая привычка; есть много и других, имеющих с нею трогательнейшее родство. Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, концы которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что бог знает, сколько поколений пройдут по нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее (прорехи достигать нашей груди чувства приличные цивилизованным людям».
Так наблюдали, открывали народ. Однако все первооткрыватели были далеки от диалога с ним. Хомяков и Аксаковы попытались явиться в народной одежде – мужики приняли их за персиян. Прокламации в народном духе, напечатанные в 1850-х годах за границей и в России, из крестьян никто почти не прочитал: неграмотны, да и непривычны…
В ту пору и власть по-новому задумалась о народе. Как известно, в начале 1830-х годов вместо просвещенного курса на реформы с опорой на дворянскую интеллигенцию была провозглашена теория официальной народности. Новая идеология держалась на «трех китах»: самодержавие, православие, народность…
Под народностью разумелось «единство царя с народом», эксплуатация народной веры в высшую царскую правоту.
Квасной патриотизм проповедовал презрение к иностранцам и к собственным умникам, препятствующим «великому единению»…
Этот псевдодемократизм, это поворот идеологии от просвещенного курса к непросвещенному означал отказ от всякой «революции сверху».
Надо ли говорить, что речь не шла, конечно, о какой-нибудь действительной опоре власти на народ, однако состав того слоя, на который опирался престол, начал существенно меняться.
«Когда раздается клич, – писал М. Е. Салтыков-Щедрин, – из нор выползают те ивановы, которые нужны. Те же, которые в сей момент не нужны, сидят в норах и трясутся».
Активные, самостоятельные, гордые, дерзкие военачальники, администраторы, идеологи в николаевское тридцатилетие уходят в тень, подают в отставку, превращаются в «лишних людей» (категория, прежде неизвестная: в XVIII – начале XIX века не было лишних – все при деле!). Один из «лишних», генерал Ермолов, говорил об особом таланте Николая: никогда не ошибаясь, всегда определять на ту или иную должность «самого неспособного…».
Вот он, непросвещенный абсолютизм, впервые обозначившийся в краткие павловские годы и повторенный на новом витке через одно царствование.
После целого периода усиливающегося сходства, пускай внешнего, с Европой (что мы наблюдали в XVIII – начале XIX века) снова – как перед «революцией Петра» – накапливается отставание, техническое и «кадровое».
Россия и при Николае I не стояла на месте: производство примерно удвоилось. Однако во Франции за этот период число паровых двигателей возросло более чем в 5 раз, потребление хлопка и добыча угля – более чем в 3 раза, обороты французского банка увосьмерились. Объем же английской промышленности вырос за первую половину XIX века более чем в 30 раз.
Капиталистический паровоз разводил пары: промышленный переворот, первая промышленная революция (как не вспомнить, что сегодня – вторая: снова «витки спирали»!).
На Западе как из рога изобилия сыпались новые изобретения, открытия, медленно, с большим опозданием попадавшие в Россию, в сущности, не заинтересованную ни в каких серьезных новшествах.
Лесковский Левша в Англии «как до ружья дойдет, засунет палец в дуло, поводит по стенкам и вздохнет: “Это, – говорит, – против нашего невпример превосходнейшее”».
Если бы не «капиталистическое окружение», можно было бы и дальше жить в этом беднеющем, не очень товарном и очень недемократическом обществе.
Специалисты подсчитали, что еще лет 50–70 крепостное право, тормозя экономику, все же не довело бы страну до полного голодного краха – ведь большинство крепостных хозяйств были середняцкими. И все же эта система была обречена – рано или поздно. Позднему крушению воспрепятствовали внешние обстоятельства.
Мы не всегда отчетливо понимаем, – что произошло в Крымской войне, при обороне Севастополя в 1853–1855 годах.
Солдаты и моряки сопротивлялись героически, но в ряде случаев мы даже не можем говорить о сражениях. Победив под Синопом турецкий флот (парусный, как и русский), Нахимов должен был просто затопить победоносную русскую эскадру у крымских берегов при появлении англо-французского парового флота. Некоторые сухопутные сражения, по существу, были расстрелом русского войска: европейское нарезное оружие било много дальше, чем российское гладкоствольное.
И все же противнику удалось захватить лишь небольшие территории на самом краю империи. Уинстон Черчилль в своей «Истории Англии» удивлялся, почему русские так держались за Севастополь, а не отступили на Север, в бесконечные степные пространства куда союзные армии не посмели бы углубиться, помня судьбу Наполеона?
Даже такой умный и проницательный политик-писатель, как Черчилль, не смог понять, что система, которую представлял Николай I, либо – не гнется, либо – ломается. Наполеон, ворвавшись в Россию и дойдя до Москвы, привел в действие мощный механизм патриотизма, народной войны. Здесь же, в 1854–1855 годах, при всем безнадежном героизме Севастополя налицо было поражение, унижение, не компенсированное чем-то в духе 1812 года именно потому, что враг не углубился в страну.
Можно сказать, что англо-французы инстинктивно нашли единственно правильный путь сокрушения подобной системы (как позже японцы в Порт-Артуре и Цусиме).
Поражение теперь вызвало общественную активность, направленную против ее виновников. «Писанные тетради наводняют нас», – констатировал сенатор К. Н. Лебедев. Верноподданный историк-публицист М. П. Погодин обращается к царю: «Свобода! Вот слово, которое должно раздаться на высоте самодержавного русского престола! Простите наших политических преступников… Объявите твердое намерение освободить постепенно крестьян… Облегчите цензуру, под заглавием любезной для Европы свободы книгопечатания. Касательно внешних сношений объявите систему невмешательства: пусть все народы идут свободно, кто как желает к своим целям.
Медлить нечего… Надо вдруг приниматься за все: за дороги, железные и каменные, за оружейные, пушечные и пороховые заводы, за медицинские факультеты и госпитали, за кадетские корпуса и училища мореплавания, за гимназии и университеты, за промыслы и торговлю, за крестьян, чиновников, дворян, духовенство, за воспитание высшего сословия, да и прочие не лучше, за взятки, роскошь, пенсии, аренды, за деньги, за финансы, за все, за все… Конституция нам не нужна, а дельная, просвещенная, диктаторская власть необходима».
К. С. Аксаков: «Правительство не может, при всей своей неограниченности, добиться правды и честности; без свободы общественного мнения это и невозможно. Все лгут друг другу, видят это, продолжают лгать, и неизвестно, до чего дойдут. Всеобщее развращение или ослабление нравственных начал в обществе дошло до огромных размеров».
«Сверху блеск – внизу гниль», – констатировал в своих записках государственный деятель, будущий министр П. А. Валуев.
Куда двинется теперь сверхцентрализованное государство, возвышающееся над экономически отсталым обществом?
Ясно, что надо эту отсталость преодолевать. Не менее ясно, что это никак нельзя сделать без «послаблений», без реформ, без новых людей. Но откуда же взять новых людей, если несколько десятилетий их истребляли, выживали, лишали дела? И могут ли быть «послабления» при нежелании государства уступать, в страхе перед последствиями, при существовании тридцатилетних (а в сущности своей многовековых) привычек к жесткому администрированию?
«Приходилось расплатиться, – писал историк С. М. Соловьев, – за тридцатилетнюю ложь, тридцатилетнее давление всего живого, духовного, подавление народных сил, превращение русских людей в полки, за полную остановку именно того, что нужно было более всего поощрять, чего, к несчастью, так мало приготовила наша история, – именно самостоятельности и общего действия, без которого самодержец, самый гениальный и благополучный, остается беспомощным, встречает страшные затруднения в осуществлении своих добрых намерений».
Интересные разговоры происходили в те времена.
Тогда-то прозвучит формула, напоминающая о главном резерве – огромной силе самого государства.
«Лучше освободить сверху, прежде чем освободятся снизу».
Часть II
«Если же это правительство исторически, связано преемственностью и т. п. с особенно “яркими” формами абсолютизма, если в стране сильны традиции военщины и бюрократизма в смысле невыборности судей и чиновников, то предел этой самостоятельности будет еще шире, проявления ее еще… откровеннее…произвол еще ощутительнее»
В. И. Ленин
«Оттепель»
Мы вернулись к марту 1855 года – времени, с которого начали и откуда отступили на несколько веков назад, чтобы история имела предысторию.
Конец 1850-х – начало 1860-х годов – период крупных преобразований экономического и политического строя. Реформы были теми, какие были, есть и будут в разные эпохи, при разных режимах, ибо других реформ, охватывающих всю жизнь страны, просто нет.
Реформы экономические: перемена общественно-экономической структуры; в наблюдаемый нами период – прежде всего освобождение крестьян.
Реформы политические: преобразование управления (земская и городская реформы), реформа судебная, военная.
Третья сфера жизни, связанная с первой и особенно со второй, – образование и культура.
Здесь нужны реформы школы и университетов, цензуры.
Снова повторим, что говорим сейчас не о конкретном содержании тогдашних российских перемен, не о результатах достигнутых и недостигнутых, а только об общем типе преобразований: в этом смысле мы можем найти много общего у реформаторов, разделенных веками и классовой принадлежностью. Скажем, в Древней Греции, России конца XIX века и Советской стране конца XX века.
Любопытно и важно представить сравнительную хронику первых лет тогдашней российской «оттепели».
1855 год
Смерть Николая; отставки наиболее одиозных николаевских сановников ПА. Клейнмихеля и Л. В. Дубельта (начало 1856 г.); падение Севастополя, брожение в стране: тысячи крепостных крестьян стремятся записаться в ополчение, чтобы получить свободу. Выход первой книги герценовской «Полярной звезды» в Лондоне; постепенное расширение гласности: известный ученый и публицист К. И. Арсеньев запишет, что «граница между дозволенным и недозволенным становилась все менее и менее определенной».
Июнь – генерал Ридигер подает царю записки с идеями коренной военной реформы, которая должна оживить отсталую армию, вернуть туда способных людей.
1856 год
Крестьянское дело:
30 марта – знаменательные слова царя о будущей отмене крепостного права – «лучше… свыше, нежели снизу».
Осень – неудачные попытки товарища министра внутренних дел Левшина организовать ходатайство самих губернских дворянских предводителей об отмене крепостного права.
Политическая сфера:
19 марта – в манифесте об окончании Крымской войны намек на возможность судебной реформы: слова «Да правда и милость царствуют в судах».
Август – амнистия декабристов в связи с коронацией.
В эти же месяцы расширение гласности, создание новых журналов и газет.
Генерал-адъютант Глинка 2-й подает царю записку «О возвышении в войсках личного достоинства начальствующих лиц и офицеров».
1857 год
3 января – открытие Секретного комитета «для обсуждения мер по устройству быта помещичьих крестьян» под председательством царя.
В течение первой половины года в комитет поданы записки ряда членов, в разной форме советующих постепенное, длительное «смягчение» и лишь потом отмену крепостного права.
М. А. Корф и министр внутренних дел С. С. Ланской предлагают более быстрый путь – организовать ходатайства самого дворянства.
Летом Александр II под влиянием информации Ланского, а также Записки немецкого ученого барона Гакстгаузена требует ускорения крестьянской реформы.
В Секретный комитет вводится либерально настроенный брат царя, великий князь Константин Николаевич.
20 ноября – царский рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову; через 2 недели, 5 декабря – рескрипт петербургскому генерал-губернатору Игнатьеву – их ходатайства истолкованы как желаемая просьба самого дворянства. Александр II в ответ объявляет о начале освобождения крестьян с землею и распоряжается о создании в каждой губернии дворянского губернского комитета для обсуждения «местных особенностей и дворянских пожеланий».
В том же 1857 году: продолжающиеся успехи гласности; дано распоряжение о подготовке нового цензурного устава; в печати наблюдаются прямые или косвенные суждения о необходимых переменах в центральном и местном управлении, судах, армии, просвещении.
6 июня – фактическое начало судебной реформы: составленный комиссией во главе с Д. Н. Блудовым устав гражданского судопроизводства повелением царя вносится в Государственный совет; начало длительных обсуждений проекта будущего суда.
Проходя в школах и институтах историю тогдашних реформ, мы их раскладываем по полочкам – сначала крестьянская, потом земская, судебная, военная… Теряется важнейшая закономерность тех, а также последующих российских коренных реформ, – их одновременность!
Не мог крестьянский вопрос двигаться без политических послаблений, потому что само «освобождение сверху» предполагает, по определению, что эти самые верхи, которые прежде держали и «не пущали», теперь начинают видоизменяться.
Несколько позже известный деятель реформы тверской помещик и публицист А. М. Унковский сформулирует то, что, по его мнению, «насущно необходимо для обновления России» вместе, рядом с крестьянским освобождением: «Все дело в гласности; в учреждении независимого суда; в ответственности должностных лиц перед судом; в строгом разделении власти и в самоуправлении общества в хозяйственном отношении».
Снова задаем тот же вопрос, который нас интересовал в связи с Петром Великим: был ли у Александра II и его либеральных министров далекий, заранее обдуманный план преобразований в крестьянской и других сферах?
От середины XIX века осталось куда больше документов, позволяющих судить о ходе реформ, чем со времен петровских. П. А. Зайончковский, Л. Г. Захарова, Г. Х. Попов и другие исследователи, обращавшиеся к этой проблеме, многое открыли и осмыслили.
Ответ на поставленный только что вопрос представляется примерно таким. В 1855–1856 годах у некоторой части «верхов» была смутная общая идея о том, что дела в стране плохи, положение опасное, надо освободить сверху, пока не освободились снизу. При этом часть высшего аппарата (далее мы скажем об этом подробнее) считала, что нужно все оставить по-старому, а те, кто думали о реформах, отнюдь не имели ясного представления, как начать, сколько уступить, сколько времени продлятся перемены… Если бы мы спросили большинство тогдашних лидеров, как им представляется ближайшее будущее, они еще в 1856-м и начале 1857-го, по всей вероятности, говорили бы о долгом, на много лет затянувшемся плане освобождения. Положение освободившихся крестьян, их будущие земельные наделы сначала казались «начальству» не совсем такими, как получилось в конце концов.
Инициатива Ланского, соображения еще нескольких умных сановников, советы Гакстгаузена, колебания Александра II, все более склоняющегося к реформам, – все это замечательные примеры того, как историческая закономерность, невозможность жить по-старому, пробивает себе путь среди хаоса различных исторических сил, влияний, причем нередко выбирает исполнителями таких лиц, которые прежде и не думали о своей реформаторской роли…
Сохранились рассказы современников, что после смерти Николая I А. С. Хомяков радостно поздравлял друзей с новым царем-преобразователем. Друзья сомневались, так как у наследника была в либеральных кругах весьма неважная репутация. Было известно, например, что при обсуждении в Секретных комитетах вопроса о крестьянском освобождении Николай I выступал даже более смело, чем его сын, склонявшийся к тому, что никакой эмансипации не нужно. Хомякову говорили: «Александр II – крепостник, занимается преимущественно охотой и т. п.»; однако славянофильский публицист уверенно защищал свой оптимизм; «В России хорошие и дурные правители чередуются через одного: Петр III плохой, Екатерина II хорошая, Павел I плохой, Александр I хороший, Николай I плохой, этот будет хорошим!»
Не станем серьезно разбирать и критиковать своеобразную историческую теорию Хомякова и его оценки разных царей; не принимая все это буквально (да Хомяков и сам посмеивался), отметим, что определенный смысл в подобной «социологии» имеется. Политика каждого императорского правительства в той или иной степени заходила в тупик, оказывалась исчерпанной, рождала иллюзию, что недостатки можно исправить другой, противоположной политикой, и тогда следующий царь начинал с мер, более или менее резко отличающихся от стиля предшествующего правления.
И все же сам Александр II, ручаемся, совершенно не подозревал о своей «освободительной роли». Даже совсем незадолго до того, как начал ее играть.
Однажды мне довелось услышать удивленное замечание своего учителя, профессора Петра Андреевича Зайончковского насчет Николая I и Александра II: познакомившись с «памятными книжками» (то есть деловыми, интимными заметками каждого императора, делавшимися для себя), а также с другими текстами, Зайончковский нашел, что соображения Николая – отнюдь не самого умного и глубокого русского монарха – часто последовательнее, компетентнее, чем у наследника…
Факты, приведенные ученым, были довольно убедительны. И тем интереснее, что более ограниченный Александр согласился на дело, которое не сумел совершить его отец. Так пожелала история. Она, случается, выбирает самых неожиданных людей для выполнения своих планов (признаемся, положа руку на сердце: кто мог предвидеть, что именно Никита Сергеевич Хрущев станет тем лидером, который впервые взломает сталинскую систему? Уверен, если бы можно было вообразить, скажем, в 1952 году некий референдум на тему – кто же сделает важные шаги к освобождению, никто, наверное, не угадал бы, даже и сам Хрущев!).
Александр II и его министры сформировались, взросли за тридцатилетнее царствование, исключавшее, казалось бы, всякие прогрессивные возможности. Н. А. Мегульнов в 1855 году сформулировал весьма пессимистическую точку зрения: «Само правительство… не терпя свободы, не может терпеть и того, что с нею связано. Не стыдясь мнения образованного мира, оно не решилось совершенно уничтожить науку и литературу, а стало по возможности подавлять их, так что на деле они пришли в самое жалкое положение. Ценсурные постановления так строги, что нельзя написать ничего, имеющего человеческий смысл. Всякая мысль преследуется, как контрабанда, и даже факты очищаются от всего, что может бросить не совсем выгодный свет не только на существующий порядок вещей, но и на те политические, религиозные и нравственные начала, которые приняты за официальную норму. В учебные заведения введены военное обучение и военная дисциплина; невежественные генералы поставлены во главе народного просвещения; университеты лишены прежних своих прав, и самое число учащихся ограничено. Казалось бы, чего лучшего желать для государства, как не возможно большего числа образованных людей? Казалось бы, что возбуждать в молодых поколениях, как не желание учиться? А между тем это благороднейшее стремление человека делается предметом запретительных мер; правительство считает его для себя опасным и ограничивает число студентов.
После этого мудрено ли, что зарождавшиеся в обществе духовные интересы исчезли, что рвение к науке и искусству уменьшилось?..
Только явная подлость может после этого именовать правительство просвещенным или покровителем наук и искусств. Это ложь, которая опровергается очевидными фактами».
Либеральный публицист и хотел верить, и не верил, что именно это правительство способно на реформу сверху: «…оно мало-помалу совершенно отделилось от народа. В войске оно создало себе опору, отдельную от граждан; в бюрократии оно имеет покорное орудие своей воли; окружают его люди, лично преданные царю и не имеющие с народом ничего общего. Со всех сторон оно загородилось и заслонилось от света. Оно живет и движется в совершенно отдельной сфере, куда ничто не проникает из низменных стран, где не слышно даже и отголоска общественной жизни. В этом очарованном кругу все свое, совершенно особенное, не похожее ни на что другое. Там есть официальная преданность, официальная лесть, официальная ложь, официальное удовольствие, официальное благосостояние, официальные свидания, официальные статьи, официальная дисциплина, официальная рутина. Все это созидается и поддерживается с большим усилием для царского увеселения, но к несчастью все это один призрак. Это мыльный пузырь, который образовался вокруг всемогущего владыки, ослепляет его своими радужными цветами. А народ между тем живет своею жизнью, бессловной и покорной, но отнюдь не счастливый и довольный».
Итак, огромный, очень самостоятельный бюрократический аппарат. В середине XVIII века он составлял около 16 000 человек, сто лет спустя – около 100 000…
По мнению всезнающего III отделения, в конце 1840-х годов только три губернатора не брали взяток: киевский Писарев как очень богатый, бывший декабрист Александр Муравьев (таврический губернатор) и ковенский Радищев («по убеждениям», хотя сын первого русского революционера сильно удалился от отцовских идей, чтобы выйти в губернаторы).
В конце 1850-х годов из 46 губернаторов (у кого в губерниях были помещики и крепостные) лишь 3–4 способствовали освобождению.
Еще Александр I жаловался, что реформы «некем взять», а ведь он имел дело с людьми конца XVIII – начала XIX века, куда более живыми, энергичными, чем омертвевшая за 30 лет николаевская бюрократия.
Но снова, как и в петровские времена, срабатывает удивительный закон: преобразования, едва начавшись, находят своих исполнителей.
Изумляясь этому обстоятельству, известный историк Г. А. Джаншиев в конце XIX века писал: «Невесть откуда явилась фаланга молодых, знающих, трудолюбивых, преданных делу, воодушевленных любовью к отечеству государственных деятелей, шутя двигавших вопросы, веками ждавших очереди и наглядно доказавших всю неосновательность обычных жалоб на неимение людей».
Историк пояснял, что эти деятели пришли к своему делу разными путями: из старинных дворянских гнезд, университетов, кадетских корпусов, из старых и новых философских кружков…