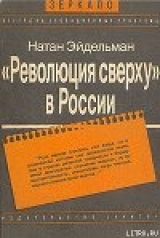
Текст книги "«Революция сверху» в России"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 11 страниц)
И Семеновская история, и европейские волнения легко могли напугать того царя, который, как уже отмечалось, собирался объявлять коренные реформы не в своей столице, где был сосредоточен бывший аппарат, а подальше от нее, в Варшаве (пожалуй, попытка уподобиться Петру, для преодоления консерваторов уехавшему из Москвы в новую столицу, Петербург).
Когда несколько видных государственных деятелей – Воронцов, Меншиков, Васильчиков – около 1820 года намекнули царю на необходимость коренных преобразований, Александр мрачно ответил: «Некем взять!» Иначе говоря – нет людей, нет слоя, на который он мог бы опереться и осуществить, провести в жизнь те проекты, что давно уже лежат среди его секретнейших бумаг…
«Некем взять» – формула примечательнейшая! Петр, как мы видели, нашел «кем взять»: создал параллельный аппарат, перенес столицу, понял и почувствовал, что нужно реформы начать, а люди сами найдутся. Лагарп тоже учил своего воспитанника, как отыскивать и создавать верных людей, помощников. Но не выходило…
Отчего же?
Если бы Александр был Петром, то ему «следовало бы» решительно опереться на молодых офицеров, использовать их высокий патриотизм, особенно усиливавшийся с 1812 года, их просвещенный, свободный дух, жажду улучшить дела в своем отечестве. Иначе говоря, Александру I «хорошо было бы» привлечь декабристов, а также ряд либерально настроенных аристократов, вроде тех, которые приходили поговорить о реформах. А он, царь, им не поверил и, в сущности, оскорбил, заметив, что «некем взять».
Была огромная энергия молодежи, ее тогдашняя несомненная привязанность к царю – победителю Наполеона. Эти чувства прекрасно переданы Пушкиным в повести «Метель»:
«Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове отечество! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него какая была минута!»
Александр – не Петр; 1800-е годы – не 1700-е.
Царь опасается, не доверяет, боится. А молодежь рвется вперед, созревая с неимоверной быстротой. Время упущено, лучшие люди упущены! В результате, начиная с 1816 года, около десяти лет тайное реформаторство царя и тайные проекты дворянских революционеров соседствуют, сосуществуют. Временами, как мы видели, идеи, планы, даже формулировки совпадают. Кажется, еще чуть-чуть, еще немного и верховная власть протянет руку Волконскому, Пестелю, Николаю Тургеневу и сразу найдется – «кем взять».
Не сбылось: сработала огромная оторванность, самостоятельность верховной власти даже по отношению к дворянству; сработал, конечно, и классовый инстинкт, предостерегавший «обе стороны». Однако не стоит абсолютизировать это обстоятельство. Вспомним, что в 1825-м, за несколько месяцев до выхода на площадь, Пестель, огорченный, утомленный раздорами между заговорщиками и медленным, мучительным ходом тайной работы, хотел явиться к Александру в Таганрог и открыться, представить в распоряжение царя несколько сот активных революционеров, за которыми десятки тысяч солдат, хотел предложить свою лояльность, поддержку в обмен на коренные реформы – в общем, те самые, которые давно таятся в бумагах царя!
Сотоварищи по тайному обществу отговорили Пестеля; он не имел права так действовать без их согласия. Не сбылось, не могло сбыться; но остался важный исторический урок насчет царей, которые выигрывают, находя достаточно широкую, активную, инициативную, «интеллигентную» опору, и проигрывают, если не находят.
Наш рассказ о переменах сверху достиг того момента, когда революционная инициатива переходит в руки прогрессивного дворянства. Казалось бы, начинается сюжет о революции снизу, однако и здесь своеобразие российской истории накладывает неповторимую печать.
Декабристы: российская небуржуазность, слабость третьего сословия сразу же выявились в том, что роль, которую на Западе играли горожане, буржуа, обуржуазившееся дворянство и их идеологи, в России играют выходцы из самого «типичного» крепостнического дворянства. Удивление перед этим фактом, порою неумение с ним справиться однажды привело столь крупного историка, как М. Н. Покровский, к попытке определить связь между числом десятин и крепостных у того или иного декабриста и степенью его революционности. Одно время Покровский думал: чем декабрист беднее, тем радикальнее. Однако столь простой социологический вывод не оправдался – активнейшие революционеры были и среди бедных, беднейших дворян (Каховский, Горбачевский), и среди знатнейших, богатейших (Пестель, Лунин, Волконский).
Князья, графы, душевладельцы, выступившие против собственных привилегий и взявшие на себя обязанности третьего сословия, – такая ситуация уже сама по себе отдавала столь привычной нам «революцией сверху». Вопрос стоял так: сумеют ли эти дворяне, революционеры, перехватить привычную инициативу у тех дворян, правительственных, бюрократических.
Когда в начале деятельности тайных обществ молодые заговорщики почти целиком сосредоточились на идеях политических, конституционных, более опытный Николай Тургенев предостерегал, что таким путем не удастся перехватить, ослабить «магическое влияние» самодержавия на народ: крестьяне не искушены в делах политических, здесь нет никакой традиции в духе западной вольности, и поэтому царю будет легко справиться с заговорщиками, «напустив на них массу»; мужики же будут рады побить бар, не разобравшись, что те в конце концов желают им добра; поэтому Тургенев особенно настаивал на быстрейшем внесении в декабристскую программу пункта об освобождении крестьян и других способах привлечения народа.
Молодой Пушкин, находившийся под определенным влиянием идей Тургенева, в своих нелегальных, декабристских по духу заметках по русской истории XVIII века (1822) радовался, что дворянам не удалось ограничить в свою пользу самодержавие: «Если бы гордые замыслы Долгоруких и проч. совершились, то владельцы душ, сильные своими правами, всеми силами затруднили б или даже вовсе уничтожили способы освобождения людей крепостного состояния, ограничили б число дворян и заградили б для прочих сословий путь к достижению должностей и почестей государственных. Одно только страшное потрясение могло бы уничтожить в России закоренелое рабство».
Иначе говоря, ограничение самодержавия исключило бы коренные реформы сверху и привело бы к взрыву снизу, «страшному потрясению»: «Нынче же, – продолжал Пушкин, – политическая наша свобода неразлучна с освобождением крестьян, желание лучшего соединяет все состояния противу общего зла, и твердое, мирное единодушие может скоро поставить нас наряду с просвещенными народами Европы».
Пушкин, как видим, указывает на важнейшую черту российской системы: экономические и политические реформы сверху – при огромных возможностях такого централизованного государства – могут осуществиться сравнительно мирно и быстро. Пусть эта формула недооценивает трудности будущего переворота, сопротивление крепостнической реакции, однако общая идея схвачена исторически верно. Это как бы возвращение к опыту Петра сто лет спустя и (как мы теперь знаем) известное предвосхищение того, что случится в 1860-х годах…
То, что случилось в 1825-м, также вытекало из ряда древних, чисто российских традиций.
14 декабря
Герцен заметил, что картечь, предназначенная декабристскому каре, вставшему на Сенатской площади, досталась и Петру, вокруг памятника которому выстроились мятежники.
Праправнуки тех, кто делал «революцию Петра», ровно через 100 лет после смерти этого императора выполнили его завет – просвещаться, достигнув высокой, для Петра почти неизвестной степени этого просвещения. Пушкин тремя годами раньше, в уже цитированных замечаниях о XVIII веке, отыскал для случившегося знаменитую формулу: «Петр I не страшился народной свободы, неминуемого следствия просвещения, ибо доверял своему могуществу и презирал человечество, может быть, более, чем Наполеон».
Иначе говоря, Петр не страшился, что его меншиковы, румянцевы, ганнибалы, изучив артиллерию, фортификацию, морское дело и европейские языки, потребуют сразу парламента, свободы слова, самоуправления, наоборот, поначалу просвещение укрепляло самодержавное всевластие; однако проходит 3–4 поколения, и «свобода – неминуемое следствие…»
Вообще, перечитывая старых публицистов, русских и европейских, поражаешься их крепкой вере в просвещение: в Сибири (первая четверть ХVIII века) сосланный за тяжкие уголовные преступления человек был назначен… судьей целого огромного округа только благодаря тому, что умел читать и писать. В ряде книг утверждалось: как только на земле число грамотных превысит число неграмотных, как только читать и писать будет 51 процент населения, все, наконец, исправится «само собою» и явятся счастье, вольность.
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?
В XX веке теорема, даже скорее аксиома просвещения («свобода – неминуемое следствие…») была подвергнута тяжким испытаниям: просвещеннейший народ создал с немалым мастерством Дахау и Освенцим; в стране, ликвидирующей безграмотность и быстро выходящей на одно из первых в мире мест по промышленному производству, – Магадан, Куропаты…
В 1954-м, по данным ЮНЕСКО, процент грамотных на Земле достиг вожделенного (в ХVIII-ХIХ вв.) 51 %, а к концу 1980-х как будто приближается к двум третям человечества…
Впрочем, уже с XVIII века (Жан-Жак Руссо) раздавались иные голоса.
Лев Толстой любил на разные лады повторять мысль Герцена о том, что «Чингисхан с телеграфом хуже, чем Чингисхан без телеграфа».
«В фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет» (из «Записных книжек» И. Ильфа).
Сейчас, когда мы считаем себя мудрее, чем в XVIII веке, хотелось бы все же присоединиться к тем, кто верит: свобода и счастье, конечно, – «неминуемое следствие просвещения»; но только не сразу, не быстро, порою через обходные, попятные, мучительные движения истории.
Картечь Николая I била в царя-просветителя, начиная, в сущности, оспаривать эту самую аксиому-теорему и доказывая, что счастье откладывается.
Мятежников наказывали за попытку – в 1820-х повторить по-своему 1720-е.
За формулу просвещение – свобода».
За коллективное уподобление Петру, давящему российскую косность сверху.
Когда на тайных совещаниях заговорщиков заходил разговор о возможном начале восстания на юге, Пестель решительно возражал требовали инициативы от северян, петербуржцев, еще и еще раз напоминал, что решающий удар должен быть нанесен там, на Неве, – где находится «средоточие властей». После же победы Пестель предлагал, чтобы в течение десяти лет Россией управляло Временное революционное правительство, революционная диктатура, напоминающая якобинскую и обладающая властью не меньшей, чем вчерашняя, императорская. Это правительство, по мысли одного из главных лидеров и теоретиков декабризма, осуществит сверху главные преобразования – освобождение крестьян, реформу армии, суда, экономики (подробности излагались в Пестелевой «Русской правде»); лишь после многолетней чистки и вспашки можно будет, по мнению Пестеля, ввести демократию, конституцию, выборы, народное представительство…
Сотоварищи по Тайному союзу возражали, опасаясь нового деспотизма, нового Бонапарта, даже подозревали самого Пестеля, и он в сердцах говорил, что после победы запрется в монастырь; «да, чтоб вас и оттуда вынесли на руках с торжеством», – пошутил один из друзей.
В 1825-м планировалась революция сверху, разумеется, поддержанная снизу войсками, но все же куда более «верхняя», чем, скажем, французская. В 1789–1794 годах главные дела тоже совершались в столице, Париже, но при огромном напоре снизу, уже образовавшемся до революции и нараставшем с первых ее дней. Огромную роль там играли революционные секции Парижа и других городов, отряды Национальной гвардии, городские и крестьянские объединения.
То самое народное представительство (Генеральные штаты), которое Пестель хотел допустить лишь через десять лет после победы, – оно действовало во Франции еще за несколько месяцев до штурма Бастилии. В ходе событий Генеральные штаты, как известно, переросли в Национальное, Учредительное, наконец, в Законодательное собрание…
Пестель этот путь отвергал, спорил с Рылеевым и другими заговорщиками, требовавшими созвать Земский собор сразу же после свержения самовластия.
Вождь Южного общества настаивал, что Россия – не Франция, французских демократических традиций не имеет; что без железной диктатуры царь и его сторонники быстро преуспеют в контрреволюции, причем и неразвитый народ вряд ли разберется, где друзья и где враги: они мистически привязаны к царскому символу; даже в Земском соборе, если он соберется, крестьяне могут поддержать реакцию…
Одним из поразительных, чудом уцелевших документов декабризма является письмо Матвея Муравьева-Апостола к брату Сергею от 3 ноября 1824 года. Автор послания, сомневающийся и не верящий в оптимистические прогнозы (сообщенные соратником Пестеля Николаем Лорером), убеждает брата умерить революционный пыл и при этом приводит аргументы, которыми как раз оперировал Пестель, делая совсем иные выводы.
«И я спрашиваю Вас, дорогой друг, скажите по совести: такими ли машинами возможно привести в движение столь великую инертную массу? Принятый образ действий, на мой взгляд, никуда не годен, не забывайте, что образ действия правительства отличается гораздо большей основательностью. У великих князей в руках дивизии, и им хватило ума, чтобы создать себе креатур. Я уж и не говорю о их брате (Александре I. – Н.Э.), у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают. […] Мне пишут из Петербурга, что царь в восторге от приема, оказанного ему в тех губерниях, которые он недавно посетил. На большой дороге народ бросался под колеса его коляски, ему приходилось останавливаться, чтобы дать время помешать таким проявлениям восторга. Будущие республиканцы всюду выражали свою любовь, и не подумайте, что это было подстроено исправниками, которые не были об этом осведомлены и не знали, что предпринять. Я знаю это от лица вполне надежного, друг которого участвовал в этой поездке».
Пестель согласился с тем, что у царей и великих князей дивизии, могучий аппарат («креатуры»), что народ «кидается в ноги», но из этого отнюдь не следует, что нужно остановиться, подождать, отложить восстание на десятилетия, пока народ «прозреет». Наоборот – взять власть ударом в Петербурге, поддержанным с Юга, захватить в свои руки столь всесильное в России государство и – перехватить те «вожжи», которыми управляются дивизии и миллионные массы.
Точно так поступали и гвардейцы, свергавшие Петра III, Павла I, однако там почти не думали о благе России, не затевали коренных реформ. Здесь же народу – покорному, «спящему», – новая сильная власть осторожно, сверху поднесет свободы…
Мы часто повторяем герценовскую формулу, позже одобренную Лениным, о страшной удаленности декабристов от народа; повторяем, порою забывая, что многие лидеры декабризма эту удаленность видели, но не только не стремились ее преодолеть, а даже находили в ней положительную сторону: народ не успеет в революцию вмешаться, не сможет «усложнить» ее задачи, умножить пролитую кровь (как это было во Франции, где прямое участие масс было чревато жестоким террором 1793–1794 гг.).
Русские дворянские революционеры почти не думали, что будет потом, после того, как они поднесут «изумленным массам» великие свободы.
«– По вашим словам, – возразил (Бестужеву-Рюмину. – Н.Э.) Борисов 2-й, – для избежания кровопролития и удержания порядка народ будет вовсе устранен от участия в перевороте, что революция будет совершенно военная, что одни военные люди приведут и утвердят ее. Кто же назначит членов Временного правления? Ужели одни военные люди примут в этом участие? По какому праву, с чьего согласия и одобрения будет оно управлять десять лет целою Россиею? Что составит его силу и какие ограждения представит в том, что один из членов вашего правления, избранный воинством и поддерживаемый штыками, не похитит самовластия?
Вопросы Борисова 2-го произвели страшное действие на Бестужева-Рюмина; негодование изобразилось во всех чертах его лица.
– Как можете вы меня об этом спрашивать? – вскричал он со сверкающими глазами, – мы, которые убьем некоторым образом законного государя, потерпим ли власть похитителей? Никогда! Никогда!
– Это правда, – сказал Борисов 2-й с притворным хладнокровием и с улыбкою сомнения, – но Юлий Цезарь был убит среди Рима, пораженного его величием и славою, а над убийцами, над пламенными патриотами восторжествовал малодушный Октавий, юноша 18 лет.
Борисов хотел продолжать, но был прерван другими вопросами, сделанными Бестужеву, о предметах вовсе незначительных…»
В этом отрывке из записок декабриста Горбачевского все занимательно: и тема спора, и образ «юного Октавия», продленный из давних веков – в будущее, и, наконец, отсутствие у слушателей интереса к теме: они перебивают дискуссию «вопросами о предметах вовсе незначительных».
Ох уж эти «вовсе незначительные предметы»!..
Обо всем этом много размышлял, может быть, один Пестель, видевший в диктатуре Временного революционного правления и меч против царей, и узду для масс… Знаменательно, что он расходился с Сергеем Муравьевым-Апостолом, а также с северянами и «Соединенными славянами» даже насчет способов привлечения солдат. Оппоненты Пестеля все же считали необходимым рядовых готовить, кое-что им открывать и объяснять, с ними сближаться. Пестель же полагал, что солдаты в нужный час просто исполнят любой приказ, и раз так – не стоит им «голову морочить»: все дело в решимости офицеров!
Большинство декабристских лидеров сопротивлялось такому подходу: именно это довело Пестеля до отчаяния, даже до порыва – открыться Александру I…
Однако и те вожди, что стояли за меньшую централизацию и более демократическую революцию, не хотели опираться на «пугачевщину», видели плюсы (пусть и не столь большие, как Пестель) в народной отсталости, неведении насчет планов заговора. Не стоит в этом смысле преувеличивать расхождения между разными течениями декабризма.
Заметим, например, что Пестель, предлагая республику и десятилетнюю диктатуру, был, вероятно, дальше от революционной практики, чем Никита Муравьев, желавший после победы восстания сохранить монарха, разумеется, конституционного. Не случайно лидер северян сменил в своих планах республику на «умеренную монархию» именно после того, как 16 месяцев отбыл вместе с солдатами на долгих маневрах в Белоруссии: общаясь с ними, Муравьев отчетливо увидел, что народ еще не дорос до республиканских идей; что куда легче будет произвести революцию, в какой-то степени приноравливаясь к народным царистским иллюзиям.
Пестель левее и абстрактнее.
Никита Муравьев умереннее, но практичнее.
Это станет особенно ясным, когда дойдет до дела и окажется, что солдат почти невозможно поднять, казалось бы, понятными, им выгодными экономическими и политическими лозунгами.
«Долой крепостничество, самодержавие, рекрутчину!»: вздрогнут, но не шелохнутся.
Стоило, однако, провозгласить: «Ура, Константин!», как полки вышли из казарм.
14 декабря 1825 года в Петербурге произошло первое революционное выступление в России, которое можно отнести к «атаке снизу». Однако и на нем лежал отпечаток предшествующих веков, главных российских особенностей.
Небуржуазность – поэтому за дело взялись дворяне.
Сверхцентрализация – поэтому использовался длительный «российский опыт «революции сверху», хотя по отношению к трону мятежники были снизу.
Декабристы клялись фиктивным царским именем и хотели заменить собою самодержавие, выполнив после того его древнюю, но постепенно утраченную функцию – реформы, коренные преобразования сверху!
Петр просветил, Петр научил, как в России дела делаются, – в Петра картечь…
Мятежники могли, конечно, взять власть – вероятность была, и, полагаем, немалая. Вот тогда захваченный ими госаппарат (как в 1700-х гг. – преображенцами, семеновцами!) тут же приказал бы всей России разные свободы: конституцию (северяне настаивали на Земском соборе) и отмену крепостного права.
И что бы после того ни случилось – смуты, монархическая контрреволюция, народное непонимание, борьба партий и группировок, – многое было бы абсолютно необратимо!
Манифест об отмене крепостного права, а он был заготовлен, декабристы мигом отпечатали бы, разослали по России, и кто смог бы восстановить прежние порядки при всех последующих исторических водоворотах, приливах и отливах.
А бури загудели бы не слабее, а даже, может, и посильнее, чем в Англии, Франции. Без сомнения, через некоторое время установилась бы диктатура: если уж в более развитых странах явились Кромвель, Наполеон, то у нас явился бы Некто, еще более неограниченный…
Более подробные догадки, конечно, нецелесообразны; так же как домыслы, кто бы в конце концов пришел к власти («юный Октавий»).
Впрочем, позднейшая формула Бакунина, пытавшегося разглядеть «грядущего жениха» российской истории, вполне обратима и на дела 1825 года: Романов, Пугачев или Пестель?
Романов: подразумевалось, что диктатор, возможно, коронуется, эксплуатируя стихийный народный монархизм («Пугачев»), или возьмется за дело, прикрываясь фиктивной особой царских кровей…
Однако вполне мог бы явиться некто типа Пестеля, генерала Ермолова или «из гражданских лиц»…
В любом случае русская революция шла бы сначала – куда больше, чем на Западе, – сверху вниз, пока не встретилась бы с проснувшимися, организующимися массами…
Не сбылось.
Народ же (как показали недавние исследования М. А. Рахматуллина) повсеместно радовался, что царь (по крестьянским понятиям источник добра) 14 декабря в Петербурге побил дворян (разумеется, «носителей зла») и, стало быть, вскоре выйдет свобода, дарованная свыше!
Когда же этого не произошло и по всем церковным приходам прокричали манифест Николая I о покорности властям и помещикам, народ быстро определил, что этот царь фальшивый, «самозваный», и стал ждать, искать настоящего монарха, которого, естественно, заподозрили в Константине (после чего несколько лже-Константинов явились на сцену!).
Меж тем наступало долгое время, удлиненное общим ускорением истории в XIX веке, обилием событий, происходящих каждый год.








