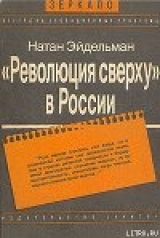
Текст книги "«Революция сверху» в России"
Автор книги: Натан Эйдельман
Жанры:
Публицистика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц)
Пётр
Россия тьмой была покрыта много лет,
Бог рек: да будет Петр – и был в России свет.
Это двустишие Белинский поставил эпиграфом к одной из своих статей.
Царь Петр, как видим, сравнен с богом. Мало того, великий критик считает, что это пример для сегодняшней и завтрашней российской истории: «Для меня Петр – моя философия, моя религия, мое откровение во всем, что касается России. Это пример для великих и малых, которые хотят что-либо сделать, быть чем-нибудь полезным» (письмо Кавелину, 22 ноября 1847 г.). И чуть позже: «Для России нужен новый Петр Великий» (письмо Анненкову, 15 февраля 1848 г.).
Белинский – революционер, и ему нравится революционер Петр. «Революционером на троне» назовет этого царя и Александр Герцен.
Мы обычно воздерживаемся от такого рода характеристик: все-таки царь, а революционеры, как нам привычно с детства, царей свергают… Правда, сегодня, в 1980-х, когда у нас происходят революционные преобразования, мы, пожалуй, «на своем витке» возвращаемся к формулам Герцена-Белинского о революции сверху и это само по себе любопытно. Дело, однако, не в словах – в делах…
При Петре, за 20–30 лет, промышленность выросла в несколько раз, а вскоре после того Россия вышла на первое место в мире по металлу; была создана крупнейшая в Европе регулярная армия, артиллерия, современный флот; пробито «окно в Европу», завязаны разнообразные дипломатические и торговые связи, приглашены сотни специалистов, построена новая столица, заложены в разных местах страны города, прорыты каналы, основаны школы, Академия наук, газета, новый календарь. Сверх того, еще множество новшеств: иная структура государства, иной быт «верхних слоев», иной внешний вид, иной язык…
Конечно, строй тот же, политическая система та же, но перемены неслыханные, революционные: нигде в мире за столь короткий срок подобного не бывало.
Впрочем, хорошо это или плохо? Приглядимся к вытекающим отсюда историческим «урокам».
Две черты российской истории, отличающие ее в течение многих (хотя и не всех) исторических столетий; о них мы уже говорили, но кратко сведем вместе.
Во-первых, относительная небуржуазность. О, эта важнейшая черта истории, экономики, политики, характера! Здесь и российская удаль, ширь, нелюбовь к мелочности, скопидомству – «раззудись, рука, размахнись, плечо!» Это – отсутствие сравнительно с Западом столь презираемого мещанства; лихость, неприхотливость…
И в то же время – бесхозяйственность, нежелание и неумение считать и рассчитывать, очень часто – героизм вместо нормальной, скучной повседневности, легкий переход от бунта к рабству; произвол, недостаток правового сознания.
Во-вторых, и отчасти следствие первого, огромная роль государства, сверхцентрализация. И прежде, начиная с Ивана III, большая в сравнении с Европой роль самодержавного аппарата была очевидной. Но Петр показал, какие огромные возможности добра и зла потенциально заложены в этой российской особенности. Настолько огромные, что даже Белинскому, даже лучшим русским историкам (представлявшим так называемую государственно-юридическую школу) казалось, будто государство – причина, остальное – следствие; и что если крестьяне – крепостные помещиков то все вместе они – крепостные государства, которое может сотворить и с мужиком, и с барином все, что пожелает.
Как народ, так и слои имущие почти не имеют каких-либо независимых от власти объединений, организаций, и поэтому в России, больше чем в какой-либо другой стране, все решает активное меньшинство; не десятки и сотни уездов, не тысячи и миллионы людей, а средоточие властей – Петербург. Решает скоро, революционно – и взрывной путь как бы становится нормой.
Это довольно очевидные петровские уроки. Заметим, что по-своему их пытались учесть и последующие русские императоры, и русские революционеры; урок, что «ударные кулаки» (выражение Ленина) должны быть сосредоточены в главных центрах – и тогда все решено…
Третий урок – люди, слой, на который опирается «революция сверху». Внимательно вчитываясь в русскую историю за несколько десятилетий до Петра, можно и там отыскать немало ярких характеров, а зачатки будущих реформ – при отце преобразователя, царе Алексее Михайловиче. Но все же, положа руку на сердце: если бы мы не знали, как бурно и необыкновенно начнутся 1700-е годы, если бы мы не знали ответа исторической задачи, вряд ли угадали бы такое обилие способных, энергичных, смелых, отчаянных, творческих людей, какие вдруг стали «птенцами гнезда Петрова».
Это российское вдруг неоднократно встречается в отечественной истории – признак внезапного, бурного взрыва, революционности. Казалось, среди медленно разогревающейся, старинной, средневековой, в сущности, Руси не найти сколько нужно способных генералов, адмиралов, инженеров, администраторов, и вдруг нашлись – способные, хищные, соответствующие своему властелину.
Приглядимся к соратникам: одни – молодые, прежде не титулованные, не знатные, иногда вообще из народа, «со стороны» (Меншиков, Шафиров, Ягужинский), отнесем к этой группе и привлеченных иностранцев, начиная с Лефорта.
Однако были и другие: «старики» вроде бы, отлично вписавшиеся в прежнюю, медленную, боярскую Русь, но оказалось – верные и нужные участники петровских преобразований. Таковы Ф. Ю. Ромодановский, Б. И. Куракин, П. А. Толстой (который примкнул к Петру, уже имея внуков), многие другие.
Непосредственные мотивы, толкавшие столь разных людей в лагерь крутых перемен, причудливы: «Стимулы, – писал Ключевский, – были школьная палка, виселица, инстинкт, привязанность к соседке-невесте, честолюбие, патриотизм, сословная честь».
Мотивы разные – социальная роль общая…
Царь и сподвижники. Не понять, кто кого породил; во всяком случае, этот слой искал своего лидера, а лидер искал его. Выходит, еще один урок российской «верхней революции»: люди всегда находятся, реформа сама их открывает и создает, а они – её…
Следующий урок относится к противникам, и прежде всего – к старинному, бюрократическому аппарату (Боярская дума, приказы, сложная система дворцовых и провинциальных государственных связей). Малочисленный, примитивный с точки зрения позднейшей государственности, этот аппарат был достаточно традиционен, скреплен практикой и обычаем; к тому же новый самодержец не собирался вводить народного правления и, стало быть, вообще не мог обойтись без «наследия опричнины»…
Борьба с подобным аппаратом, его ликвидация и замена другим – необходимая черта всякой революции, в том числе «верхней». Какие же способы известны истории для преодоления бюрократических препятствий?
1. Торжество демократии над бюрократией вследствие народного взрыва, революция снизу; но петровский случай не тот.
2. «Метод запугивания»: силы, желающие преодолеть всесилие аппарата, выбирают момент его ослабления или растерянности вследствие внешних неудач или внутренних потрясений (в этом смысле стрелецкие бунты и поражение под Нарвой явились таким же фоном преобразований, как позже Крымская или русско-японская войны).
3. Особым методом давления на бюрократию является обращение главы государства с «верхнего этажа» власти к народу, массе, которая очень часто, в разных исторических ситуациях тяготеет к царям, но не к министрам. Приведем два примера, внешне совершенно не похожих, но интересных как раз возможностью сопоставления. Один случай – отъезд Ивана Грозного из Москвы в Александровскую слободу, апелляция к «низам» как способ блокирования, изоляции тех государственных учреждений и лиц, что препятствовали усилению самовластия. Другой случай – современный: в Китае нынешние реформаторы Дэн Сяопин и другие, встретив сопротивление разросшегося партийного и государственного аппарата, среди разных контрмер использовали мнение народное: в определенную пору поощряли и постоянно перепечатывали в прессе народные листовки, дацзыбао, подчеркивали союз высшего руководства с массами против разделяющей их бюрократии. Все это, как мы знаем, дало свои плоды…
4. Способ, к которому прибег Петр. Опалы, ссылки, казни, замена одних бюрократов другими – подобные меры, хоть и ослабляли противника, но давали лишь частичный эффект. Отмена местничества в царствование старшего брата Петра, царя Федора Алексеевича, расправа со стрелецкой оппозицией также были значительными, но еще не принципиальными мерами.
Куда важнее было создание Петром параллельного аппарата. Боярская дума, старые приказы еще функционировали, когда Петр уже опирался на своих потешных – Преображенский и Семеновский полки; то был «контур» новой армии, нового аппарата!
Потом параллельный аппарат разрастается, определенным образом взаимодействуя и вытесняя прежних правителей.
Перенос столицы из Москвы в Петербург – одно из существенных звеньев этой политики. В старой столице оставались прежние, враждебные, медленные органы власти; они были там обречены на отмирание или преобразование. На новом месте было куда легче построить и расширить новую по своей структуре власть. Коллегии, сенат, синод, генерал-прокурор – все это выросло и укрепилось в Петербурге…
Знал ли Петр с самого начала – что делать? Имел ли план, теорию или действовал стихийно, на ощупь?
Мнения историков разделились. К их числу мы отнесем и такого историка-практика, как Екатерину II, вообще очень почитавшую своего предшественника, но однажды заметившую: «Он сам не знал, какие законы учредить для государства надобно».
Профессор Б. И. Сыромятников был уверен, что у Петра имелся «широкий светлый взгляд на свои задачи», существовал далеко продуманный план.
Много раньше В. О. Ключевский, не отрицая, что у царя были некоторые общие идеи насчет рывка вперед, сближения с Европой и т. п., так оценил механизм происходившего: «Петр просто делал то, что подсказывала ему минута, не затрудняя себя… отдельным планом, и все, что он делал, он как будто считал своим текущим, очередным делом, а не реформой; он и сам не заметил, как этими текущими делами он все изменил вокруг себя, и людей, и порядок».
Думаем, что Ключевский все же ближе других к истине: теории не было, ведь ничего подобного прежде не делалось, и Петр бросался то туда, то сюда, пробовал «разные инициативы», примерял то одно, то другое; между прочим, порадовался, что английский парламент откровенно говорит правду своему монарху, но ничего похожего в России не завел; на могиле кардинала Ришелье готов был «отдать» великому государственному человеку половину своего царства – лишь бы он научил, как управлять оставшейся половиной, но и французский опыт не сгодился…
Этот петровский урок сформулируем так: не следует преувеличивать умозрительных идей, сложившихся до коренного переворота; не очень как будто эффективный метод «проб и ошибок», очевидно, необходим и в определенном смысле – единственен. Когда Ключевский замечает, что «Петру досталась от Древней Руси своеобразно сложившаяся верховная власть и не менее своеобразный общественный склад», он хочет лишь сказать: Петр выбирал из того, что было под руками, как делали все государственные деятели мира, и не вина или заслуга царя, что в его распоряжении были энергичные, хищные дворяне, способный, неприхотливый и покорный народ, сильный государственный аппарат, но не было мощных, свободных городов, уверенного «третьего сословия», независимых судов…
Что же произошло?
Сначала предоставим слово самому царю-преобразователю. В 1713 году на борту спущенного корабля он обращается к «птенцам»:
«Снилось ли вам, братцы, все это тридцать лет назад? Историки говорят, что науки, родившиеся в Греции, распространились в Италии, Франции, Германии, которые были погружены в такое же невежество, в каком остаемся и мы. Теперь очередь за нами: если вы меня поддержите, быть может, мы еще доживем до того времени, когда догоним образованные страны».
В другой раз, согласно достоверному преданию (Ключевский излагает его, смягчив грубое слово), Петр сказал: «Европа нужна нам еще на несколько десятков лет, а там мы можем повернуться к ней спиной» (историк комментирует: «Прошли десятки лет, а русское общество и не думало повертываться спиной к Западной Европе»).
Но вот строки другого знатока эпохи, П. Н. Милюкова: «Политический рост государства опять опередил его экономическое развитие… Ценой разорения Россия возведена была в ранг европейской державы».
Заметим здесь «опорное» слово опять: политическое опережение – это ведь и есть революция.
Александр Иванович Герцен воскликнул: «Петр, конвент научили нас шагать семимильными шагами, шагать из первого месяца беременности в девятый». Царя-революционера сравнивает с лидерами французской революции великий революционер русский…
Споры, споры о Петре… Они никогда не кончатся, пока будет существовать Россия, – это редчайший признак всегдашней актуальности, доказательство того, что «петровская проблема» еще не исчерпана.
Можно сказать, эти споры начались сразу, в начале XVIII века: Петру возражали противники грамотные (оппозиционные бояре, духовенство, старообрядцы); а сверх того, возражал бунтами и побегами народ неграмотный. После же смерти первого императора много десятилетий о нем писалось и размышлялось преимущественно панегирически, и даже в народе распространялись легенды о необыкновенном царе, что было формой критики его преемников.
Лишь с конца столетия в дворянской литературе появились первые сомнения.
Радищев: «И я скажу, что мог бы Петр славнее быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную».
Щербатов: «Нужная, но, может быть, излишняя перемена Петром Великим».
Записав последние слова в одном из своих потаенных сочинений, умный, консервативный историк вскоре, однако, возразит сам себе: «Могу ли я… дерзнуть какие хулы на сего монарха изречи? Могу ли данные мне им просвещения, яко некоторой изменник похищенное оружие, противу давшего мне во вред ему обратить?».
Это были лишь первые «возражатели». А дальше кто только не спорил: Карамзин, декабристы, Пушкин, западники и славянофилы, Белинский, Герцен, Соловьев, Ключевский, Лев и Алексей Толстые… Как и у Щербатова, то были споры не только с оппонентами, но и с самим собою.
Пушкин пишет «Полтаву», апофеоз Петру, а через пять лет «Медного всадника», где Петр во многом иной; и Николай I не принял поэму за то, что, по его мнению, в ней выставлены отрицательные, зловещие черты…
Одним из интереснейших моментов «петровской историографии» был отказ Льва Толстого от собственного замысла – писать роман из той эпохи. Работая над литературой о Петре, посещая архив, писатель чувствовал в своем герое нечто родственное – талантливое, гениальное. В записную книжку заносятся характеристики Петра: «Любопытство страстное, в пороке преступления, в чудесах цивилизации… Деятельность, толковитость удивительная… Объяснения гениальные».
Софья Андреевна Толстая записала слова мужа: «Петр Великий был орудием своего времени, что ему самому было мучительно, но он судьбою назначен был ввести Россию в сношения с европейским миром». Позже, однако, в писателе берет верх ненависть ко всякому насилию, он пишет о Петре, как о «великом мерзавце», «благочестивейшем разбойнике, убийце, который кощунствовал над евангелием…».
Близкий Толстому П. А. Сергеенко рассказал писателю, что «Петр собственноручно казнил 70 стрельцов». И в ответ услышал: «Был осатанелый зверь…». О страшных пытках при Петре: «Каков бы ни был прогресс, теперь такое немыслимо».
За год до смерти Толстой говорил о Петре I и других деятелях, «которые убивали людей»: «Забыть про это, а не памятники ставить».
Наконец, Алексей Толстой. Сколько раз уж говорилось о разных, сильно отличающихся воззрениях на царя в раннем рассказе «День Петра» (1918 год) и позднейшем романе «Петр Первый». В рассказе царь сумрачен, страшен: «Говорят, курфюрстина Евгения опрокинулась в обморок, когда Петр громко, всем на смущение, чавкая в Берлине за ужином гусиный фарш, глянул внезапно и быстро ей в зрачки. Но еще никто никогда не видел взора его спокойным и тихим, отражающим дно души. И народ, хорошо помнивший в Москве его глаза, говорил, что Петр – антихрист, не человек… Но все же случилось не то, чего хотел гордый Петр; Россия не вошла, нарядная и сильная, на пир великих держав. А подтянутая им за волосы, окровавленная и обезумевшая от ужаса и отчаяния, предстала новым родственникам в жалком и неравном виде – рабою. И сколько бы ни гремели грозно русские пушки, повелось, что рабской и униженной была перед всем миром великая страна, раскинувшаяся от Вислы до Китайской стены».
В романе (а особенно в сделанном по роману кинофильме!) Петр куда более положительный, «благостный».
Споры, споры… Все их разнообразие, наверное, легко свести к сравнительно простой формуле: как совместить два начала в том правителе, в том царствовании, той «революции сверху». Начало прогрессивное, светлое, а рядом – темное, зверское. Говорилось о величественном здании, которое воздвиг император, и о заложенной под это здание «огромной мине» (экономическом, политическом рабстве), достаточно ли крепка постройка, чтобы не поддаться взрыву, или угроза смертельна, неотразима?
Сложные диалектические переходы добра во зло и обратно, тогда как подавляющему большинству нужен ясный, простой, «детский» ответ на вопрос: «Петр Великий – хороший или нет?» (и, конечно же, подавляющим большинством будет решено, что – хороший).
Два начала – они во всем. В экономике бурный взлет, но суровая статистика констатирует: в немногих мануфактурах, существовавших до Петра, преобладал наемный труд, «зачатки» капитализма; проходят десятилетия – число мануфактур удесятеряется, но почти все они на принудительном труде, конкуренцию с которым в этих условиях вольный найм выдержать не может.
Итак, промышленность увеличилась – капитализм замедлился. Фабриканты и заводчики становятся важными людьми, получают дворянство (например, Демидовы, Гончаровы), большинство же купцов, мещан и мечтать не смеет, скажем, о таком положении, которое их «коллега» сэр Джон Фальстаф имел в XV веке: городничий в гоголевском «Ревизоре» еще через сто лет после Петра будет купцам бороды рвать.
Капитализм, буржуазия, которые на Западе уже выходят, а кое-где решительно вышли вперед, на Руси как бы незаметны. Но притом – широчайшая торговля, решительное включение в европейскую экономическую систему, поощрение российских изделий. Рядом с принудительными, палочными, административными способами вышибания продукта и прибыли – рынок, рыночные отношения. Капитализм же, почти выброшенный из крупного производства, уходит в деревню, в мелкие промыслы к богатым крестьянам, которые нанимают рабочими бедных односельчан; притом сами сельские богатеи обычно – крепостные у помещиков, и лишь постепенно откупаясь за огромные суммы, становятся знаменитыми буржуями… Более того, из относительно свободных государственных крестьян вышло куда меньше «миллионщиков», чем из крепостных. Савва Васильевич Морозов был крепостным пастухом помещика Рюмина, потом набирал капитал извозчиком, наемным ткачом. Наконец, завел собственное дело, ворочал десятками тысяч, но лишь спустя четверть века выкупился с четырьмя сыновьями на волю за 17 тысяч рублей ассигнациями.
Страх или честь?
Два начала в экономике. То же – в политике.
Знаменитая петровская дубинка гуляет по спинам министров, губернаторов, генералов, офицеров. Российские «д'Артаньяны», вроде знаменитого Александра Румянцева, совершают на царевой службе немыслимые подвиги, но их понятия о чести очень сильно отличаются от французских. Мы не собираемся идеализировать парижских мушкетеров, но могли ль они счесть битье, порку и другие виды учиняемых над ними экзекуций делом совершенно обыкновенным? Монтескье в своем «Духе законов» (писавшемся, кстати, примерно в эту пору) находил, что «монархия» (он имел в виду абсолютизм европейского типа) держится на «чувстве чести», тогда как деспотизм – «на чувстве страха». Примером «поступка чести» французский мыслитель считал решительный отказ одного дворянина в XVI веке взять на себя должность палача. Мы можем вообразить упрямых бояр, которые и в России тоже отказались бы выполнить подобный царский приказ; однако многие опричники или петровские гвардейцы, не задумываясь, охотно занимались пыточным, палаческим делом, да ведь и сам Петр своею рукою отрубил не одну стрелецкую голову… Во всяком случае, не было твердого, ясного понятия о несовместимости подобных дел с дворянским достоинством.
Страх, а не честь – черты азиатской деспотии, наследие Ивана Грозного как будто налицо… Но исполнители, не привыкшие к европейским правилам чести, в то же время по царскому приказу и сами просвещаются. Сквозь пробитое окно глядят в Европу, а император, размахивая дубинкою, между прочим вколачивает им новые, высокие понятия – о дворянской чести, службе отечеству, благородных правилах…
Революция сверху, по природе своей, больше шла не от массы, а от правителя (Герцен заметил, что Петр был первой свободной личностью в России). Однако, отыскивая самые эффективные способы движения вперед, Петр и его преемники сделали (стихийно и сознательно) важное открытие: оказывается, один или несколько молодцов с «азиатскими правилами» способны обмануть, превзойти соответствующее число «европейцев»; однако несколько сотен или тысяч людей чести («д'Артаньянов») все же преуспеют в больших делах сильнее, чем соответствующее число деспотических исполнителей. Свобода и честь выгодны…
Дубинка и честь в политике, морали примерно так же соотносились, как палочные и рыночные дела в экономике.
Причудливое сочетание, пересечение чести и страха в разных дворянских поколениях – важнейший, интереснейший исторический феномен XVIII века.
Результатом, вероятно, довольно неожиданным для самих самодержцев (и притом важнейшим российским историческим уроком!), становится отныне роль «мыслящего меньшинства», примерно одного процента страны, приобщенного к просвещению и чести, людей, которых позже назовут интеллигенцией.
После того в русской истории будет сделана не одна попытка обойтись без подобных людей, править «непосредственно», даже прямо от престола выйти к народу, вернее – к толпе, «черни», минуя эту интеллигенцию; ведь она самим фактом своего существования выглядела чем-то ограничивающим многовековое и страшное российское самовластие.
Однако без интеллигентов дело не шло. Более того, при отсутствии или недостатке в России народной свободы, инициативы снизу, роль этого, как бы приказом созданного, слоя повышалась. Подобные люди, более редкие, уникальные на востоке Европы, чем на Западе, постепенно осознавали свое значение и, можно сказать, «смелели» от собственной исключительности. Они выполняли ту роль, которую западная интеллигенция делила с рядом других вольных групп и прослоек.
И тут настала пора сказать о народе. В драме Ильи Сельвинского «От Полтавы до Гангута» один из приближенных Петра восклицает: «За государя!», матрос, вчерашний крепостной, в ответ: «За Русь!». Красиво, эффектно и – неисторично! Для крестьянина, солдата противопоставление «государь – Русь» непонятно.
Одной из особенностей русского исторического развития (недавно глубоко проанализированной К. В. Чистовым, Н. Н. Покровским и другими учеными) является исключительная, куда более сильная, чем в большинстве стран мира, народная «царистская идеология». Мы видим ее во множестве антифеодальных бунтов и восстаний нескольких столетий!
Простолюдины многих стран надеялись на королевскую справедливость, видели в монархе управу на феодалов, сеньоров. Исключительно могучая царская власть в России, ее повышенная историческая роль в борьбе с внешней опасностью усиливали «мистический авторитет» самодержца в народных глазах. К тому же русская православная церковь была, несомненно, менее самостоятельна, чем католическая на Западе; начиная с XVI века, она все больше и больше попадала в подчинение царской власти и поэтому не была столь сильным идеологическим конкурентом правительству. Вера в бога и царя как бы сливалась в народном сознании, и если в Европе крестьянские движения постоянно выступали с религиозными лозунгами, видели выход в новой вере, новой церкви, то в России, где также пылали ереси и раскол, классическим вариантом был самозваный царь: этим фантомом быстрее и легче всего приводились в движение огромные, ожесточенные массы…
Тут отвлечемся, чтобы проанализировать одну любопытную книжку советского автора.
Размышляя о разнице между русской армией и западной, прежде всего прусской, Ф. Нестеров, автор работы «Связь времен» (М.: Мол. гвардия, 1980), с одобрением цитирует известного историка-беллетриста К. Валишевского. «Мужик хранил в душе вместе со смирением и верой, гордостью русского имени и культ своего царя. И это делало из этих крестьян грозных врагов, не умевших маневрировать, но против которых «лютый король» Фридрих II тщетно истощил все свое искусство».
Подобные размышления, не раз встречающиеся в книге, завершаются любопытным выводом:
«Эпоха военного деспотизма прошла, ушло Московское царство, миновалась Российская империя, но «неразрывно спаянное государственное единство» (слова Герцена. – Н.Э.), привычка русского народа к централизации и дисциплине, его готовность к величайшему самопожертвованию ради справедливого дела остались, эти черты укрепились и обогатились новыми. Эти силы, «закаленные в тяжкой и суровой школе», сыграли не последнюю роль в том, что Октябрьская революция победила. Роль России в мировой революции, говоря словами Ленина…предопределена «в общем пропорционально, сообразно ее национально-историческим особенностям». Знание этих особенностей необходимо для всестороннего понимания характера Великого Октября, того исторического наследия, которое восприняла наша революция».
Итак, единство народа с верховной властью, покорное исполнение, рассматривается как важнейший элемент «связи времен», и, сказать по правде, здесь можно согласиться с Ф. Нестеровым.
Действительно, роль правительства, верховного правителя на разных этапах русской истории – огромна. Так же, как роль народного смирения, беспрекословия. Да только не сумею согласиться с тем чувством радостного восхищения, которое автор испытывает, сравнивая эпохи и констатируя длительную, многовековую незащищенность народа, отсутствие у него серьезных демократических традиций. Лермонтов все это заметил еще полтора века назад, но сколь горестно!
…Страна рабов, страна господ
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ…
У Ф. Нестерова же величайшая трагедия представлена идиллической гармонией.








